выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. |
 |
| Вотте Г.Давид Ливингстон.
|
Горнунг М.Б., Олейников И.Н. Давид Ливингстон — выдающийся путешественник и гуманист XIX века
Фабричный рабочий становится врачом и миссионером
По Южной Африке на воловьей упряжке
Христианские охотники за рабами
Вождь Сечеле принимает христианство
Миссионер становится исследователем-путешественником
Первое открытие Ливингстона — озеро Нгами
Львы, слоны, буйволы, носороги...
Через неведомые земли к западному побережью
Первый европеец пересекает Африку
Мози оа тунья — «гремящий пар»
От водопада Виктория к Индийскому океану
Через шестнадцать лет — на родину
Ливингстон освобождает невольников
Охотники за невольниками на озере Ньяса
Глубокое разочарование и крушение планов
«...Как будто мне только что зачитали смертный приговор...»
Открытие озер Мверу и Бангвеоло
«Доктор Ливингстон, полагаю я?»
Погребение в Вестминстерском аббатстве
[5] — конец страницы.
Нумерация подстраничных сносок звездочками заменена сквозной буквенной.
 | Горнунг М.Б., Олейников И.Н. |
Для судеб истинно великих людей характерно, что со временем их имена не тускнеют. Наоборот, возрастает интерес к ним, и даже не столько к их делам, сколько к их жизни и индивидуальности. В 1983 году исполнилось 110 лет со дня смерти Давида Ливингстона. В наше время интерес к его личности вспыхнул с новой силой, ведь именно сейчас происходит становление независимой Африки и переоценка истории континента, с которым связана почти вся жизнь Ливингстона.
Деятельность Ливингстона в Африке скрупулезно зафиксирована им самим в трех книгах, составляющих бесценное литературное наследие путешественника. В нашей стране интерес к Ливингстону был всегда очень велик и его книги переводились на русский язык почти сразу после их выхода в Англии, а затем неоднократно переиздавались.a)
Однако сейчас у нас практически нет простой, рассчитанной на самые широкие круги читателей книги о Ливингстоне, чья жизнь — образец мужества и упорства в достижении поставленной благородной цели, пример человеколюбия и борьбы с расовой нетерпимостью и угнетением. Если не считать книги Адамовича, вышедшей [5] в 1938 году в серии «Жизнь замечательных людей» и по существу давно уже ставшей библиографической редкостью, советскому читателю негде узнать о жизни Ливингстона, кроме скупых энциклопедических статей да сведений о его биографии и личности, рассеянных в разных научных статьях и книгах, либо в предисловиях к томам его дневников.
Книга Герберта Вотте о Ливингстоне, выпущенная в Германской Демократической Республике к столетию со дня смерти путешественника и вторично выходящая на русском языке в издательстве «Мысль», заполняет этот пробел в нашей в целом обширной научно-популярной литературе о великих путешественниках. В своих оценках периода путешествий Ливингстона, то есть эпохи начала колониального раздела Африки, Вотте исходит из основных положений марксизма-ленинизма, занимая и по другим вопросам истории Африки позиции, общие для ученых социалистических стран. Стремление к популяризации изложения характерно для всего содержания книги Вотте.
Биографические сведения о жизни Ливингстона до его переезда в Африку занимают в книге относительно немного места, что вполне объяснимо. Во-первых, главное в биографии Ливингстона — это его жизнь и деятельность в Африке. Во-вторых, данные о его ранних годах жизни действительно скупы, но Вотте собрал почти все известное об этом периоде жизни Ливингстона. На немногих страничках автор сумел четко показать начало формирования твердого характера будущего смелого путешественника и исследователя.
Вся остальная часть книги основана преимущественно на собственных материалах Ливингстона, изложенных, как и в книгах самого путешественника, в хронологической последовательности, но в своеобразной литературной манере, которая типична для удачных биографических книг. В последних главах книги Вотте почти дословно использует сообщения английских газет 1874 года о похоронах останков Ливингстона в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и включает разделы об африканских спутниках Ливингстона — Суси и Чума. О них справедливо говорится очень тепло как о людях, которые совершили подвиг, перенеся прах великого путешественника из глубины Африки к океану.
Рассказывая подробно о жизни Ливингстона, Вотте вполне закономерно не ставил перед собой цель анализировать научное значение его конкретных географических открытий, в частности в связи с общей картиной состояния географической изученности Африки в XIX веке, хотя он и касается этих вопросов. Думается, все же, что это полезно сделать хотя бы кратко в настоящем предисловии, чтобы подчеркнуть значение Ливингстона в мировой [6] науке как исследователя, а не просто путешественника, тем более что в истории исследования Африки середину и начало второй половины XIX века обычно называют «ливингстоновским периодом» изучения Африки.
К этому времени на севере Африки подлинно «белым пятном» на карте оставались лишь внутренние, очень слабо заселенные районы величайшей пустыни мира — Сахары. На западе же материка уже была решена важнейшая географическая проблема региона — определено течение реки Нигер на всем огромном протяжении. Однако к югу от экватора большая часть Африки оставалась «белым пятном» на карте континента. Загадкой были для науки истоки Нила, конфигурация великих озер Восточной Африки, верхнее течение реки Конго, гидрографическая сеть бассейна Замбези и многие другие проблемы географии этой части Африки, которые вызывали тогда жаркие дискуссии среди европейских ученых.
«Ливингстоновский период» истории исследования Африки, охвативший примерно три десятилетия, в научном отношении характерен тем, что почти все неясные вопросы, ответы на которые послужили основой при составлении современной карты Центральной Африки к югу от экватора, были разрешены именно тогда. Произошло это благодаря путешествиям самого Ливингстона или исследованиям, так или иначе связанным с научной деятельностью Ливингстона, с его открытиями или же с высказанными им географическими догадками.
В ходе своих путешествий Ливингстон не только «расшифровал» сложный рисунок гидрографической сети «белого пятна» в центре и на юге Африки, но и впервые сообщил миру множество подробностей о природе этой территории. Уже после первого большого путешествия, охватившего бассейн Замбези, он сделал важнейший для науки вывод о том, что внутренняя Африка не система мифических нагорий, как долгое время предполагалось, а огромное плато с приподнятыми краями, круто падающими к побережью океана. Впервые была нанесена на карту река Замбези с указанием мест впадения в нее крупнейших притоков. Были установлены очертания озера Ньяса, о котором европейцы имели лишь смутные представления. На Замбези был открыт один из крупнейших водопадов мира.
Ливингстону принадлежит определение основного направления водораздела между бассейнами рек Конго и Замбези, то есть водораздела между стоком в Атлантический и Индийский океаны. По существу ему же принадлежит и открытие верховьев реки Конго, что было окончательно подтверждено всего несколько лет спустя [7] после смерти Ливингстона. Велик вклад путешественника и в окончательное решение проблемы истоков Нила, интересовавшей географов с античного времени.
Нельзя не упомянуть, что Ливингстон в своих маршрутах сделал множество определений долготы и широты, установил высоту местности над уровнем моря в тысячах пунктов. Во многом ценными и до наших дней остаются этнографические наблюдения, которым он постоянно уделял внимание в путешествиях. Общий итог исследовательской деятельности Ливингстона — это открытие для мировой науки огромных пространств внутренней Африки от Калахари до южной и восточной окраин бассейна Конго на юге и до великих озер Восточной Африки на севере. Ни один другой исследователь Африки не сделал столько для познания этого континента, сколько сделал Давид Ливингстон.
Значение и масштаб географических открытий Ливингстона позволяют справедливо считать его крупнейшим исследователем Африки. Но так же справедливо рассматривать Ливингстона и как выдающегося гуманиста своего времени. Несомненно, что успехам его способствовали не только такие личные качества, как мужество, воля, целеустремленность, но и гуманное и доброжелательное отношение к коренному населению Африки. В условиях господства расистских взглядов на африканцев как на низшие существа Давид Ливингстон смело заявлял всему миру, что он не верит ни в умственную, ни в нравственную, ни в какую-либо иную «отсталость» африканцев. «Африканец — это человек в полном смысле слова», — писал Ливингстон и всегда на деле вел себя как искренний друг всех народов Африки. И африканцы верили Ливингстону, неизменно помогали ему, проявляя уважение, а нередко и искреннюю любовь. Молва о «белом докторе» — друге африканцев шла впереди караванов Ливингстона, открывая ему путь туда, где к европейцам относились с вполне объяснимой настороженностью или даже явной недоброжелательностью.
Путешествия Ливингстона происходили всего за два-три десятилетия до начала полного колониального раздела Африки и в обстановке все еще не прекращавшейся в Южной и Восточной Африке охоты за «черными рабами». Маршруты главных путешествий Ливингстона проходили по районам, давно уже охваченным работорговлей, которую особенно долго поддерживали на африканском побережье португальские, голландские и другие колонизаторы. Работорговля продолжалась здесь и после всех ее официальных запретов, став трагедией свободных народов малави и ваяо, макаранга и лунда и многих других. Работорговля была не только несчастьем ее жертв. Она нравственно разлагала всех втянутых [8] в нее. А наемные отряды арабов, снабжавшие рабами и белых работорговцев, и феодальных князьков на Аравийском полуострове, не гнушались ни подкупом африканских вождей и старейшин, ни прямым разбоем. Они часто умело разжигали любую племенную рознь, чтобы затем облегчить себе захват новых партий рабов.
В XIX веке в европейских странах и в США громко звучал голос гуманистов, выступавших против рабства. Активные борцы против работорговли, к которым принадлежал и Давид Ливингстон, были и в самом деле искренними гуманистами. Но, как писал известный советский африканист И. И. Потехин, «для капиталистических дельцов гуманизм был лишь прикрытием эгоистических, корыстных интересов; для них поход против рабства являлся лишь формой перехода к более эффективным средствам эксплуатации отсталых народов Африки. Захватить африканские территории и поставить себе на службу африканские народы — такую ставили они перед собой новую задачу. Но для этого европейские державы должны были знать, где, что и как выгоднее всего предпринять. Надо было исследовать внутренние районы Африки».b) Именно поэтому активизация европейских географических исследований и вообще проникновение в глубинные районы Африки в этот период были часто связаны с проблемами работорговли и борьбы с ней, с чем все время приходится сталкиваться, читая книги Ливингстона или о нем.
Жизнь Ливингстона-гуманиста по существу оказалась большой человеческой трагедией, что им самим не могло быть понято и стало очевидным лишь спустя много времени после его кончины. Ливингстон был одним из самых выдающихся и последовательных борцов против рабства, но был искренне убежден в том, что политика его страны, запретившей работорговлю, действительно несет свободу и лучшую жизнь африканским народам. Начавшаяся в больших масштабах английская колонизация в Африке представлялась Ливингстону прогрессом по сравнению с работорговлей, и он не мог уяснить, что укрепление английского господства на части Африки означало на деле превращение здесь африканцев в колониальных рабов британского империализма.
В этот период стремление к максимальной эксплуатации природных и людских ресурсов Черного континента уже занимало особое место в развитии капитализма в крупнейших странах Западной Европы. Осуществляя планы полного колониального [9] захвата Африки, европейские державы в качестве предлога для усиленного проникновения на этот континент широко использовали борьбу с рабством и работорговлей. Массовая утечка рабочей силы из Африки, происходившая в XVIII веке из-за вывоза рабов в Америку и другие страны, не отвечала нуждам бурно развивавшегося европейского капитализма и не соответствовала новым задачам колонизации, ставившей теперь своей целью превратить колонии в сырьевые придатки метрополий и дополнительные рынки сбыта дешевых товаров.
Родина Ливингстона — Великобритания долгое время была одним из крупнейших государств-работорговцев. Лишь в 1807 году работорговля была официально запрещена в английских владениях, а вскоре она была законодательно запрещена и большинством европейских государств. Тем не менее контрабандный вывоз рабов из Африки продолжался еще многие десятилетия, и в не меньших масштабах, чем «законная» продажа рабов в прошлом. Охота за людьми поэтому и в середине XIX века все еще опустошала многие районы внутренней Африки, о чем ярко говорят страницы путевых записей Ливингстона.
Всюду и всегда Ливингстон как мог боролся с работорговлей, в ней он видел главное зло в исторических судьбах Африки. Но он наивно полагал, что английская колонизация гуманна и более полезна африканцам, чем колонизация Африки другими государствами. Конечно, пониманию Ливингстона в его время не была доступна сама природа капитализма, только еще вступавшего в свою империалистическую стадию. Однако вряд ли можно согласиться с тем, что «искренний противник рабства, он всю свою жизнь отдал подготовке колониального порабощения африканских народов империализмом», как писал о Ливингстоне И. И. Потехин.c) Примерно так же звучат некоторые слова о Ливингстоне и у Вотте, хотя в то же время оба этих автора относятся к путешественнику с безграничным уважением.
Несмотря на то что Ливингстон действительно не мог правильно оценить природу любой европейской колонизации, он сумел все же подняться намного выше не только миссионеров, но и большинства своих современников. Религиозный по воспитанию и убеждениям, он уже после первых лет миссионерской работы понял, как мало интересует африканцев и как мало им нужно «слово божье». Поэтому он очень скоро сосредоточил свою деятельность на врачебной помощи африканскому населению, обучении африканцев [10] грамоте, улучшении их методов ведения сельского хозяйства и т. п. Ливингстон с большим уважением относился к обычаям и культуре африканцев, и, убедившись в практической бесполезности проповеди христианских догм, он никогда не навязывал африканцам европейского образа жизни и нравов.
Естественно, что Ливингстон не мог предугадать последствий тех географических открытий, в которых он сыграл столь важную роль в Африке. Но все же неверно механически включать таких людей, как Давид Ливингстон, в известную цепочку: миссионер — торговец — солдат-колонизатор. Еще в 1968 году в предисловии к русскому изданию книги Ливингстона «Последнее путешествие в Центральную Африку» мы твердо высказались против таких упрощений и неверных утверждений — что и Ливингстон тоже вольно или невольно проложил дорогу колонизаторам и тем самым чуть ли не лично способствовал империалистическому разделу Африки. Открытия исследователя-географа, так же как физика или химика, писали мы, могут быть использованы и на благо и во вред человеку. А в последнем случае вины ученого будет не больше, чем, например, Фарадея в том, что в Америке использовали электричество для создания орудия казни — электрического стула.
Уважение к коренным африканцам — важнейшая особенность личности Давида Ливингстона. Это хорошо подчеркивает такой, казалось бы, незначительный факт: Ливингстон в отличие от большинства европейских путешественников, своих современников, сохранил все местные названия встреченных им географических объектов, впервые попавших благодаря ему на географическую карту. Исключением был грандиозный водопад на Замбези, названный им Викторией.
Но именно здесь и поныне особенно чтут африканцы память их друга — великого путешественника. В то время как в нынешней Замбии, как и в других молодых независимых государствах Африки, уничтожались памятники, поставленные колонизаторами колонизаторам, здесь, на берегу Замбези, открыт мемориальный музей Ливингстона. Его имя носит и известный во всем мире этнографический институт в столице Замбии — Лусаке. Немало африканцев и людей разных стран сегодня специально сворачивают со своего пути, чтобы посетить скромную, но не забытую могилу в Читамбо, где покоится сердце знаменитого путешественника.
Книга Вотте в русском переводе выходит с небольшими сокращениями. Они касаются преимущественно частных эпизодов путешествий, описанных иногда с обилием мелких деталей, повторяющих уже упомянутые ранее перипетии, характеристики и [11] т. п. В ходе редактирования текста приведены к современным нормам и единообразию некоторые географические названия, этнографическая номенклатура.
Несколько примечаний, помещенных нами в конце книги, в основном комментируют вопросы истории исследования посещенных Ливингстоном районов Африки, дополняя сведения книги некоторыми данными географического характера. Читателю, который захочет подробнее ознакомиться с путешествиями Ливингстона и вообще с «ливингстоновским периодом» изучения Африки, можно рекомендовать указанные выше русские переводы книг Ливингстона и выпущенную издательством «Мысль» в 1973 году нашу книгу «История открытия и исследования Африки». О распространении в России знаний о Южной Африке, и в частности о путешествиях Ливингстона, много интересного можно почерпнуть из книги А. Б. Дэвидсона и В. А. Макрушина «Облик далекой страны», вышедшей в издательстве «Наука» в 1975 году.
 | Фабричный рабочий становится врачом и миссионеромУпрямый шотландец |
Недолго теперь оставалось обслуживать прядильную машину. Худощавый, болезненный на вид юноша работает уже восемь лет на блантайрской хлопчатобумажной фабрике компании Монтейт, но лишь в восемнадцать лет был допущен к самостоятельной работе — «нелегкому труду прядильщика», как позже он писал об этом. Блантайр — большой фабричный поселок в Шотландии, южнее Глазго.
Надсмотрщик отнюдь не благосклонен к нему. Во время обхода он останавливается за спиной молодого Ливингстона и какое-то время внимательно наблюдает за ним. На машине юноши всегда лежит книга — он умудряется схватить там какую-то мысль. Гул и грохот вокруг не мешают ему. Прядильные машины того времени были далеки от совершенства, и от рабочего требовалось постоянное внимание и ловкость. Самая длинная пауза, которой мог во время работы воспользоваться для чтения Давид Ливингстон, не превышала одной минуты. Надсмотрщику был не по душе этот хрупкий парень, пристрастившийся к чтению и учебе. Но как только пауза кончилась, парень уже наготове — в нерадивости его не упрекнешь! Это также бесило надзирателя, ему не терпелось сорвать злость на этом упрямце — пусть знает свое место! Но тот не давал подходящего повода. Да и правление фирмы «Монтейт» не возражало против такого рода «глупостей» — оно даже содержало фабричную вечернюю школу для своих рабочих, которые, если хотели, могли учить латынь и читать в оригинале Корнелия Непота или Цезаря. Это как-то отвлекало их от тяжелых дум о невзгодах жизни и социальной несправедливости. На машине молодого Ливингстона не было ведь крамольных книг — это давно уже установлено надзирателем. Продолжая обход, он тешил себя: представится еще случай, чтобы проучить этого упрямца...
Давид Ливингстон родился в Блантайре 19 марта 1813 года, ставшего переломным в судьбах Европы. [13] В октябре победа союзных держав — Австрии, России и Пруссии в Лейпцигском сражении обеспечила господство Великобритании во всем мире на целое столетие. Континентальная блокада Наполеона, которой он хотел задушить английскую промышленность и торговлю, не достигла цели. Островная империя нашла выход: она создала крупный морской флот и завладела заморским рынком. Втянув европейские континентальные страны в длительные кровавые и дорогостоящие войны, Наполеон сам помог своему смертельному врагу сплотить вокруг себя великие державы Европы.
Рост могущества Великобритании никак не сказывался на положении семьи Ливингстонов. Богатства, идущие в страну, попадали в руки господ Монтейтов и им подобных. Ливингстоны же принадлежали к тем миллионам обездоленных, которые создавали несметные ценности фабрикантов и купцов своим тяжким трудом или кровью на поле брани. Во время войны с Францией все братья Нейла Ливингстона, отца Давида, несли тяготы солдатской или матросской службы. Один из них, по принуждению попавший на флот, как писал в 1880 году Блэйки, биограф Давида Ливингстона, погиб в бою в Средиземном море. В родном Блантайре остался лишь Нейл. Он женился.и занялся торговлей чаем. Давид был вторым его сыном, остальные дети были моложе.
Трудно приходилось родителям, и, будучи еще ребенком, Давид, как и его старший брат, помогал семье. Недолго он ходил в поселковую школу. Вскоре родители устроили его на фабрику, где он связывал обрывки нитей. Так в десять лет он оставил школу и стал фабричным рабочим. В 20-х годах прошлого столетия не было еще законов, запрещавших детский труд. Между тем Ливингстон никогда не жаловался на тяжелое детство.
Строгое религиозное воспитание, видимо, в самом зародыше должно было уничтожить в нем чувство протеста против царящей социальной несправедливости. По свидетельству Блэйки, Давид, однако, замечал, как постепенно растет пропасть между богатыми и бедными. Уже тогда то и дело вспыхивали стачки — так протестовал растущий пролетариат этой промышленной державы. Но христианская религия, проповедовавшая смирение, внушала Давиду, что надо принять этот раз и навсегда установленный богом социальный порядок. И все же в нем зрела решимость вырваться из бесперспективной, опустошающей душу фабричной жизни. С детства он пристрастился к учебе, а нескончаемо монотонный труд на прядильной машине с каждым днем усиливал в нем эту страсть.
В шесть утра Давид уже на фабрике, работа продолжается до [14] восьми вечера с перерывами на завтрак и обед. «Когда же тут заниматься?» — спрашивали его с удивлением. Из двадцати четырех часов на все другое оставалось лишь десять. С восьми до десяти вечера юноша сидел в вечерней школе — фирма держала своего учителя. Это был приветливый, скромный человек, без ропота довольствовавшийся смехотворно низкой платой.
Из первого недельного заработка Давид выкроил немного на покупку книги, но не сборника сказок или приключенческих рассказов, как можно было ожидать, а учебника под названием «Начальный курс латинского языка». При его усердии не требовалось много времени на учебу, и вскоре простой фабричный рабочий из бедной семьи, трудовой день которого длился четырнадцать часов, мог потягаться знаниями с любым гимназистом своего возраста...
«Так мне удалось прочитать труды многих представителей классической древности, в шестнадцать лет я знал Вергилия и Горация лучше, чем ныне, — писал он много лет спустя во введении к первым путевым очеркам. — Придя домой, я долго еще продолжал рыться в словаре и других учебных пособиях вечерней школы и так занимался до полуночи, а то и далеко за полночь, и тогда мать вскакивала с постели и вырывала у меня книгу». А на следующее утро в шесть часов Давид снова на фабрике.
Теперь трудно себе представить, какую силу воли и самодисциплину надо было иметь мальчику, чтобы выдержать такое напряжение.
Но юный Ливингстон штудировал не только грамматику латинского языка и словари. «Я проглатывал книги, которые попадались мне тогда под руку. Исключение составляли лишь романы. Чтение научных трудов и путевых очерков было любимым моим занятием», — писал Ливингстон.
Видя такую тягу к знаниям у своего второго сына, отец, казалось бы, должен был радоваться, однако Нейл Ливингстон, очень набожный человек, воспринял все иначе. Он был учителем в воскресной школе и охотно распространял нравоучительные сочинения, которые получал от религиозного общества. Поэтому торговля чаем — основное его занятие — пришла в упадок.
Отцу очень нравилось, когда дети читали воскресные религиозные проповеди, которые он для них припасал. Но неодобрительно смотрел он, когда Давид охотнее просиживал над естественнонаучными книгами. Как полагал отец, они лишь отравляют душу мальчика. Нейл Ливингстон не без оснований считал науку опасным врагом религии. Снова и снова отец подсовывал сыну книжонки религиозно-нравственного содержания. Но пустые, абстрактные рассуждения и нравственные наставления были не по душе [15] молодому человеку. Раздраженный отец хватался за палку, чтобы «переубедить» строптивого сына, но это приводило к противоположным результатам.
Однако у юноши вызывала отвращение не сама религия, а лишь религиозные книги. Всю жизнь он оставался верующим христианином. В отношении религии он скорее придерживался библейских советов: «Приемли ее для блага твоего!» Истинное христианство он усматривал в проявлении любви к людям.
Первая книга о природе, попавшая в руки Давида, — старинное описание лечебных трав. Ему захотелось отыскать в окружающей природе те травы, о которых в ней говорилось; рисунки в книге облегчали задачу. И хотя он был очень занят, все же ему удавалось урывать время, чтобы побродить в окрестностях Блантайра, поискать описанные в книге растения. Особенно манили его лесные возвышенности на юге поселка и берега Клайда. Он часто бродил там в сопровождении своих братьев.
Однажды Давид обнаружил морскую ракушку в каменной породе. Рабочие карьера не смогли объяснить этого чуда природы. Давид набил карманы ракушечником для коллекции.
Его интересовали также животные окрестных лесов, рыбы в Клайде и здешних прудах. И разумеется, он не был бы настоящим юношей, если б в нем не теплилась страсть к охоте: в каждом молодом сердце глубоко дремлет и с возрастом просыпается это наследие далеких предков. Давид ловит форель в ручьях и полагает, что там есть и лососевые. Однажды он забыл прихватить с собой сумку, в которую обычно складывал улов. И как на грех, в этот день Давид поймал рыбину внушительных размеров. Он прекрасно знал, что охота и рыбная ловля регулируются законом, — возвращаясь домой, Чарлз, его брат, спрятал добычу в штанину брюк; прихрамывая, как бы от боли, он брел через всю деревню с «сильно вздутой ногой». Каким бы строгим ни было воспитание в семье, братья Ливингстоны отнюдь не были тихонями.
Давид любил природу, стремился проникнуть в ее тайны; но страсть к науке не вязалась с мрачной перспективой провести всю жизнь у прядильной машины. Видимо, он рано почувствовал желание вырваться из стен фабрики, иначе трудно было бы понять его фанатическое рвение к учебе. Но едва ли удастся установить, когда такое смутное желание переросло в настойчивое стремление. Он работал на фабрике уже несколько лет, когда ему однажды попало в руки воззвание к английской и американской церкви евангелистского миссионера Гютцлава, направленное из Китая.
Для двадцатилетнего Ливингстона воззвание Гютцлава стало вехой в его жизни. Он решает следовать во всем Гютцлаву и отправиться [16] миссионером в Китай. В семье одобряют это решение, отец счастлив. Обучение миссионерскому делу к тому же не чрезмерно дорого и доступно для семьи. В Англии имелось немало миссионерских обществ, которые охотно помогали несостоятельным молодым людям.
Но Давид не был намерен довольствоваться лишь ролью миссионера. Прообразом для него был Гютцлав, который оказывал людям медицинскую помощь и тем самым способствовал успеху миссионерской деятельности. Обучиться врачебному делу, конечно, сложнее, чем стать миссионером. Изучение медицины — длительное и дорогостоящее дело, к тому же надо платить за питание. Как выйти из положения ему, молодому рабочему, которому приходится четырнадцать часов в сутки простаивать у машины. Есть лишь одна возможность: любыми способами копить деньги. Отдавая матери заработок, он понемногу откладывает. Хотя прядильщики зарабатывали сравнительно неплохо, однако приходилось отказывать себе в том, без чего почти немыслимо обойтись не только в наши дни, но и тогда. Молодой Ливингстон изредка мог позволить себе купить ту или иную научную книгу. Другие расходы исключались.
Зимой 1836/37 года Давид поступает на медико-хирургический факультет и направляется с отцом из Блантайра в Глазго, чтобы подыскать комнату для жилья; в кармане у него лежал перечень адресов, который передал ему один из друзей. Целый день пришлось бродить по заснеженным улицам университетского городка: комнаты оказались не по карману. Но после долгих мытарств удалось все же найти комнатушку за два шиллинга в неделю.
В первый зимний семестр Давид слушал лекции главным образом по медицине, кроме того, небольшой курс древнегреческого языка и теологии. Здесь он познакомился с одним студентом, готовившимся стать ассистентом профессора химии. В комнате, где проживал будущий ассистент, стоял верстак, а рядом ручной токарный станок, вокруг лежали всевозможные инструменты — вначале предстояло овладеть ремеслами. В свободное время у него собирались студенты, среди них бывал и Ливингстон. Он хорошо понимал, что одинокому, бог весть куда заброшенному миссионеру надо быть мастером на все руки («a Jack of all trades»), если он хочет иметь успех у населения.
Выходные дни Давид обычно проводил в родительском доме. В субботний вечер у пылающего камина собиралась вся семья, студент рассказывал о пережитом за прошедшую неделю. При всей строгости утвердившихся принципов семейная жизнь Ливингстонов протекала довольно счастливо. Давид относился к отцу [17] с большим уважением. Несмотря на глубокое благочестие, Нейл Ливингстон живо интересовался тем, что в науке именуется «мировым прогрессом», охотно читал описания путешествий, особенно записки миссионеров. Душой семьи, видимо, была мать, маленькая, хрупкая женщина с поразительно красивыми глазами, которые вместе с другими ее достоинствами — веселым, жизнерадостным характером, добросовестностью, духовной чистотой и верностью долгу — унаследовал ее второй сын.
После первого курса, в апреле 1837 года; в родной поселок вернулся теперь уже двадцатичетырехлетний юноша и снова приступил к той же работе на прядильной фабрике: нужны были деньги для дальнейшей учебы. Однако ему все же не удалось накопить денег для второго учебного года в Глазго, и он вынужден был немного занять у старшего брата. Друзья сочувственно отнеслись к его стремлениям и посоветовали обратиться в Лондонское миссионерское общество с просьбой о помощи. Но как ни трудно было, Ливингстон медлит: он привык самостоятельно пробивать себе путь в жизни, не хотел быть зависимым. Только когда он убедился, что общество не придерживается слепо церковных догм, он решился, да и то «не без опасений», установить с ним связь. Миссионерское общество почти не оказывало ему помощи во время учебы, и много лет спустя он писал со справедливой гордостью: «Я и гроша ни от кого не получил, чтобы осуществить свое намерение отправиться в Китай для миссионерской и врачебной деятельности. Лишь мои старания и мои скудные средства открывали мне эту возможность». Эта непреклонная воля и стремление к независимости и самостоятельности постоянно проявлялись в нем и во время миссионерской деятельности. И умер он в одиночестве в глубине Африканского материка.
Миссионерское общество пригласило его в столицу для первого знакомства. В то же время сюда направлялся еще один соискатель, по имени Мур. Они повстречались на постоялом дворе, познакомились и затем вместе бродили и любовались достопримечательностями столицы. Выдержав экзамен, они посетили Вестминстерское аббатство, старались все осмотреть, ходили от гробницы к гробнице и благоговейно вчитывались в имена выдающихся англичан, похороненных в Вестминстере. Им и в голову не могло прийти, что один из них когда-то найдет здесь вечный покой.
С другими будущими миссионерами они познакомились во время пребывания у пастора в Онгаре, в графстве Эссекс, где проходили трехмесячное испытание.
С Муром они жили вместе, и между ними завязалась дружба, связывавшая их до конца жизни. У Мура, который затем в качестве [18] миссионера отправился на Таити, привязанность к Ливингстону росла с каждым днем. «Несмотря на некоторую неуклюжесть Давида и едва ли располагающий вид, в нем, однако, была какая-то невыразимая привлекательность, которая пленяла, пожалуй, каждого. В Африке он располагал к себе всех, кто с ним встречался». И это не преувеличение. Многие подтверждают сказанное. «К каждому он проявлял доброту и сердечность, оказывал всяческую помощь и поэтому пользовался всеобщей любовью. У него всегда находилось доброе слово, а если человек испытывал какое-то страдание, он принимал в его судьбе самое живейшее участие... Суровость и неуклюжий вид не гармонировали с простыми и всегда дружелюбными советами Ливингстона», — вспоминал еще один миссионер, пребывавший некоторое время с ним в Онгаре. На африканцев личные качества Ливингстона производили самое хорошее впечатление. Простота, спокойствие и терпение, чувство такта помогали не раз Ливингстону в Африке избежать, казалось бы, неминуемой опасности.
Люди, знавшие его, отмечают еще одну важную черту: он всегда твердо отстаивал свое мнение, если считал его правильным, и упорно стремился к поставленной цели. Эпизод, рассказанный Муром, свидетельствует о большой выдержке, которая потом, в Африке, помогала Ливингстону вынести тяжелые испытания.
Туманным ноябрьским утром, в три часа, он покинул Онгар и пешком отправился в Лондон, чтобы помочь старшему брату, торговавшему кружевами, кое-что уладить. Весь день в Лондоне Давид провел в заботах и визитах. Вместо того чтобы где-нибудь передохнуть, он сразу же отправился в далекий путь домой. Выйдя за город, юноша увидел на дороге женщину, лежащую без сознания. Она стала жертвой несчастного случая. Около нее стояла ручная тележка, которую она, видимо, тащила. Убедившись, что нет переломов, Давид доставил ее в ближайший дом и ждал там, пока не прибыл врач. Лишь после этого он продолжил свой путь.
К тому времени уже стемнело, его одолевала смертельная усталость, а ноги были стерты до крови. Тут он вдруг заметил, что заблудился. Лучше всего было бы прилечь и выспаться как следует, но усилием воли он заставил себя идти. Взобравшись на столб, Давид при свете звезд сумел разобрать надпись на дорожном указателе и разыскать нужный путь. «Около полуночи в ту же субботу он прибыл в Онгар, бледный и до того уставший, что едва мог выдавить из себя слово, — рассказывает Мур. — Я поставил перед ним молоко и положил хлеб и, не преувеличиваю, как ребенка, уложил в кровать. Он тут же впал в глубокий сон и проснулся лишь во второй половине следующего дня». [19]
Но все его многолетние старания и безмерная бережливость едва не оказались напрасными. Будущие миссионеры время от времени вели богослужение как в Онгаре, так и в ближайших церковных приходах. Подошел день, когда и Ливингстону предстояло отслужить молебен вместо неожиданно заболевшего священника. Он тщательно подготовился, взошел на амвон, спокойно прочел евангельский текст. Затем прочитанное надо было дополнить проповедью, но из этого ничего не вышло... Последовала долгая, томительная пауза. Тщетно ищет он первые слова, напрягаясь до предела. Наконец выдавливает: «Друзья мои! У меня вылетело из головы все, что я хотел вам сказать!» Поспешно сходит он с возвышения и покидает церковь.
Богослужение его в приходской церкви в Онгаре также прошло не совсем удачно — говорил с трудом, то и дело запинался. Заключение пастора, который изучал кандидатов, было неблагоприятным: Ливингстон не станет хорошим проповедником. Миссионерское общество намеревалось уже вынести свое отрицательное решение, но при обсуждении его кандидатуры кто-то предложил продлить испытательный срок, и этот единственный голос решил его будущее. Предложение было принято, и по истечении дополнительного срока ему дается уже благоприятное заключение: он может стать миссионером.
Итак, Ливингстон по примеру Гютцлава избирает для своей миссионерской деятельности Китай. Но поехать туда ему помешала развязанная в 1839 году Англией так называемая опиумная война.
Лондонское миссионерское общество намеревалось послать Ливингстона в Вест-Индию, но он не согласился: в Вест-Индии имелись достаточно подготовленные врачи и он едва ли принес бы пользу там со своими слабыми знаниями. Поэтому он просил позволить ему сначала завершить учение. В глубине души он все еще надеялся на поездку в Китай, но готов был ехать и в другое место и даже присматривался уже к Африке.
Миссионерское общество уступило его желанию, и он смог продолжить учение в Лондоне. В больнице Чаринг-Кросс он освоился с врачебным делом и уходом за больными, а в одной из аптек научился изготовлять необходимые лекарства.
Проживая в пансионате вместе с такими же будущими миссионерами, Ливингстон познакомился с неким Моффатом, человеком намного старше его, долгие годы занимавшимся миссионерской деятельностью в Южной Африке; в Англию Моффат прибыл лишь на короткое время. Молодому Ливингстону понравился этот опытный миссионер. Он всячески тянулся к нему, посещал его открытые [20] доклады, не упускал случая порасспросить о деятельности на юге Африки и наконец осмелился узнать его мнение о самом главном — будет ли он, Ливингстон, чем-либо полезен в Африке. Моффат ответил утвердительно и добавил: «Желательно, чтобы свою деятельность вы начали на неосвоенном месте, где еще не бывал ни один миссионер, скажем, севернее моего Курумана. Там простирается обширная равнина, где мне не раз приходилось видеть ранним утром дым бесчисленных костров. Туда не заглядывал еще ни один миссионер».
После краткого раздумья Ливингстон пришел к выводу: «Какая необходимость ждать конца этой мерзкой опиумной войны? Я отправляюсь в Африку».
При его характере это означало твердое решение, которое он сразу же в виде просьбы передал в миссионерское общество. Прошение, видимо, было поддержано Моффатом, так как правление общества без задержки дало свое согласие.
Встреча с Моффатом сыграла в жизни Ливингстона двоякую роль. Она окончательно определила направление его дальнейшей деятельности. А кроме того, это была встреча с будущим тестем, чего он, конечно, тогда не мог знать.
Для получения профессионального звания доктора Ливингстон отправляется в Глазго. Там он вскоре получает свидетельство об окончании медико-хирургического факультета и, преисполненный радости и гордости, входит в «круг людей, которые посвятили себя нужной и гуманной профессии». 20 ноября 1840 года в торжественной обстановке в одной из лондонских церквей ему присваивается звание миссионера. Теперь уже окончательно определились его призвание и весь жизненный путь.
Ему остаются лишь сутки, чтобы проститься с родителями, братьями и сестрами. 8 декабря 1840 года Ливингстон поднялся в Ливерпуле на борт судна, которому предстояло доставить его в Капскую колонию.
Проявив живой интерес к навигации и астрономии, он сумел расположить к себе капитана Доналдсона, который зачастую до полуночи не уходил спать, наблюдая за звездами вместе со своим любознательным пассажиром. Он охотно показывал Ливингстону, как пользоваться квадрантом. Так не без пользы для себя провел Ливингстон три месяца на корабле. Он научился определять географическое положение места по звездам. И хотя едва ли он задумывался о предстоящих путешествиях и исследованиях, направляясь по совету Моффата в неведомые земли, однако именно [21] там ему и пригодились приобретенные на корабле знания, которых так недоставало у других исследователей Африки.
В Кейптаунеd)1) судно простояло целый месяц. Здесь Ливингстон впервые свел знакомство со своими братьями во Христе и пережил глубокое разочарование в миссионерской службе. Он ожидал встретить когорту единомышленников, которые живут по-братски, в мире и согласии и служат богу и людям. Однако эти люди не только различались по вероисповеданию; они погрязли в мелкой зависти и интригах. Характер и образ жизни многих отнюдь не согласовывались с их саном, В отношении местного населения у них утвердились два прямо противоположных мнения: одни поддерживали европейских поселенцев, враждебно настроенных к африканцам, другие, наоборот, — африканцев. Ливингстон сразу встал на сторону тех, кто выступал в защиту местных жителей, против повсеместного произвола и несправедливости белых поселенцев.
Из Кейптауна плыли вдоль берегов Южной Африки на восток, к заливу Алгоа. В Порт-Элизабете Ливингстон сошел на берег и после короткой остановки отправился в путь в фургоне, запряженном волами, как испокон веков ездили европейские крестьяне.
Ближайшей его целью был Куруман — миссионерская станция Моффата. По прямой туда примерно восемьсот километров на север от Порт-Элизабета. Во времена Ливингстона это уже не «ничейная земля», а колониальные владения: двигаясь от мыса Доброй Надежды на север и восток, европейские поселенцы за два столетия захватили эти земли. Ту ненависть, с которой встречали Ливингстона буры, голландские поселенцы, можно понять, только ознакомившись хотя бы в общих чертах с тем, что происходило на этих землях.
Задолго до прихода первых европейцев Южная Африка была заселена готтентотами и бушменами. Они считаются там наиболее древними жителями. Начиная с X века племена банту преодолели реку Замбези и продвинулись на юг, они вытеснили или ассимилировали коренных жителей восточной части Южной Африки.
Когда в XVII столетии на Капской земле утвердились европейцы, на юго-востоке Южной Африки, как и в тропической Восточной [22] Африке, обитали племена банту. Все юго-восточное побережье, вплоть до Драконовых гор, принадлежало бантуязычным коса и зулу. В междуречье Оранжевой и Вааль и далее на север расселились сото и бечуана. Занимались они разведением скота и мотыжным земледелием, кроме того, мужчины ходили на охоту, а женщины и дети собирали дикорастущие плоды. Обработка полей и домашнее хозяйство полностью входили в обязанность женщин. Первобытнообщинный строй был преобладающей формой социальной организации этих племен. Земля считалась неотчуждаемой собственностью племени или сельской общины. Охотой общинники занимались сообща. При постройке хижины, сборе урожая и при каком-либо бедствии члены племени, рода или общины поддерживали друг друга и обменивались орудиями труда. Рынков еще не было, но уже шла оживленная меновая торговля между племенами.
Во времена Ливингстона прежний родоплеменной строй находился в упадке. У бечуана и еще более у макололо (именно с этими народами Ливингстону удалось установить тесный контакт за время своего первого шестнадцатилетнего пребывания в Африке) уже выделилась социальная верхушка. Верховные и другие вожди и старейшины родов обогащались за счет бедных членов племени и начинали их эксплуатировать: те должны были безвозмездно ухаживать за скотом вождей, обрабатывать поля и строить загоны и хижины. Хотя земля и считалась еще владением племени или общины, но вожди или старейшины рода единолично решали, как она должна быть поделена. Народности и племена Южной и Восточной Африки в этот период находились на переходной стадии от первобытнообщинной к раннефеодальной социальной организации. Старый родовой порядок еще прикрывал постоянно усиливавшийся процесс имущественного и классового расслоения, но уже выделились богатые и бедные, эксплуататоры и эксплуатируемые.
Сильным вождям удается временно подчинить себе другие племена и создать довольно крупные царства, которые носят уже черты государственного организма. Покоренные племена вынуждены платить дань или ассимилироваться; иногда покоренных держат в качестве домашних рабов. Эта патриархальная форма рабства не имеет ничего общего с торговлей рабами, которую вели арабы, европейцы и американцы. Африканские племена не продавали и не покупали домашних рабов; фактически они числились членами семьи, правда низшего ранга. Раннефеодальные царства не отличались устойчивостью, чаще всего они распадались со смертью их создателя. Длительно держались лишь прочно организованные [23] военные государства зулусских королей; все вокруг боялись их, даже европейские завоеватели.
Южная оконечность Африки давно уже была известна европейцам: в поисках морского пути в Индию португалец Бартоломеу Диаш обогнул ее еще в 1488 году. В 1652 году на мысе Доброй Надежды высадился голландец Ян ван Рибек. По поручению нидерландской Ост-Индской компании он основал здесь поселение, из которого и вырос город Кейптаун. В последующие годы сюда продолжали прибывать голландские поселенцы, называвшиеся бурами (boer, бауер — по-голландски крестьянин). Ведя бесконечные войны, они постепенно проникли в глубь материка, согнали со своих земель коренное население — готтентотов или поработили их. За бушменами буры охотились как за дикими животными и сотнями уничтожали их. В 1698 году на Капскую землю прибыли французские гугеноты, но преобладали здесь по-прежнему голландские буры. В 1776—1778 годах буры вели так называемые кафрские войны с бантуязычным коса на реке Грейт-Фиш, которая была восточной границей бурских владений, и в конце концов разбили их.
Во время наполеоновских войн, воспользовавшись тем, что Нидерланды, откуда прибыли буры, оказались под властью французов, Великобритания, которая вела с Францией ожесточенную борьбу за мировое господство, в 1806 году заняла Капскую землю вместе с Каапстадтом (Кейптаун). Англичане вели войны и против племен коса, захватили их земли, лежавшие между реками Грейт-Фиш и Кейскамма. Там в 1820 году они поселили своих ветеранов войны. Но буры были недовольны не столько захватом земель англичанами, сколько решением английского парламента 1833 года об отмене рабства: ведь на труде рабов основывалось хозяйство буров. Поэтому начиная с 1836 года многие из них покинули Капскую колонию. В большой прочный фургон, где размещалась семья и все необходимое в длительном пути, буры впрягали до десятка пар волов. Они двигались на север. Над задней половиной вытянутого кузова укреплялись прочные дугообразные рейки, на которые полукруглой крышей натягивался брезент. При помощи такого очень простого, но чрезвычайно практичного сооружения семьи буров чувствовали себя удобно в любое время года.
Буры переправились через реку Оранжевую, поселились там и, объединившись, образовали Оранжевую республику. С невероятными трудностями преодолели буры и другое естественное препятствие — Драконовы горы и поселились в области Натал. Но утвердиться здесь им удалось только после длительной борьбы [24] с зулусами, руководимыми королем Дингааном. Зулусы отчаянно пытались отстоять свои земли. Однако в битве на реке, названной впоследствии Бладривир (Кровавая река), буры, имевшие превосходство в оружии, одержали победу. Тысячи зулусов сложили свои головы в этом сражении. На землях зулусского государства буры основали Республику Натал, главным городом ее стал Питермарицбург. Но британское правительство, готовившееся к захвату этих земель, отказалось признать независимость нового бурского государства и спустя три года, в 1843 году, захватило Натал. В результате многие буры под водительством Преториуса снова двинулись на север. Вереницы фургонов с воловьими упряжками направлялись за реку Вааль. Здесь буры основали четыре новых государства, которые спустя несколько лет объединились в союз. В 1852—1853 годах была образована республика Трансвааль, получившая признание Великобритании. Англичане согласились признать реку Оранжевую северной границей своей Капской колонии, и две бурские республики — Оранжевая и Трансвааль — остались независимыми. Позже Оранжевая республика захватила западные и северные области народности басуто (сото), а местное население было согнано со своих земель или порабощено.
Медленно движется по землям Капской колонии воловья упряжка Ливингстона, направляясь на север, к Оранжевой реке, где уже обосновались буры. А за рекой его поджидает первое, но не последнее приключение. Внезапно опрокинулся фургон, волы перекатились друг через друга и вели себя так дико, что чуть было не удавились. В путевом же дневнике Ливингстона появляется оптимистическая запись: «Путешествие — это прямо-таки удовольствие. Мы наслаждаемся полной свободой: разбиваем палатки и разводим костер, где только душе угодно; идем пешком или едем верхом, как нам заблагорассудится, и охотимся на любую дичь, сколько нам вздумается. Однако есть и неудобство: нет возможности заняться научной литературой».
Переправившись через реку, Ливннгстон идет по землям гриква, потомков готтентотов, буров и их рабов, привезенных сюда из ост-индских владений. В конце июля 1841 года он добрался до Курумана — самой отдаленной тогда от Капа миссионерской станции в глубине материка. Здесь уже много лет жил и трудился Моффат, находившийся в тот момент в Англии.
Затерянный среди необозримых травянистых равнин Куруман приютился у полноводного источника, используемого для полива полей и огородов. Здесь хорошо прижились яблони, виноград, персики, инжир, лимоны и другие южные растения. На миссионерской [25] станции имелись крошечная церковь и под стать ей школа и типография, в которой Моффат со своими помощниками печатал Библию, переведенную им на язык бечуана, а также божественные наставления. Десятилетиями усердно изучал он и исследовал местный язык: создав алфавит, сделал его письменным языком. Группа подготовленных им помощников из местного населения действовала в окрестностях Курумана, отправляя церковную службу и занимаясь обучением в школах, созданных в бечуанских деревнях.
При отъезде из Лондона Ливингстон получил указание миссионерского общества остановиться в Курумане и ждать прибытия Моффата, а тем временем разведать возможности основания новой миссионерской станции дальше к северу. В том же году он отправился на север в земли бечуана, чтобы изучить их обычаи. Его сопровождало несколько местных жителей, обращенных в христианство. В Курумане Ливингстону уже рассказали о трудностях обращения в христианство. Вожди неприязненно относятся к христианской вере: многоженство христиане считают за грех, тогда как здесь это верный признак благополучия и достоинства мужчины. Однако Ливингстон надеялся все же встретить более благожелательное отношение к себе в отдаленных местах. Миролюбивые бечуана были запуганы налетами и грабежами известного зулусского вождя Моселекатсе, возглавлявшего племена матабеле, которые в свою очередь были изгнаны бурами с родных мест и двигались на запад. Бечуана надеялись на помощь и защиту европейцев, имевших огнестрельное оружие.
Из первой поездки в земли бечуана Ливингстон возвратился с твердым убеждением: чтобы прочно обосноваться там, надо завоевать доверие людей и изучить их язык. Три месяца он оставался в Курумане, а затем в феврале 1842 года предпринял вторую поездку на север. Его сопровождали два местных миссионерских учителя и еще два жителя Курумана, которые ухаживали за волами и следили за фургоном. В деревне Лепелоле, в пятнадцати километрах южнее резиденции вождя баквена Сечеле, он разбил лагерь, в котором пробыл много месяцев. Объяснялся с жителями только на местном языке. Европейцев поблизости не было. Это помогло ему глубже понять образ мышления баквена, а также разобраться в неписаных законах, которыми они руководствовались.
О бечуана он наслышался от других миссионеров еще до поездки: это, мол, ленивые, наглые и злые люди, и лишь с большим трудом их можно принудить что-либо делать. Но вскоре он понял, как сложилось столь неблагоприятное суждение. Миссионеры не [26] знали их законов и обычаев, любую услугу или одолжение они выпрашивали и старались непременно за них расплатиться. А бечуана расценивали это как беспомощность и полагали, что те попали в полную зависимость от них. Но Ливингстон повел себя иначе: «Мое пребывание там прошло не без пользы для людей. Как только я замечал недостойную выходку, тотчас же угрожал им отъездом. И если уж это не действовало, я без колебаний выполнял свою угрозу. Обращаясь с ними открыто, решительно, я не встречал при этом ни малейших трудностей, охлаждал пыл даже у наиболее дерзких».
Конечно, так обращаться с ними можно только в случае, если ты покорил их души. А ему удивительно быстро удавалось это сделать благодаря своей простоте, бесстрашию и доброте, как и неизменной жизнерадостности, что всегда вызывает доверие. Его бескорыстная врачебная помощь поражала их. За сотни миль в Куруман к нему доверчиво приходили пациенты. «Эта страна — благодатное поле для практики врача; о гонораре, правда, не приходится и мечтать. Хотя бечуана, можно сказать, дети природы, однако болеют довольно часто. Но это и не удивительно, ведь они ходят почти раздетые; днем их немилосердно печет солнце, а ночью они страдают от холода или даже от мороза. К тому же они едят все без разбора... Нарушения пищеварения, ревматизм, глазные болезни наиболее распространены среди них. Ко мне приводили немало очень тяжело больных. В деревнях, встречавшихся в пути, мой фургон осаждали слепые, хромые и разбитые параличом».
Вскоре пошла молва, что приезжий — великий волшебник и может даже воскрешать из мертвых. В Лепелоле, селении баквена, Ливингстону надо было заручиться доверием и вождя, и знахаря, который не только лечил, но и пользовался большим почетом еще и как колдун, потому что мог вызывать дождь и изгонять засуху. Боже упаси усомниться в силе его колдовства: навсегда сделаешься врагом этого почтенного человека, а ведь он и так уже показал свое нерасположение к Ливингстону.
«У этого народа врач одновременно выполняет и другую функцию — ниспосылает дождь. И чтобы не отстать в этом искусстве от моего коллеги, я возвестил, что могу также даровать полям нужную влагу, правда, не чудодейственным колдовством, как он, а отводом на поля вод реки. Необычный замысел получил всеобщее одобрение, и мы немедля взялись за дело. Даже личный врач вождя оказался в числе энтузиастов и, усердно принявшись за работу, добродушно подсмеивался над хитростью чужеземца, который задумал таким образом вызвать дождь. Вся наша техника состояла из одной лопаты, да и то без черенка. Работали заостренными [27] палками и все же прорыли довольно длинный ров. Вынутую землю насыпали на одежду из шкур, в черепашьи панцири и в деревянные посудины и затем относили ее в сторону».
Когда работа на канале близилась к концу, Ливингстон велел запрячь свой фургон и последовал дальше на север. На новом месте он также намеревался наладить отношения с обитавшими там племенами. До него туда ездил один купец, но он и вся его челядь погибли от лихорадки.
В пути волы Ливингстона заболели, ему пришлось оставить их, рассчитаться с проводниками, нанять новых и отправиться дальше пешком. Однажды, не зная, что Ливингстон понимает их речь, сопровождающие беззаботно болтали о нем в его присутствии: «Он не сильный, он совсем хилый, а выглядит крепко сложенным лишь потому, что засунул свои ноги в эти мешки (брюки). Он скоро свалится с ног». Ливингстон промолчал... Тянулись дни, а он не сдавался. Вскоре он мог порадоваться: эти люди поняли свою ошибку и изменили свое мнение о нем.
В июне он возвратился в Куруман и тут же начал готовиться к третьей поездке — на этот раз чтобы подыскать место для миссионерской станции. Но отъезд оттягивался: никто не решался сопровождать его, так как местность, где он должен проезжать, была охвачена войной. Земля и скот — вот главные предметы вожделения захватчиков. Один из вождей подвергся нападению соседа, а перед этим они оба дружелюбно принимали Ливингстона. Борьба идет жестокая, безжалостно уничтожаются мужчины, женщины и дети. Ливингстону пришлось провести в ожидании многие месяцы. Но он не сидел сложа руки — читал проповеди, помогал в типографии, участвовал в строительстве церкви в окрестности. И как всегда, много времени отдавал врачебной практике. Работы в Курумане хватало, но все его помыслы сводились к одному — уехать отсюда, основать свою миссионерскую станцию.
В феврале 1843 года Ливингстон предпринимает третью поездку в глубь страны. На этот раз он отправляется верхом на воле, потому что трудно найти людей для обслуживания фургона. Поездка была не из приятных. «Сюртук, служивший седлом, то и дело сползал. Длинные изогнутые назад рога, которыми животное при случае может пырнуть в живот, вынуждали меня сидеть навытяжку, по-драгунски. Так я ехал свыше четырехсот миль».
Путешествие Ливингстона не было исследовательским. И тем не менее он познакомился со страной и людьми, сделал немало [28] интересных в научном отношении наблюдений, в том числе и касающихся прогрессирующего усыхания района Калахари. Но главной его задачей было подыскать место для новой миссионерской станции и использовать любую возможность для проповеди христианского учения.
Здешние христианские миссии и их деятели — как католические, так и евангелистские, будь то английские, французские, голландские или немецкие, — произвели на него неблагоприятное впечатление еще при встрече в Кейптауне. Прежде он представлял себе миссионера человеком, который исполнен религиозного рвения и, не ведая страха, пробирается по глухим местам, неся с собой «несчастным язычникам» радостную весть о грядущем избавлении их Иисусом Христом. А теперь даже на землях миссий он всюду видит «прискорбную нерадивость». Многие миссионеры, боясь расстаться с удобствами, оседают в Капской колонии и прилегающих к ней местах. Вместо того чтобы самопожертвованием покорять души язычников, они всюду «жалуются на свои беды и трудности и погрязли в мелочных склоках». Голландские миссионеры проявили себя как расчетливые, ловкие дельцы. Они приобретали, например, родники и приспосабливали их для орошения прилегающих участков, а затем сдавали эти земли местным жителям в аренду. И чем больше арендаторов, тем выше был их доход. Так они умудрялись за счет местных жителей удваивать или даже утраивать те двести фунтов стерлингов, которые получали в год за миссионерскую службу. Со временем некоторые сколачивали целое состояние; конечно, были и такие, которые использовали побочные доходы для миссионерской деятельности.
Ливингстон как миссионер и врач был преисполнен искреннего желания делать добро африканцам. До конца дней он так и не понял, что способствовал, хотя и непреднамеренно и против своей воли, порабощению и эксплуатации африканцев соотечественниками. Ему и в голову не приходило, что христианская заповедь «возлюби врага своего» лишь ослабляет волю африканцев в борьбе против незваных европейцев, а надежды на потустороннюю жизнь отвлекают внимание от тягот земного существования. Он так и не уяснил, что деятельность миссионера тем пагубнее, чем усерднее он берется за дело, чем больше в нем подкупающей честности и гуманизма. Личное его обаяние создает у африканцев совершенно превратное мнение о «белых братьях», а его учение, полное миролюбия, морально разоружает их.
Уже после смерти Ливингстона, когда начался раздел Южной и Восточной Африки между Англией и Германией, обнаружилась [29] пагубность противоречивой позиции миссионеров. Они, правда, осуждали «злоупотребления», «произвол» и «жестокие методы» колонизаторов, но отнюдь не отвергали колониальную политику; каждый из них оправдывал действия своего правительства, порицая лишь методы, какими оно пользовалось. Как раз человеколюбивые и гуманные миссионеры содействовали распространению как в колониях, так и в метрополиях ложного представления о «благотворности» колониализма. А многие проповедники часто злоупотребляли доверием африканцев. Они сеяли раздоры между племенами и вождями, вели шпионаж в пользу колонизаторов, сурово осуждали любое непослушание властям, установленным якобы самим господом, порицали всякую мысль о насильственном освобождении от ига чужеземцев.
Ливингстон наконец облюбовал место для первой миссионерской станции на земле племени бакатла, относящегося к народности бечуана, и обрел «духовного собрата», согласившегося помогать ему. В начале августа 1843 года оба миссионера и трое англичан, охотников на крупную дичь, отправились в путь. Воловьи фургоны были загружены всем необходимым: инструментами, запасной одеждой, провиантом и подарками для местных жителей.
Для Ливингстона непривычно было иметь дело с европейскими охотниками. Это — состоятельные господа со своими слугами; у них верховые кони, палатки, а предметы снаряжения столь разнообразны и многочисленны, что даже в безлюдной местности можно было удобно устроиться. Он же должен был довольствоваться скромным миссионерским содержанием. Но зависть не гложет его.
На четырнадцатый день путники прибыли в прелестную окруженную горами долину — место, которое Ливингстон облюбовал для миссионерской станции. Люди племени бакатла охотно согласились переселиться из близлежащего поселка в эту местность, которую они называли Маботса. Ливингстон прежде всего навестил вождя племени и справился, не нужен ли ему миссионер. Тот сразу же согласился: он, как и его соплеменники, знал, что у европейцев есть то, что ему как раз нужно, — ружья и нитки бус. Ливингстон прежде всего купил клочок земли и эту сделку скрепил договором; миссионеры подписали его, а вождь нарисовал знак.
Да, долина великолепна, но с одним недостатком: львы частые здесь гости. Ночью они врывались в загоны и задирали коров и даже средь бела дня нападали на скот. Тут что-то кроется, гадали бакатла. Наконец они пришли к единственному объяснению: очевидно, соседнее племя при помощи колдовства насылает на них [30] львов. Однажды они даже отправились на охоту, но вернулись ни с чем: с их оружием к хищнику опасно и подступаться.
Но когда лев у самого поселения задрал сразу девять овец, бакатла решили убить его. Охота не слишком-то прельщала Ливингстона, но он отправился, чтобы помочь им. Местные жители пришли к выводу, что, если убить одного зверя, вся стая покинет эту местность.
А вот и львы. Они отдыхали на продолговатом скалистом уступе в тени деревьев. Бакатла, образуя широкий круг, оцепили их. По мере того как они поднимались, круг сужался. Еще у подножия уступа Ливингстон и Мебальве, его помощник родом из Курумана, заметили льва, сидевшего на скале. Хорошая цель. Но прежде чем Ливингстон изготовился к стрельбе, Мебальве выстрелил. Пуля щелкнула о камень, и лев куснул то место, о которое она ударилась, как это делает собака, когда в нее бросают какой-либо предмет. Затем он прыгнул в сторону оцепивших его людей, и те бросились врассыпную, упустив зверя.
Но тут Ливингстон заметил еще двух львов, и кольцо людей вновь сомкнулось. Однако он не решился стрелять, так как боялся попасть в кого-нибудь из людей. И этим двум львам удалось выскользнуть из окружения. На этом и закончилась охота, все повернули домой.
Но когда они огибали край уступа, Ливингстон вдруг заметил, что в тени кустарника, примерно в тридцати шагах, лежит четвертый лев. Ливингстон вскидывает ружье, целится и стреляет сразу из обоих стволов. «Убит! Убит!» — ликуют бакатла и бегут к кустарнику. Но Ливингстон успел заметить, что лев, видимо от ярости, высоко приподнял хвост. И охотник закричал: «Подождите, пока я снова заряжу!» Нужно было какое-то время, потому что ружье заряжалось с дульной части. Когда он заталкивал заряд в дуло ружья, до него долетел душераздирающий крик. Вздрогнув, он поднял голову и увидел, что лев могучими прыжками стремительно несется прямо на него. Миг — и зверь с силой вцепляется в плечо и с размаху опрокидывает его наземь. У самого уха Ливингстона раздается свирепое рычание, затем лев встряхивает его, «как терьер пойманную крысу». Ливингстон был до того ошеломлен этой встряской, что не чувствовал ни страха, ни боли, хотя находился в полном сознании. Позже это обстоятельство он сравнивал с состоянием пациента, который, находясь под местным наркозом, видит действие хирургического ножа, но боли не ощущает. Прижатый у затылка к земле тяжелой лапой, Ливингстон сумел все же чуть-чуть повернуть голову и увидел, что смелый Мебальве в каких-нибудь десяти — пятнадцати шагах от него целится в льва [31] из своего старинного кремневого ружья. И вот он нажал один, другой курок, но оба ствола дали осечку. Тут лев увидел нового врага и оставил Ливингстона. Прыжок — и он уже вцепился в бедро Мебальве. В это время один из охотников поднял копье, чтобы нанести удар, и лев мгновенно оставил Мебальве и вцепился в плечо очередному противнику. Но силы покинули льва, и он рухнул замертво. Только теперь стало ясно, что возымели наконец действие обе пули, которые Ливингстон всадил в него. Это был могучий зверь; бакатла утверждали, что такого крупного льва они еще не видели.
Оказалось, лев нанес Ливингстону глубокие раны и раздробил плечевой сустав. Раны заживали медленно, а функции плечевого сустава так и не восстановились. Даже легкое ружье для охоты на птиц Ливингстон поднимал с трудом, да и то левой рукой. В связи с этим на протяжении трех десятилетий своих путешествий по Африке Ливингстон не раз оказывался в опасных ситуациях. И только необыкновенная выдержка и сила воли выручали его.
Характерно, что сам он никогда не рассказывал об опасных приключениях. И когда его спрашивали об этом, что частенько случалось в Англии, он давал такие ответы, которые разочаровывали слушателей. Так, кто-то допытывался, о чем он думал, когда лежал подо львом. Его ответ был кратким: «Я думал тогда, с какой части тела начнет он пожирать меня». Такие мысли у столь благочестивого человека шокировали иных слушателей, но, конечно, Ливингстон, которому любое самовосхваление претило, говорил истинную правду.
Вначале Ливингстон почти все свободное время занимался постройкой домика. Стены возводились из камня, крыша сооружалась из дерева. Африканцы, прибывшие с ним из Курумана, были опытными помощниками — один из них умело делал двери и окна. С раннего утра и до позднего вечера ему приходилось трудиться вместе с ними, чтобы как можно скорее начать основную работу в этом помещении. Тут ему предстояло не только жить, но и совершать богослужение, вести уроки, лечить больных. Ливингстону нравилось сравнивать себя, да и миссионеров вообще, с монахами раннего средневековья, монастыри которых также служили одновременно «и лечебницами, и домами призрения для убогих, и очагами грамоты».
В Африке Ливингстон намеревался продолжить научные занятия, но до сих пор ему не хватало на это времени, по крайней мере, в Маботсе. К вечеру он очень уставал и у него не было сил, чтобы взяться за книги. В лучшем случае он мог написать письмо родным [32] или друзьям или же любовное послание в Куруман Мэри Моффат — старшей дочери почтенного миссионера, указавшего ему дорогу в Южную Африку. Еще в конце 1843 года он писал другу в Англию: «Если я надумаю когда-нибудь жениться, то для меня нет иного пути, кроме как прибегнуть к объявлению в «Евангелистском журнале» о желании вступить в брак. А ежели я окажусь уже старым, то, по-видимому, это будет почтенная вдова. Но я слишком занят, чтобы думать об этом». И как иначе мог он подыскать себе жену, находясь в такой глуши!
Но события переменились внезапно, как только в Куруман из Англии вернулся Моффат с семьей и Ливингстон ближе узнал маленькую коренастую черноволосую Мэри. Принимая решение вступить в брак, Ливингстон одинаково руководствовался как чувством симпатии, так и здравым смыслом — лучшей предпосылкой для удачного брака. Будучи в Маботсе, он очень скоро убедился, как необходима была бы помощь жены в миссионерской деятельности, особенно среди женщин и детей, и, конечно, в личной жизни. Ему ведь не найти лучшей жены, чем бойкая, обходительная и практичная Мэри Моффат, привыкшая с малых лет к нелегкой миссионерской жизни и лишениям. Ливингстон был уверен, что в ней он нашел верную и деятельную подругу, которая в любом случае не впадает в отчаяние. Он обручился с ней и был счастлив: теперь у него было все, чего он желал.
Когда был готов домик, сыграли свадьбу, и Мэри переехала в Маботсе. Наряду с домашним хозяйством она берет на себя обучение детей в школе, а он может теперь целиком отдаться выполнению своего долга в качестве проповедника, учителя и врача. Вначале ему не очень хотелось содержать школу, но поскольку он считал это одной из своих обязанностей, то вскоре преодолел это свое нежелание. В первые дни голые детишки входили в школу с робостью и даже дрожью; и если бы сам вождь племени с помощью Мебальве не приводил их, то вряд ли хоть один из них появился бы здесь. И не удивительно, ибо матери нередко пугали детей, чтобы те слушались: «Сейчас позову белого человека, пусть он тебя укусит!» — точно так же, как в былые времена некоторые белые матери пугали своих детей черным человеком. Временами в школу приходило до двух десятков детей, а иногда лишь двое, а то и совсем никто не появлялся — принуждение не применялось. Мебальве обучал их азбуке и пел с ними.
Ливингстону хотелось превратить Маботсу во второй Куруман. Для полного успеха, по его мнению, необходимо было подготовить побольше местных жителей для миссионерской деятельности и школьной работы. Он вынашивает мысль организовать курсы [33] подготовки учителей, разрабатывает проект и представляет его на утверждение начальству. В то время никак нельзя было предположить, что Ливингстон в будущем предпочтет миссионерской деятельности научную. Тогда от многих своих коллег он отличался лишь большим усердием и возвышенным представлением о службе миссионера. Но как раз из-за этих своих качеств он нажил себе врагов. Большинство коллег отвергло его проект; одни находили его преждевременным, другие полагали, что Ливингстону не терпится чем-то отличиться и сделать карьеру.
В числе завистников, к сожалению, оказался и тот миссионер, который переселился вместе с ним из Курумана в Маботсу. Еще при постройке домика он занимался не столько делом, сколько тем, что чернил Ливингстона в обществе миссионеров, упрекая его в недобросовестности, неспособности к миссионерской службе и надменности. У Ливингстона это вызывало чувство обиды и негодования. И он не мог молча сносить эти несправедливые обвинения. Однако сама мысль о том, что об этом раздоре узнают жители Маботсы, для него была невыносима. И так как дальнейшее пребывание здесь оказалось мучительным, то он покинул эту станцию, домик, сад — все созданное с таким трудом. Прощание было нелегким, но он не изменил своего решения, даже когда не по-товарищески поступавший коллега, тронутый благородным поведением Ливингстона, попросил прощения.
Еще в Курумане Ливингстон слышал о Сечеле, вожде баквена — племени, принадлежащем также к народности бечуана. Во время путешествий по саванне севернее Курумана и Маботсы он навестил вождя баквена и был принят весьма дружелюбно. Сечеле — человек крупный, крепкого сложения. Черты его лица напоминали негроидные, а цвет кожи был темнее, чем у бечуана. Соплеменники называли его «черным Сечеле». Это был умный человек и искусный оратор. На Ливингстона он произвел приятное впечатление, и Ливингстон надеялся, что здесь он будет иметь больший успех, чем в Маботсе. Там, правда, ему не раз удавалось воспрепятствовать военным походам, нередко предпринимаемым отдельными племенами бечуана, враждующими между собой, но обратить кого-нибудь в христианство не удалось. «Народ здесь не проявляет ни малейшего интереса в отношении Евангелия Христова, — с глубоким разочарованием писал он матери. — Его ненавидят и боятся... Людям все это представляется чем-то таким, чего следует тщательно [34] сторониться, чтобы обезопасить себя от искушения и утраты излюбленных обычаев и привычек».
Бакатла очень хотели, чтобы Ливингстон остался у них. Даже в самый последний момент, когда были запряжены волы и сложены все вещи, они всячески уговаривали его не уезжать, обещали построить ему новый дом в другом месте, если он согласится остаться. Но чувства симпатии были проявлены к нему как к человеку и врачу, но отнюдь не как к вестнику Христа, что для него было более важным.
В Чонуане — резиденции Сечеле, что находилась примерно в сорока милях севернее Маботсы, он прежде всего приобрел клочок земли, вполне достаточный, чтобы построить домик или несколько домиков и развести сад. Баквена вначале никак не могли уразуметь, чего же ему надо от них: они и понятия не имели о покупке или продаже земли. Почему бы чужеземцу просто не попросить у них место, которое он облюбовал? Ливингстон пояснил им, что он хотел бы предотвратить любой повод для возможных споров в будущем. Если на этом участке появятся приличные дома, будущий вождь племени, окажись он не столь мудрым и дружественным, как Сечеле, может запросто отобрать эту землю! Это показалось баквена убедительным, и они приняли от Ливингстона товары, которые он предложил им в качестве платы за землю. Стоили же они в Англии примерно пять фунтов стерлингов.
Итак, Ливингстоны переселяются в Чонуане. Сказать это легко. На деле же это смелый шаг, требующий большого труда и невероятных лишений. В Чонуане, конечно, не купишь нужное и не починишь на стороне — все, что требуется для дома, надо сделать самому. Ковать железо Ливингстон научился у одного африканца, плотницкое же ремесло, а также искусство садовода и огородника постиг он во время пребывания у Моффата. Дом он собрался строить из обожженного кирпича, а для этого сначала надо заняться его формовкой и обжигом. И Ливингстон валит подходящее дерево, распиливает его на доски, чтобы из них сколотить формы. «Материал для дверей и окон также еще в лесу. И если хочешь добиться почета у здешних жителей — воздвигай дом приличных размеров, а это требует уйму труда, к тому же ручного. При этом от местных жителей едва ли можно получить значительную помощь; трудясь за вознаграждение, они, правда, стараются, но работа у них не спорится: не умеют они строить четырехугольные дома». Их собственные хижины круглые, крытые тростником или камышом. Поэтому из кирпича, им изготовленного, он собственноручно возводит и стены. Однако, несмотря на трудности, Ливингстон работает с душой: «Радуешься вдвойне, когда, подобно Александру [35] Селкирку,e) собственным трудом и смекалкой создаешь себе необходимые удобства».
В жене Ливингстон нашел неутомимую помощницу. Она сама пекла хлеб, шила белье и одежду, изготовляла масло и восковые свечи, а из золы растений — мыло. «Так мы научились делать почти все необходимое семье миссионера, заброшенной в глушь: муж — мастер на все руки вне дома, жена делает всю домашнюю работу и никакого труда не чурается». Миссионерское жалованье очень скудное, но у Ливингстона ни теперь, ни когда-либо позже не было и мысли стать обузой для местного населения. Поэтому Ливингстонам было не до излишеств, им приходилось экономить даже на еде. Вместо кофе они пили настой из поджаренных хлебных зерен, а когда у них не оставалось и зерна, то они были вынуждены ехать за припасами в Куруман. «Я бы, конечно, без особых усилий вынес такую жизнь, хотя иному европейцу казалось бы, что он вот-вот умрет от голода или жажды, но каково мне было слышать восклицания пожилых женщин, видевших мою жену перед отъездом два года назад: «Ах, как же она худа! Что он, заставляет ее голодать? Разве там, где она теперь живет, нечего есть?» Выносить это было выше моих сил».
Во время пребывания в Чонуане Ливингстон предпринял два путешествия на восток, в Трансвааль, где поселились буры, покинувшие Капскую колонию, попавшую под власть англичан. Буры изгнали отсюда зулусского вождя Моселекатсе и его подданных и считали себя хозяевами земли. К английским миссионерам, проникавшим сюда с земель бечуана, они относились с подозрением и не спускали с них глаз.
Не успел Ливингстон закончить постройку дома в Чонуане, как получил письма от командующего войсками и от совета буров с требованием разъяснить свои намерения. Ливингстону также стало известно, что буры намереваются вторгнуться в земли бечуана, чтобы силой забрать у баквена, подвластных Сечеле, то немногое оружие, которое им как-то удалось приобрести. Все это делалось под предлогом, что оружие в руках баквена якобы является угрозой миру. В то же время к нему обратился вождь одного из племен бакатла, проживающий в четырех днях езды к востоку, с просьбой прислать ему миссионера из местных людей и учителя.
Как только дом был готов, Ливингстон отправился в путь, чтобы навестить этого вождя и переговорить с бурами. В пути он, [36] к своему удивлению, обнаружил, что здешние земли довольно плотно заселены, не в пример Капской колонии. Там буры давно уже разделались со свободным местным населением: готтентотов обратили в рабов, бушменов почти истребили. На них буры открыто устраивали охоту, оправдывая свои поступки тем, что бушмены, эти дети природы, не делали различия между дикими животными саванн и домашним скотом буров. Местные племена охотились и на тех и на других, когда нуждались в мясе. Сами они ведь не разводили скот и понятия не имели, что буры могут рассматривать эту охоту как тяжкое преступление.
Ливингстону нередко приходилось слышать, как баквена говорили: «Моселекатсе был жестоким только к своим врагам, но дружелюбен к тем, кто покорялся ему, а буры жестоки и к тем и к другим: врагов они просто убивают, а друзей обращают в рабство». Лишь когда Ливингстон попал к бурам, он понял, что означают эти слова. В пути он воочию убедился, что буры принуждают племена бечуана выполнять самые тяжелые работы. Сохраняя мнимую независимость этих племен, они заставляют людей без всякой оплаты удобрять поля, пропалывать посадки, собирать урожай, строить дома, каналы и запруды. А ведь бечуана надо было заботиться и о себе, и о своих семьях.
Все это вызывало негодование у Ливингстона: «Я был свидетелем, когда буры однажды пришли в поселок и, как обычно, потребовали двадцать — тридцать женщин для прополки огородов. Я видел, как эти женщины с узелками продуктов на голове, привязанным ребенком на спине и орудиями труда на плечах направлялись к месту тяжелых работ, выполняемых без всякого вознаграждения». При этом буры отнюдь не стыдились откровенно говорить, что пользуются даровым трудом: «Мы милостиво разрешаем бечуана жить на нашей земле, и за это они должны работать».
Бывший рабочий прядильной фабрики не мог спокойно относиться к укоренившемуся рабству, «когда плоды труда присваиваются без всякого вознаграждения, что во всем мире считается несовместимым с такими понятиями, как честность и порядочность»; он не мог без возмущения видеть «обман и грабеж», совершаемые христианами.
Даровой рабочей силой буры, однако, пользовались не только для обработки полей, но и для выполнения всевозможных домашних дел; днем и ночью домашние рабы должны быть готовы к услугам своих господ. Чтобы лишить возможности их бежать куда-либо, буры в прислугу старались брать подростков. Ливингстон, правда, слышал и раньше от баквена, как это делалось, но не [37] очень-то им верил. Встретив в домах буров черных ребят, Ливингстон расспросил их, как они сюда попали, и был поражен их рассказами. Да, баквена говорили не зря. Он поинтересовался, что же думают об этом сами буры. И то, о чем поведали ему раньше баквена, буры подтвердили: «одни — с сожалением и каким-то извинением, другие же — с чувством довольства и хвастовства»; эти ребята были захвачены во время военных походов, предпринятых как раз для этой цели.
Ливингстон был потрясен, такое отношение к африканцам для него оставалось непостижимой загадкой. Ведь буры — христиане с прочными религиозными устоями, ведут свое происхождение от деятельных, честных людей: голландцев и гугенотов. И эти христиане вдруг седлают лошадей, берут оружие, нежно прощаются с женами и детьми и совершают налеты на мирных людей. Чтобы обезопасить себя во время налетов, они прибегали прямо-таки к дьявольским способам «самозащиты»: брали с собой сотни две ранее захваченных местных жителей, выстраивали их цепью перед лошадьми и гнали перед собой. Поверх этого живого щита они вели огонь по врасплох захваченным жителям, убивая и калеча их; оставшиеся в живых в страхе спасались бегством. После такого кровавого побоища «победители» делили между собой захваченных детей и скот. Добыча распределялась только между бурами. Своих невольных «союзников» из местных жителей они оставляли, чтобы месть потерпевших пала на их головы.
Ливингстон лично знал о девяти таких налетах, случившихся за время его пребывания среди баквена, причем никто из буров ни разу не пострадал.
Захватив деревню, буры старались выловить прежде всего детей: будучи в рабстве, они скоро забудут родителей, родные места и родной язык и привяжутся к своим господам. Взрослых мужчин, как правило, отпускали — бесполезно оставлять их в качестве домашних слуг: при первом же удобном случае сбегут, а закон о выдаче беглых рабов в этих глухих местах все равно бессилен.
У бечуана самое ценное владение — скот. Наличием скота определяется благосостояние, достоинство и влияние человека. Молодые люди часто оставляют родные места и отправляются в Капскую колонию обзавестись парой коров. И вдали от родины они годами выполняют у белых поселенцев тяжелую физическую работу. В качестве вознаграждения каждый получает три-четыре коровы. Возвращаясь домой, молодые африканцы иногда попадают в рабство к бурам. И даже если им удается оттуда выбраться, они теряют с таким трудом доставшийся им скот. [38]
Такое бесчеловечное обращение с африканцами острой болью отзывалось в сердце Ливингстона. Есть ли хоть капля совести у этих буров, людей его расы и религии? «Слово «закон» у них не сходит с уст, однако в жизни их законы — это право сильного». Ливингстон был искренне убежден, что за содеянные акты произвола и жестокости когда-нибудь им придется держать ответ перед судом божьим; так пытался он урезонить предводителя буров. Но его доводы для буров непостижимы: они ведь добрые христиане и лишь исполнители божьей кары, ниспосланной на закоснелых язычников. Уничтожая и порабощая местных жителей, они в оправдание ссылались на Библию.
Герт Кригер, командующий бурскими войсками, наконец согласился послать к бакатла учителя из местных жителей. Для выполнения этой миссии Ливингстон направил Мебальве — своего лучшего помощника. Но оказалось, неподалеку от места обитания этого племени проживает голландец, фанатичный противник всех африканцев и миссионеров. Он придерживается мнения, что любой миссионер из местного населения достоин лишь того, чтобы быть убитым. Поэтому Ливингстон не отважился подвергать такой опасности Мебальве, и тот вернулся в Чонуане.
Ливингстон убедительно разъяснял Кригеру, какое зло было бы совершено, если бы буры напали на баквена: ведь эти мирные люди не сделали европейцам ничего худого. Однако предводитель буров смотрел на это иначе. Английские купцы продают бечуана ружья вместе с боеприпасами. Если туземцы будут иметь огнестрельное оружие, это создаст угрозу для буров: владея таким оружием, местные жители осмелятся напасть на белых, как не раз уже было во время войн с зулусами. Единственный способ обезопасить себя — первыми нанести удар и тем самым предотвратить нападение с их стороны. Да, зулусы — народ воинственный, соглашался Ливингстон, но мирные бечуана никогда еще не нападали на белых. Напротив, как раз их миролюбие наносит им вред, ободряет буров. На мужественных и уверенных в своих силах зулусов буры не всегда отваживаются нападать, с тех пор как те приобрели огнестрельное оружие. Однако предводителя буров трудно переубедить. Он не считает, что такая «превентивная мера» будет актом несправедливости. Что касается баквена, то Кригер в конце концов согласился с мнением Ливингстона, однако потребовал от него, чтобы время от времени он сообщал бурам о намерениях Сечеле и его людей. Ливингстону вначале показалось, что он неверно понял собеседника: ему предлагают стать шпионом буров при баквена?.. С негодованием он отвергает оскорбительное предложение. [39]
Буры вдвойне ненавидели его — и как миссионера, и как англичанина, и потому, что он осуждал рабство и гуманно относился к африканцам, и потому, что в нем они видели — и отнюдь не без основания — предвестника британского колониализма. Британский миссионер следует по пятам за британским купцом, и достаточно произойти лишь одной-двум более или менее кровавым стычкам, как оба они тут же обратятся с просьбой о защите к своему правительству: британский купец кликнет на помощь британского солдата. Для Герта Кригера Ливингстон — замаскированный и, значит, наиболее опасный соглядатай британского колониализма, нежелательный соперник буров. Такой взгляд на Ливингстона как на человека был, разумеется, несправедлив, но на миссионера — пожалуй, верен.
Для Ливингстона путешествия были настоящим отдыхом. «В пути я могу читать, а дома это едва удается. Много времени отнимают всевозможные дела: стройка, уход за садом и огородом, забота о школе, уход за больными; то и дело приходится паять незаменимый котел, плотничать и чинить ружья, изготовлять подковы, ремонтировать повозки, читать проповеди, вести уроки в школе, в меру своих сил читать лекции по физике, обсуждать теологические проблемы — свободного времени совсем не остается».
Кроме того, он ведет еще и научные исследования: собирает образцы горных пород, окаменелости, семена различных растений, заспиртовывает представителей местной фауны, упаковывает все это в ящики и отправляет в Англию. Ливингстон сообщает о прогрессирующем усыхании Южной Африки, признаки которого он наблюдает всюду, пишет статью об этом и посылает ее в Лондон в Королевское географическое общество. В числе объектов его наблюдений — и лихорадка, и ветры, и муха цеце.
Во время путешествий ему все шире открываются огромные просторы Африканского материка. И он недоумевает, почему прибывающие сюда миссионеры стремятся остаться в слабозаселенной Капской колонии, где их и без того немало, и не хотят ехать в обширные неизведанные внутренние области. Разве не настало время начать новую эру в миссионерской деятельности и открыть пути к народам внутренней Африки?
Ливингстоны наконец устроились с жильем в Чонуане. Но оказалось, что место для поселения выбрано неудачно: не хватает воды. Дожди выпадают здесь очень редко. Заклинания колдуна, в [40] обязанности которого входит вызывать дождь в нужное время, дают осечку. И нет поблизости подходящей речки, воды которой можно было бы по каналам отвести на поля. Ливингстон не видит другого выхода, как перенести миссионерскую станцию к реке Колобенг, протекающей в сорока милях к западу от Чонуане; она кажется ему достаточно многоводной. Сечеле, которому он сообщил о своем намерении, согласился, что искусственное орошение — это наиболее надежный способ напоить жаждущую землю. В то же утро, как только это решение сообщили жителям Чонуане, Ливингстон отправляется к реке Колобенг. Все жители тоже начали готовиться к отъезду.
В третий раз Ливингстон заново начинает жизнь, третий дом надо будет возводить собственными руками. На новом месте ему с женой и маленьким Робертом, их первым ребенком, вначале придется жить в хижине. Баквена пока не смогут помочь ему в строительстве домика: им самим предстоит строить себе хижины и разбивать огороды. 4 июля 1848 года семья Ливингстона переселяется наконец из хижины в новый прочный дом. По приказу Сечеле 200 человек помогали Ливингстону строить школьное помещение. За это он обещает баквена построить такой же четырехугольный дом для вождя. Позже и Мебальве обзаводится собственным домиком.
Новое поселение баквена приняло название реки — Колобенг. Оно, как и Чонуане, носило отпечаток патриархального строя. Посередине находилась большая котла — площадь с отведенным для огня местом; ее окружали круглые хижины верховного вождя, его жен, ближайших родственников по крови. На этой котла протекала жизнь племени: здесь люди работали, ели, встречались, чтобы поболтать о новостях. Центральная котла как бы охвачена кольцом маленьких котла, вокруг которых, смотря по обстоятельствам, расположены хижины более мелких вождей, их жен и ближайших родственников. Дети считаются величайшим ниспосланием свыше, с ними обращаются очень ласково. И детей обычно много у того, у кого много жен. Поэтому многоженство — один из основных устоев этого общества. Главный вождь старается породниться с младшими вождями: он берет себе в жены их дочерей или всячески способствует, чтобы его ближайшие родственники-мужчины женились на них.
Сечеле также женат на дочерях младших вождей, которые когда-то помогли ему в беде. О всех превратностях своей жизни он сам рассказал Ливингстону. Еще когда Сечеле был маленьким, его отца убили соплеменники за то, что тот отбирал жен у состоятельных младших вождей. Один из участников убийства стал верховным [41] вождем баквена, но не мстил никому из детей отца. Однажды Сечеле и его друзья обратились к знаменитому вождю воинственных макололо Себитуане и попросили его восстановить попранное достоинство Сечеле как верховного вождя, законного наследника погибшего отца. Себитуане согласился. Ночью с большим войском вторгся он в земли баквена и окружил «город», а на рассвете его глашатай громким голосом возвестил: Себитуане прибыл к вам, чтобы отомстить за убийство вождя. Затем макололо ударили в щиты, и барабанный бой понесся к «городу» со всех сторон. Захваченные врасплох, баквена в паническом страхе выскакивали из хижин, но в них уже летели копья макололо. Себитуане наказал своим людям сохранить в живых сына покойного вождя. И вот самозваный вождь уже схвачен и казнен, а Сечеле возведен в сан вождя. С того времени он чтит Себитуане как родного отца и так расхваливает его великодушие, что Ливингстон загорается желанием предпринять путешествие на север, чтобы лично познакомиться с великим Себитуане.
Ливингстоны просыпались рано: какова бы ни была жара и духота прошедшего дня, вечер, ночь и утро в Колобенге всегда приносят приятную прохладу. Между шестью и семью — домашняя молитва и завтрак, до одиннадцати часов он и жена ведут уроки в школе для всех, кто явился, — мужчин, женщин, детей. Затем Мэри занимается домашним хозяйством, а муж берется за какое-либо ремесло — кует, плотничает или возится в саду или огороде. После обеда и отдыха госпожа Ливингстон учит маленьких детей; в Колобенге в школу приходят в среднем шестьдесят, иногда восемьдесят — девяносто детей, это намного больше, чем в Маботсе. В иные дни она дает уроки шитья, на них приходит также много женщин. После пяти Ливингстон направляется в «город», ведет там беседы с людьми о религии и мирских делах. Три раза в неделю после вечернего доения коров он устраивает официальное богослужение и своего рода наглядные уроки на мирские темы с демонстрацией различных предметов и картинок. В иные вечера он посещает больных и дает им нужное лекарство, неимущим уделяет кое-какие продукты и оказывает им помощь по дому. Он хорошо знает: как бы ни была мала дружеская услуга, но она, как и сказанное вовремя доброе слово, намного больше здесь ценится, чем длинная проповедь. «Если подходить доброжелательно к людям, когда они больны, то даже наивные или злонамеренные противники христианства никогда не станут вашими личными врагами. Здесь совершенно по-иному отвечают любовью на любовь». [42]
Его отношение к африканцам, несомненно, можно считать разумным, а отнюдь не просто «тактическим приемом»; оно исходило из глубины души Ливингстона и потому оказывалось особенно действенным. Этим и объясняется его поразительное влияние на африканцев, его власть над их сердцами, духовная власть, которой до него не пользовался ни один европеец, а после него, пожалуй, только Альберт Швейцер.
В немалой степени этому способствовала врачебная практика Ливингстона, отнимавшая у него много времени, хотя облегчением уже было то, что баквена от природы не страдают такими тяжелыми заболеваниями, как холера, туберкулез или рак. Кроме того, у них есть и свои врачи, мнением которых Ливингстон не пренебрегал. Здесь сложилась своя медицина, накоплены соответствующие знания как результат многолетних тщательных наблюдений; немало сведений унаследовано от далеких предков. Против оспы, например, они делают прививку, используя в качестве вакцины возбудителя коровьей оспы. «Со здешними исцелителями у меня всегда было хорошее взаимопонимание, так как я избегал в присутствии пациентов выражать какие-либо сомнения в отношении тех или иных способов их лечения. Однако любой совет, высказанный мною с глазу на глаз, они принимали с благодарностью и охотно переходили к более благоразумным способам лечения. Все они жаждут обзавестись английскими лекарствами, поэтому берут их охотно. Я пришел к выводу, что медицинская помощь во многом помогала нам убедить людей, что мы действительно как-то заинтересованы в их благополучии».
Сечеле брал своего рода частные уроки по письму и чтению, конечно, на основе Библии. Он был прилежен и учился успешно. Уже на первом уроке усвоил весь алфавит и вскоре начал самостоятельно читать Библию.
Своими вопросами он нередко ставил Ливингстона в тупик. Однажды миссионер рассказал ему о страшном суде, когда бог дарует вечное блаженство тем, грехи которых искуплены Христом, а язычников осуждает на вечные муки ада. «Ты внушил мне страх, даже дрожь охватила, силы покинули меня. Но скажи, пожалуйста, знали ли об этом суде твои предки?» Ничего не подозревая, Ливингстон ответил утвердительно. «Мои предки жили в то же время, что и твои, — продолжал Сечеле. — Почему же твои предки в свое время не подали нам весть о божьем суде? Почему же они оставляли нас в вечном мраке и заблуждении?» На это Ливингстон мог лишь ответить, что его предки тогда еще не ведали путей в глубь Африканского материка. Напрашивался вопрос: почему своим белым детям бог даровал избавление, а черным нет? Но он не [43] был задан. А интересно, как бы на него стал отвечать Ливингстон?
Вопреки всем стараниям Ливингстону так и не удалось добиться успеха в своей работе по «спасению душ»: вождь племени был единственным человекам, которого он в результате дружеских бесед в конце концов обратил в христианскую веру. Но нередко новая вера противоречиво переплеталась с прежними его представлениями и поведением. Однажды Ливингстон заявил вождю, что хотел бы, чтобы и другие баквена выразили желание приобщиться к слову божьему. Сечеле был бы очень рад оказать любезность миссионеру, которого уважал и ценил. А поскольку он, как и любой вождь племени, обладал абсолютной властью над подданными, то ответил: «Ты, видимо, полагаешь, что их можно вовлечь в христианскую веру путем убеждения и уговоров? Заверяю тебя, из этого ничего не выйдет. Я просто заставлю их, применяя физические меры. Если ты согласен, я созову наиболее почтенных моих людей, и мы нашими бичами из бегемотовой кожи живо сделаем из них христиан». Ливингстон, безусловно, отверг это предложение.
Когда Ливингстон совершал молитву в доме Сечеле, то никто из местных жителей не являлся туда, кроме членов семьи вождя, да и те приходили туда явно по приказанию последнего. И даже ближайшие его родственники не приняли христианства. Правда, жены Сечеле охотно слушали речи своего мужа и Ливингстона о христианской вере, но и только.
Перед Сечеле тоже, казалось, стоял неразрешимый вопрос: принять или не принять крещение? Ведь будучи христианином, он мог иметь только одну жену. А что же тогда делать с остальными? Ливингстон вполне понимал его затруднения. «В своих поступках он связан своими женами. И вот ему приходит в голову оригинальная мысль: он охотно, мол, уехал бы куда-нибудь в другую страну на три-четыре года, чтобы учиться там, в надежде, что за это время его жены найдут себе других мужей. Затем он вернулся бы и устроил тайную вечерю и поделился бы со своими людьми теми знаниями, которые он получил. Сечеле, по-видимому, не так-то просто покинуть своих жен: он очень привязан к ним. Со многими из них у меня хорошие отношения, они мои лучшие ученицы, мои неизменные друзья». Да, таковы многие из его жен, но не все. Как раз главная жена Сечеле крайне неприязненно относится к новой вере и новым обычаям вождя и при каждом удобном случае открыто проявляет свое недовольство. Даже на молитву она приходит в одеянии Евы, и Ливингстон не раз видел, как Сечеле отсылал ее, чтобы та надела хотя бы юбку, и как она, уходя, корчила презрительную гримасу. [44]
Да, нелегко Сечеле расстаться с женами, и не только по личным мотивам. Это было крушение тех устоев, на которых зиждилось его общество, мир людей с их исконными обычаями и привычками; одновременно это и вызов родственникам его жен. И кто знает, сумеют ли они безропотно примириться с такой ломкой привычной жизни? Поэтому Ливингстон не торопил Сечеле: последний шаг он должен сделать обдуманно и добровольно. Вождь все же решился на такой нелегкий шаг: 1 октября 1848 года он и его дети приняли крещение в присутствии большой толпы соплеменников. Во время свершения обряда Ливингстон видел на глазах у некоторых стариков слезы. И когда спросил, почему они плакали, те ответили: «Слишком печальный конец у нашего вождя». Они полагали, что белый человек при помощи колдовской силы полностью подчинил вождя своей воле.
Каждой из лишних жен Сечеле подарил обновку и часть имущества, которое находилось в их хижинах. С этим он и отослал их к родителям. Отправляя, он велел им сказать родителям, что к бывшим своим женам, их дочерям, он не имеет никаких претензий, никаких упреков; взятый на себя долг супруга он слагает лишь ради того, чтобы исполнить божью волю.
Ливингстон наконец добился первого успеха — но какой ценой! После крещения вождя и отсылки им лишних жен в родительский дом число противников миссионера приняло опасные размеры. Родственники и друзья отвергнутых жен стали открытыми врагами новой религии. Теперь уже, кроме самого Сечеле и его детей, почти никто не являлся в школу и на богослужение. Хотя Ливингстона и его жену баквена встречали все еще «с почтительной доброжелательностью», но вождя своего они осыпали проклятиями, не остерегаясь теперь говорить ему это в глаза. Прежде такое не осталось бы без ответа: вождь непременно наказал бы их.
Круг людей, охваченных глубоким отвращением к новой вере, неумолимо расширялся и еще по одной весьма прискорбной и неустранимой причине, и тут Ливингстон был бессилен что-либо предпринять. В первый же год его пребывания среди баквена местность постигла продолжительная засуха. В таких случаях по старому обычаю заклинатели прибегали ко всякому колдовству, лишь бы вызвать дождь. Вера в действенность этого способа глубоко укоренилась в людях. Сечеле считали знаменитым «дождевым доктором», да и сам он непоколебимо верил в силу своего колдовства. Ливингстон не запрещал ему творить заклинания, но настойчиво уговаривал отречься от суеверия. Сечеле же говорил, что от этого ему отказаться труднее, чем от всех других взглядов и обычаев, которых лишило его христианство. Однако Сечеле, как в свое [45] время и жители Лепелоле, согласился на строительство канала, дабы отвести на поля и огороды воды реки Колобенг, и выделил для работы свыше ста человек. И попытка удалась — речная вода спасла урожай.
Но на второй год снова наступила засуха, да и третий год оказался таким же. Река Колобенг совсем пересохла. В ней погибло так много рыбы, что гиены, почуяв добычу, прибывали сюда издалека, чтобы вдоволь насытиться. Время от времени, правда, скоплялись многообещающие грозовые тучи, издали доносились раскаты грома, однако на следующее утро на безоблачном небе снова сияло солнце и палило землю своими безжалостными лучами.
На четвертый год засуха обернулась катастрофой. Зерновые сохли на корню. Ливингстон вместе с баквена все более и более углублялись в пересохшее русло Колобенга. Нужна вода — тут уж не до обилия, сохранить хотя бы деревья от гибели. Но все напрасно. Листья на деревьях морщились и опадали. Уже в прошлые годы баквена жили впроголодь, а теперь наступил настоящий голод.
До прибытия сюда миссионера дожди все же выпадали и пищи хватало. Нескончаемая злая засуха пришла вместе с ним. Ливингстон, естественно, воспринял засуху просто как бедствие, но баквена невозможно было убедить. Они, правда, относились к нему по-прежнему дружелюбно и почтительно, однако год от года им становилось яснее, что он проповедует лжеучение. Церковь стали обходить стороной. Свои мысли о нем они не высказывали открыто, однако Ливингстон слышал, как люди сожалели, что напрасно его не разорвал тогда в Маботсе лев. А один очень видный и отнюдь не глупый человек, дядя Сечеле, однажды сказал Ливингстону: «Мы любим тебя, ты как бы свой у нас. Но нам хотелось бы, чтобы ты покончил с этими вечными проповедями и молитвами. Ты ведь сам видишь, у нас не стало дождей, в то время как в других местах, никогда не знавших твоих молитв, идут ливни». Тут Ливингстон был бессилен что-либо возразить. Он сам не раз наблюдал, как в отдалении, в горах, лились дожди, но баквена при этом не перепадало ни капли.
Жители полагали, что он заколдовал их вождя злыми чарами, поэтому тот с тех пор так изменился. Они не раз посылали к Ливингстону делегации степенных, видных людей племени, которые умоляли его, чтобы он разрешил Сечеле приколдовать хотя бы несколько ливней: «Пусть он на этот раз вызовет дождь, и мы все, мужчины, женщины, дети, будем ходить в школу, петь и молиться, сколько ты пожелаешь!».
Напрасно Ливингстон пытался их убедить, что Сечеле поступает [46] так только по собственному разумению и совершенно добровольно наложил на себя послушание законам, установленным Библией. Его глубоко омрачало то, что в глазах этих добродушных людей он выглядел бессердечным. А отклонение их просьбы лишь усилило убеждение, что Сечеле заколдован им. Но, будучи миссионером, мог ли он поступать иначе? Вправе ли он отступать перед их суеверием? Как можно надеяться убедить их в истинности его учения, если он признает правоту колдунов? В то же время он чувствовал, что нетерпимость его лишь усилит их отвращение к христианскому учению и в конце концов все его старания в Колобенге пропадут даром.
В споре с заклинателями дождя его положение оказывалось не из легких, потому что на стороне заклинателей были все их соплеменники, к тому же они показали себя умными партнерами в споре. С одним заклинателем дождя разговор, по словам Ливингстона, протекал примерно так:
Ливингстон. Ну вот, мой дорогой, у тебя тут целый комплект «лекарств» (так называют они средства заклинания).
Заклинатель дождя. Да, они нужны мне: земля пересыхает, ты ведь знаешь.
Ливингстон. Всерьез ли ты веришь, что можешь повелевать облаками? В моем представлении все во власти бога.
Заклинатель дождя. Тут мы с вами имеем в виду одно и то же. Бог тот, кто творит дождь, а я хочу умилостивить его этими «лекарствами».
Ливингстон. Но в проповеди нашего спасителя сказано, что бог слышит только молитвы наши, при помощи же «лекарств» ты не достигнешь бога.
Заклинатель дождя. А нас бог другому учит. Черных он сотворил первыми, но белых любит больше. Вам он даровал одежду, оружие, порох, коней, повозки и много других вещей, о которых мы даже и не ведаем; нам же пожаловал лишь скот, ассагаиf) да вразумил искусству вызывать дождь. Даже таким сердцем, как ваше, он не удостоил нас. Мы не проникнуты духом любви друг к другу. Другие племена заколдовали нашу землю, чтобы дождь не шел. Этим они хотят вынудить нас покориться им или умереть голодной смертью. Нам надо освободиться от злого заклятия, и сделать это можно только колдовской силой с помощью таких вот [47] «лекарств». Вам не следовало бы пренебрежительно относиться к нашим познаниям, полученным нами от бога, только на том основании, что они недоступны вам. Для нас также непостижима ваша книга, однако мы не относимся к ней неуважительно.
Ливингстон. Я отнюдь не собираюсь относиться пренебрежительно к тому, что непостижимо для меня. У меня сложилось лишь убеждение, что вы заблуждаетесь, полагая, что при помощи ваших «лекарств» можно вызвать тучи.
Заклинатель дождя. Вы ведь тоже пользуетесь лекарствами и верите, что ими можно излечить больного. Итак, оба мы, по сути, являемся все же докторами. Иногда богу так угодно, чтобы больной исцелился при помощи вашего лекарства, а иногда и нет — тогда больной умирает, несмотря на все ваши лекарства. Так же и у нас. То бог пошлет нам дождь, то нет. Когда больной у вас все же умирает, то из-за этого вы не теряете доверия к своим лекарствам и не отказываетесь от них. Так же поступаем и мы, когда не удается вызвать дождь. Если ты хочешь, чтобы мы отказались от своих лекарств, почему же ты держишься за свои?
Долго еще продолжалась эта философская полемика, но Ливингстону так и не удалось одержать верх над своим «оппонентом». Он признавался, что, несмотря на все старания, ему не удалось переубедить ни одного заклинателя дождя. Правда, в спорах он был очень осторожен, боясь, как бы его не заподозрили в нежелании, а может быть, и противодействии успехам заклинателя дождя. В эту-то западню и старались заманить его заклинатели. Если бы он попался на эту уловку, то все племя стало бы его открытым врагом.
Ливингстон всегда подчеркивал, что баквена никак не откажешь ни в интеллектуальности, ни в практических познаниях. «Они необычайно хорошо осведомлены обо всем, что касается коров, овец и коз, и точно знают, какое пастбище нужно каждой породе скота; для посева различных злаков они с полным знанием дела выбирают строго соответствующие разновидности почвы. Баквена хорошо знакомы и с повадками диких животных».
При неурожае они обходились как могли. Женщины отказывались от своих украшений, чтобы выменять на них зерно у более удачливых племен. Дети бродили повсюду, собирая различные коренья и клубни. Мужчины отправлялись на охоту. Для охоты на буйвола, зебру, жирафа, носорога, антилопу они применяли глубоко вырытые, тщательно замаскированные ловушки, устраивая их в конце постепенно сужающейся засеки, куда криками, гиканьем и метанием копий загоняли зверя.
Ливингстон строго следил за тем, чтобы он сам и его семья не [48] стали обузой для баквена. Во время засухи он получал зерно из Курумана. Но оно, конечно, поступало не всегда вовремя, а иногда и в недостаточном количестве. Семья часто длительное время питалась отрубями, которые обычно трижды перемалывали, чтобы они приняли подобие муки. Всем не хватало мясной пищи: с искалеченной рукой он был плохим охотником. От каждого убитого животного соплеменники посылали Сечеле его долю мяса, изрядную часть которой вождь передавал Ливингстону. Но все это было от случая к случаю. Ливингстоны рады были, если им иногда удавалось заполучить блюдо из саранчи: в стране бечуана ее едят с медом или поджаривают и толкут. Голодающим детям миссионера жители время от времени из сострадания дарили как лакомство крупных гусениц. Крупных лягушек, напоминающих в поджаренном виде цыплят, дети поедали с жадностью. У маленького Роберта в Колобенге появились две сестренки. Четвертый ребенок в семье Ливингстона — «очаровательная девочка с голубыми глазами» умерла через шесть недель после рождения во время эпидемии, охватившей местность.
 | Миссионер становится исследователем-путешественникомПервое открытие Ливингстона — озеро Нгами |
Еще в Капской колонии Ливингстон слышал от других миссионеров о лежащем далеко на севере большом озере, которое никто из европейцев не видел. С тех пор мысль об этом озере неотступно преследовала его. И вот дремавшая с юношеских лет страсть к исследованиям проснулась в нем. Заговорило и честолюбие: хорошо бы оказаться первым европейцем, который увидит собственными глазами таинственное озеро и поведает о нем миру. Именно там обитает племя макололо во главе с великим вождем Себитуане, это о нем так много рассказывал ему Сечеле. Ливингстон давно уже .хотел познакомиться с этим человеком.
Весной 1849 года он наконец решил отправиться в путешествие. Засуха не прекращалась, и баквена вынуждены были покинуть Колобенг и поискать другое, более благоприятное место. Это и побудило Ливингстона предпринять путешествие. Ведь если баквена уйдут, что он будет делать здесь? Он сознавал, что его «миссионерская деятельность среди бечуана зашла в тупик». Остается лишь подыскать новое поприще для миссионерской деятельности. Возможно, среди макололо ему повезет больше.
Как раз в это время в Колобенг прибывает посольство вождя Лечулатебе, который со своим племенем обитает в окрестностях озера Нгами. Посланцы передали Ливингстону приглашение от вождя навестить его. Они рассказали об обилии слоновой кости в их стране. Там, мол, даже загоны для скота строят из слоновых бивней необыкновенных размеров.
Для баквена это не было новостью. Сечеле слышал уже, что там много слонов и слоновая кость очень дешевая, и хотел знать, как туда добраться. Поездка дала бы ему возможность нанести визит своему благодетелю Себитуане, хотя сделал бы он это не столько из чувства благодарности, как полагал Ливингстон, сколько из желания похвалиться новыми познаниями и белым другом, а заодно и получить богатые подарки, полагающиеся гостю. [50]
Путь к озеру Нгами проходил через земли другого племени бечуана — бамангвато, вождем которого был Секомо. Сечеле тот час же отправляет туда посланца, знатного человека, и посылает вождю в качестве подарка вола. Посланцу было поручено добиться у вождя разрешения на проход Ливингстона через земли бамангвато. Вождь баквена, дескать, рад тому, что его белый друг поможет ему проложить туда путь. Однако Секомо отклонил просьбу. Дело в том, что он получает много слоновой кости из окрестностей озера Нгами, и почти даром, так чего ради он будет указывать другим путь к этим сокровищам. Причину же отказа Секомо указывал другую: «На пути к озеру обитают матабеле — смертельные враги бечуана. И если они убьют белого человека, белые будут обвинять бечуана, почему, мол, не уберегли».
Для Ливингстона было ясно, что скрыто за этой мотивировкой, но его нелегко было отговорить от принятого решения. Он пойдет в обход племени бамангвато — вдоль восточного края пустыни Калахари. Своего друга Сечеле Ливингстон настоятельно отговаривал от поездки, боясь, что буры воспользуются отсутствием вождя и осуществят неоднократно повторявшуюся ими угрозу вторжения в земли баквена. Тогда баквена могли бы бросить упрек ему, что он увлек их военачальника и тем самым оказал услугу бурам. Сечеле согласился с доводами Ливингстона и остался в Колобенге. Но перед отъездом он предупредил Ливингстона, что пустыня, протянувшаяся от Оранжевой реки на север почти до озера Нгами, коварна: «Через эти земли ты не доберешься до поселений по ту сторону пустыни. Даже нам, местным жителям, это удается только в необычно дождливое время, когда в Калахари бывает хороший урожай арбузов».
Но прежде чем отправиться к озеру Нгами, Ливингстон предпринимает второе, на сей раз трехсотмильное, путешествие из Колобенга в Трансвааль, чтобы поговорить с Гендриком Потгитером, под водительством которого буры перебрались за реку Вааль. Ливингстон, правда, опасался, что во время его отсутствия буры снова будут угрожать баквена. Они неоднократно письменно требовали, чтобы Сечеле прибыл к ним, перешел под их покровительство и изгнал из своей земли английских купцов, которые продают бечуана оружие. Сечеле отвечал им: «Не вы, а бог облек меня властью независимого вождя моего племени. Англичане — мои друзья. Я достаю у них все, в чем нуждаюсь, и не могу чинить им препятствий». Послания буров и их угрозы продолжались, и баквена жили в постоянном страхе перед нападением. Сечеле не [51] отважился сопровождать Ливингстона в поездке к бурам. Он, как и миссионер, хорошо знал, что его ответ не удовлетворил буров.
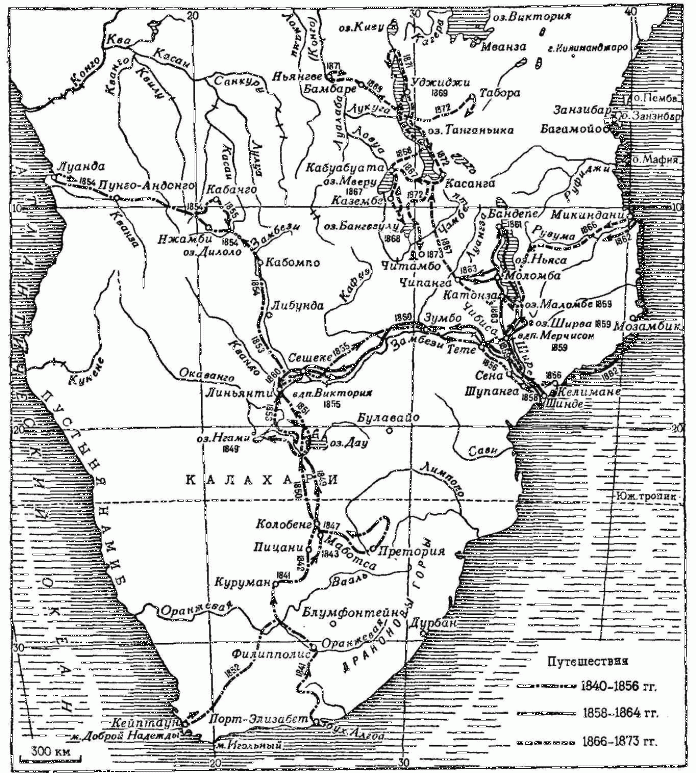
Путешествия Ливингстона
К Ливингстону буры относились предупредительно и почтительно. Он не избегал их, бесплатно лечил больных, снабжал лекарствами. Но трансваальские буры — самые закоренелые поборники рабства. Они никак не могли простить англичанам те, по их [52] понятиям, потери, которые они понесли в результате избавления готтентотов от рабства. Буры покинули старые места, чтобы основать собственное «Свободное государство», где они могли бы и дальше безнаказанно «обходиться с черными надлежащим образом» — в их понимании, конечно. Об их «надлежащем обхождении» можно судить уже по тому документу, который они подавали полстолетия назад тогдашнему голландскому губернатору Капской колонии: «Каждый бушмен или готтентот, будь то мужчина или женщина, которые были или будут пленены отрядами или одиночками, являются законной собственностью их владельцев. Они должны из рода в род выполнять для владельца работы. Ежели такой готтентот сбежит, за собственником сохраняется право преследовать и по заслугам наказать его, как он сочтет нужным».
Ливингстон знал, что его пребывание среди баквена служит помехой бурам, они ведь писали уже миссионерскому обществу в Капской колонии, чтобы его незамедлительно отозвали, так как он предоставил, мол, их врагам пушку. Они чернили Ливингстона и перед колониальными властями и преуспели в этом: среди земляков он прослыл «очень подозрительным человеком».
Так называемая «пушка» в действительности оказалась всего-навсего кухонным котлом, который Ливингстон одолжил Сечеле. Котел же. подогреваемый ненавистью буров, превратился в опасную военную машину. А пять ружей, действительно купленных баквена у английских купцов, в глазах буров превратились в пятьсот. Это преувеличение в какой-то мере пошло на пользу баквена: страх перед якобы хорошо вооруженным племенем восемь лет сдерживал желание буров перейти от угроз к нападению.
Впрочем, вполне возможно, что у баквена было не пять, а больше ружей. Время от времени буры заглядывали в Колобенг — одни открыто, чтобы получить врачебный совет у Ливингстона, другие тайком. Они приносили с собой то мушкет, то порох для продажи, а заодно старались выведать у баквена об их оружии, о вожде, а также о деятельности миссионера.
Визит Ливингстона к Потгитеру все же не остался без последствий. Правда, вождь буров пришел в крайнюю ярость, когда Ливингстон сказал ему, что непристойно удерживать язычников от приобщения к Евангелию, и угрожал вторжением в земли любого племени, которое примет у себя африканца-учителя. Но в конце концов успокоился и обещал даже принять меры, чтобы подчиненные ему племена позволили Ливингстону беспрепятственно пройти через их земли.
В пути не обошлось без приключений. Ливингстону довелось испытать многое в глуши, но он не любил говорить о личных заслугах [53] или приукрашивать пережитую опасность. Рассказывал он о них лишь мимоходом. Во время поездки к бурам в декабре 1848 года его сопровождал помощник по миссионерской службе из местных жителей по имени Поль. Когда они искали брод в пересыхавшем русле реки, между ними и фургоном вдруг поднялись со своего лежбища носороги — мамаша с детенышем. Ружья лежали в фургоне, и путникам оставалось лишь, пригнувшись, попытаться укрыться. Потревоженная мать набросилась на фургон, сломала колесо и, довольная, удалилась. Ливингстон и Поль отделались лишь испугом.
В мае 1849 года в Колобенг прибывает двое англичан — Осуэлл и Мэррей, высказавшие желание вместе с Ливингстоном отправиться в путешествие. Один из них, Осуэлл, когда-то жил в Индии и занимал там видное положение. Он богат, а в Африку прибыл, чтобы позабавиться охотой на крупную дичь. Он заметил, что Ливингстону нечем платить проводникам, и взял эту заботу на себя. У Ливингстона как гора с плеч свалилась. Получая сто фунтов в год, он вынужден был считать каждый пенс.
Англичане не раз навещали его в Колобенге. Почти все они были проезжими охотниками на крупную дичь. Один из них как-то, уезжая на родину, «по забывчивости» даже не вознаградил своих проводников и помощников за услуги. «Чтобы не запятнать честь англичан», миссионер вынужден был из своих скудных средств заплатить долг этого господина.
1 июня 1849 года экспедиция выступила наконец в путь к озеру Нгами — двадцать человек, двадцать лошадей и более восьмидесяти волов.
Между Колобенгом и озером раскинулась пустыня Калахари, так пугавшая баквена: там не встретишь ни одного ручейка, лишь изредка попадаются родники. Из предосторожности Ливингстон все время придерживался ее края. Он установил, что наводящая ужас Калахари — отнюдь не безжизненное песчаное море. Местами там встречается скудная травяная растительность. Большие участки песчаной поверхности покрыты колючей кустарниковой акацией, то тут, то там торчит отдельное деревцо. Высохшие русла рек из конца в конец бороздят обширную равнину. По ней носятся большие стада антилоп. После дождей в углублениях русел еще долго сохраняются лужи.
Истощенные, малорослые бушмены бродят по просторам Калахари, питаются они дичью, которую убивают отравленными стрелами, а также кореньями и клубнями растений. Кроме них здесь обитают хилые и боязливые бакалахари; «ба» означает люди, отсюда бакалахари — жители Калахари. Ливингстон находит, что [54] это потомки бечуана, издавна оттесненные в пустыню. Они живут маленькими поселками, воду добывают из глубоко вырытых колодцев, обрабатывают крошечные огороды, где выращивают главным образом арбузы и тыквы, разводят скот, в основном овец.
В давние времена дожди в Калахари выпадали чаще, и дикие арбузы росли в изобилии. В последние годы засуха постепенно усиливалась, и прежние урожаи стали редкими.
Погонщики до хрипоты покрикивали на волов, в воздухе щелкали бичи, со свистом опускаясь на спины несчастных животных. Часто колеса глубоко погружались в песок, и волы замедляли и без того неторопливый шаг. Продвигаться можно было только утром и вечером: днем на сильном пекле волы быстро уставали. К колесу фургона был прикреплен прибор, отсчитывавший в пути обороты; сумма их, помноженная на окружность колеса, показывала пройденное расстояние.
Колодцы в поселениях бакалахари были настолько маловодными, что воды не хватало даже для того, чтобы напоить волов, и приходилось сначала углублять их. А бывало и так, что вместо ожидаемого источника путники находили лишь углубление, занесенное илом. Тогда начинали копать, часто на глубину до двух метров, пока не доходили до водоносного слоя. Проводники-баквена предостерегали, что не следует углубляться в самый нижний почвенный слой, состоящий из уплотненного песка или песчаника. Если пробьешь эту корку, накопившаяся над ней вода уйдет в нижние слои. На водопое устанавливалась определенная очередность: сначала поили лошадей — они незаменимы на охоте, оставшуюся воду давали волам.
Однажды путникам пришлось три дня подряд преодолевать безводную местность. Трава оказалась такой сухой, что в руках легко превращалась в порошок. Изнуренные волы не могли найти свежего стебелька; но особенно протяжно и жалобно мычали они, когда чуяли, что в сосудах на повозках все еще хранится какой-то запас питьевой воды. На третий день высланные вперед проводники возвратились с радостной вестью: им удалось найти воду. В поисках ее они пользовались тропами зверей. Наконец караван подошел к глубокой луже, образовавшейся от стока дождевых вод. Мучимые жаждой, волы с ходу бросаются в воду и, забравшись по самую шею, пьют длинными глотками, пока не вспучиваются впалые бока, готовые, кажется, вот-вот лопнуть; затем волы спешат пастись — так заманчива была повсюду свежая зелень. Проводники-баквена заверяли: худший участок пути остался позади.
Далее путь шел по высохшему руслу реки. Долина постепенно расширялась, образуя нечто вроде котловины, когда-то, видимо, [55] заполненной водой: в почве Ливингстон обнаружил ракушки, какие позже он находил в озере Нгами. Это навело его на мысль, что Нгами — лишь остаток некогда более обширного озера.
Однажды вечером Осуэлл ехал намного впереди каравана. И вдруг он снимает шляпу, бросает ее высоко вверх, одновременно издавая громкий крик радости: он видит столь желанное озеро! Глазам Ливингстона, скакавшего вслед за ним, также открылась обширная водная поверхность, серебром сверкавшая в лучах заходящего солнца. В воде отражались окружающие деревья, а вдоль дальнего берега двигалось как будто стадо слонов.
Ливингстон испытывает чувство досады. Миссионера охватывает обида, что не он первым из европейцев увидел озеро, о котором так много говорили и которое до сих пор, однако, оставалось неизвестным. Этот прилив зависти свидетельствовал о том, что Ливингстон не лишен некоторой доли честолюбия, но показательно, что в отчете о путешествии он не умолчал об этой слабости, а искренне рассказал о ней. Читая описание этого момента и вообще всего путешествия, забываешь даже, что оно предпринято миссионером, — так сильно охватили Ливингстона радость исследователя и честолюбие первооткрывателя.
И вот европейцы и африканцы, лошади и волы — все спешат к воде. Но через мгновение, когда туман рассеялся, озеро исчезло, а за полоской деревьев на горизонте простиралось огромное сверкающее соляное блюдце. Мираж вводит в заблуждение не только людей, но и животных. На западе и северо-западе поднимаются черные облака дыма. Местные проводники высказывают мнение, что это жгут камыш на большой реке. Однако до озера Нгами еще далеко — более четырехсот километров!
Через несколько дней экспедиция достигла большой реки, известной под названием Зуга. Говорят, она вытекает из желанного озера. Теперь трудно сбиться с пути. Экспедиция движется вверх по течению. В поселениях путешественников принимают дружелюбно. В одной деревне они оставили фургоны и волов, за исключением небольшой повозки Осуэлла. Надо, чтобы перед отправкой в обратный путь волы отдохнули. Ливингстон, Осуэлл и Мэррей пересели в попутные челны: в них удобнее, чем в фургоне. Владельцы этих челнов, возвращавшиеся домой, предпочитали ночью спать в лодках, а не на суше. «Там бродят львы, гиены, ползают змеи, могут встретиться и наши враги, — объясняют они, — а в челноке, упрятанном в зарослях камыша, несчастье не подстерегает нас». В челноках постоянно поддерживается огонь, над которым висит горшок для варева: не нужно высаживаться на берег, чтобы приготовить пищу. [56]
Плывя вдоль берегов, поросших лесом, путешественники через несколько дней достигли устья широкого притока реки Зуги. «Откуда он течет?» — спрашивает Ливингстон. «О, из той страны, где полно рек; там их так много, что не сочтешь; там растет еще множество больших деревьев». Эти сведения заставили Ливингстона задуматься: значит, недоступная внутренняя часть Африки совсем не песчаное плоскогорье огромных размеров, как предполагали европейские географы. Все предвещало дальнейшие важные открытия, и не только для географов. Среди многочисленных рек там, может быть, есть и судоходная река, достигающая берегов океана. Это был бы водный путь, по которому можно проникнуть с океанского побережья во внутренние области материка, чтобы приобщить к христианству и благам цивилизации живущих там людей. В глубине души Ливингстон все же был неудовлетворен: многолетняя трудная и кропотливая миссионерская деятельность в Ма-ботсе, Чонуане и Колобенге принесла жалкие, ненадежные плоды. Это чувство толкало его на поиски выхода из создавшегося «тупика». И тут вдруг вырисовывается выход. Впервые — еще не совсем ясно — перед ним, неизвестным бедным миссионером, предстает захватывающая дух перспектива: найти пути в неисследованные глубинные районы материка ради блага людей, живущих там. Но призрачные идеи быстро блекнут и исчезают, как мираж. Властно вступает в свои права реальная действительность: надо создать новый Колобенг, «родину» для близких ему людей, а для него самого открывается более перспективное поле деятельности в царстве Себитуане.
Спустя двенадцать дней поездка в челноках заканчивается прибытием к озеру Нгами. «1 августа 1849 года все мы подплыли к наиболее широкой его части, и взорам европейцев впервые открылась эта великолепная водная гладь». Почти повсюду, насколько хватает глаз, плоские берега, заболоченные и заросшие тростником. Озеро, по-видимому, мелководно: даже вдали от берега местные жители плыли в челноках, отталкиваясь короткими шестами. Позже оно стало жертвой прогрессирующего высыхания Южной Африки — на его месте новые карты показывают лишь обширные заболоченные пространства.2)
На берегах озера обитает племя, подвластное тому самому Лечула-тебе, посланец которого приходил весной в Колобенг, чтобы передать от вождя приглашение Ливингстону. Лечулатебе еще [57] довольно молодой человек, но, как вскоре оказалось, с очень тяжелым характером. Его отец когда-то потерпел поражение в войне с Себитуане, и сам он некоторое время рос пленником, пока дядя не выкупил его и не передал ему власть вождя. Дядя его, старый и очень рассудительный человек, советовал молодому вождю быть предупредительным к чужеземцам. Однако совсем недавно полученная власть, кажется, вскружила ему голову, и он часто поступал вопреки советам дяди. Когда прибыли чужеземные гости, он подарил им козла вместо вола, как полагалось. Ливингстон тут же предложил развязать и отпустить на волю животное: он прекрасно знал местные обычаи и понимал, что принять такой подарок унизительно. Однако его спутники не пожелали огорчать вождя и приняли дар. А когда Ливингстон выразил желание купить пару коз или вола, Лечулатебе предложил ему слоновьи клыки: «Вы, белые, ведь любите эти кости». «Но мы ведь не можем ими питаться, — возразил Ливингстон, — сейчас мы голодны и нам нужна пища». Вождь присмирел, и, подумав, пояснил, что козы нужны ему самому.
На здешних людей слоновая кость не производила должного впечатления. Слоновьи клыки они обычно бросали вместе с отходами после разделки туши убитого слона. Один купец, присоединившийся к экспедиции Ливингстона, за мушкет стоимостью тридцать шиллингов выменял десять больших бивней. Но через два года все изменилось: купцы, шедшие по следам путешественника, заметили, что местные жители имели уже более реальное представление об истинной ценности слоновой кости.
Когда Ливингстон попросил у Лечулатебе проводника для поездки к Себитуане, тот также отказал, потому что он опасался вождя могучего племени макололо. Но еще больше боялся того, что путь к Себитуане будет открыт и другим белым и они будут поставлять ему ружья и боеприпасы. Лечулатебе хотелось, чтобы европейские купцы по-прежнему добирались только до него и не далее и только ему продавали огнестрельное оружие. Со временем он надеялся, таким образом, стать сильнее владыки макололо и поменяться с ним ролями — пусть трепещет тогда перед ним Себитуане!
Ливингстон объяснил ему свое желание: пусть всегда будет мир между обоими вождями. Однако переубедить Лечулатебе было невозможно; он готов предложить Ливингстону столько слоновой кости, сколько тот пожелает, при условии, что Ливингстон откажется от поездки к Себитуане. Ливингстон и Осуэлл все же намерены продолжить путь дальше верхом на лошадях, но Лечулатебе не только не дал им проводников, но и выслал вперед своих людей, которые чинили бы им препятствия при переправе через реку Зуга, [58] Путешественники пытаются перебраться через реку в единственном узком месте. Часами трудится в воде Ливингстон, чтобы соорудить плот, но тщетно: сухое дерево не выдерживает тяжести, а река все же довольно широка и глубока. «Тогда я еще не знал, что в реке Зуга водится так много крокодилов, и вспоминаю о работе в воде не без того, чтобы поблагодарить в душе бога, что мне удалось избежать опасности».
Лечулатебе был непоколебим в своем упрямстве, и Ливингстону ничего не оставалось, как отказаться на этот раз от поездки к Себитуане и вернуться в Колобенг Но замыслы свои он все же не оставил.
В апреле 1850 года он вторично предпринимает поездку к Себитуане; на сей раз его сопровождают жена, трое детей и Сечеле. И путь избран иной, в стороне от резиденции Лечулатебе. На этот раз и Сечеле купил себе фургон с воловьей упряжкой. Поскольку Ливингстон не пожелал навестить по пути Лечулатебе, Сечеле, намеревавшийся с ним повидаться, расстался с путниками у брода через реку Зуга. Одолев реку, Ливингстон продолжает путь по северному ее берегу и далее вдоль одного из ее притоков. Путь оказался очень тяжелым: приходилось валить деревья, чтобы расчистить дорогу для фургона. Иногда волы проваливались в охотничьи ловушки, предназначенные для крупной дичи, тогда их оставалось только убивать. Однако наибольшее огорчение Ливингстону доставило сообщение, что в окрестностях притока, которым он следовал, водится муха цеце. Нависала угроза лишиться всех волов, тогда пришлось бы бросить фургоны и на какое-то время оставить свою семью в этой глуши, где трудно достать пропитание. Сообщение о мухе цеце вынудило его переправиться снова на южный берег и по пути все же заехать к Лечулатебе, куда приедет и Сечеле.
Молодой вождь снова долго отказывается помочь ему пробраться к Себитуане. Но за хорошее ружье он наконец соглашается дать проводника и в отсутствие Ливингстона обещает снабдить мясом его семью, которой было необходимо остаться у озера Нгами. Однако, когда все уже было готово к отъезду, дети и слуги заболели лихорадкой. Ливингстон не мог оставить их без врачебной помощи. Но лучшее средство против малярии — уехать подальше от озера с его влажным климатом.
Ливингстону пришлось вторично отложить поездку к Себитуане и возвратиться назад. Однако ружье он все же отдал Лечулатебе в счет оплаты проводника в следующем году. [59]
Верный своему девизу «Попытайся еще!», Ливингстон на следующий год в третий раз готовится в путь к Себитуане с семьей и снова новым путем. С ним едет и Осуэлл. Многие сотни миль тянется караван по бесконечной равнине, поросшей низкой травой да одиночными баобабами. То тут, то там простираются обширные солончаки, лишенные всякой растительности, а по краям выходят соляные источники. Здесь живут бушмены. Высокие, темнокожие, они резко отличаются от желтокожих людей карликового роста, которых Ливингстон встречал в Калахари. Один из них, по имени Шобо, вызвался провести чужеземцев по полупустынным местам в земли Себитуане, но предупредил о ненадежности источников в этих местах.
Вначале еще кое-где попадались во впадинах лужи, затем потянулась безводная местность. Изредка встречался низкорослый кустарник, закрепившийся в глубоком песчаном слое. Не было ни птиц, ни насекомых. Уже на второй день проводник заблудился. Безуспешно метался он по следам слонов, навещавших эти места во время дождей, и наконец устало опустился на землю и выдавил из себя: «Воды нет, всюду земля и земля. У Шобо нет больше сил, надо поспать. Повсюду только земля!» Затем он прилег и тут же заснул, а на утро третьего дня бесследно исчез. Двигаясь дальше, Ливингстон определял путь по компасу. Волы были измучены жаждой и трудностями пути; продвижение угрожающе замедлялось.
Около одиннадцати часов путники заметили птиц и обнаружили следы носорога, тотчас же выпрягли волов и отпустили их. Те быстро двинулись на запад. Несколько слуг Ливингстона последовали за ними. Надо было что-то предпринять. Запасы воды, хранившиеся на повозке, из-за невнимательности одного из слуг были бесцельно израсходованы. К вечеру ее осталось так мало, что решено было выдавать только детям. Для Ливингстона и его жены это была ужасная ночь. Наступило утро. Теперь и дети должны были испытать муки жажды. «От одной лишь мысли, что на наших глазах они могут умереть от жажды, становилось жутко. И чуть ли не утешением было бы для меня, если бы кто-нибудь бросил мне упрек, что в этой катастрофе виновен только я; однако мать этих малышей не проронила ни слова, хотя влажные от слез глаза выдавали ее душевную боль».
К вечеру наконец возвратились слуги с волами и небольшим запасом воды: животные, движимые инстинктом, обнаружили-таки речушку. Но на пути к ней бедным волам пришлось изведать укусы мухи цеце. В одну из следующих ночей каравану снова надо было пересечь местность, где свирепствовал этот бич, и последствия не замедлили сказаться. [60] Для диких животных, а также мулов, ослов и коз укусы мухи цеце безвредны; человек, по-видимому, также имеет иммунитет. (Тогда еще не знали, что цеце — переносчик возбудителя сонной болезни человека.) А лошади и крупный рогатый скот неизбежно погибают от ее укусов. При укусе слепня вол резко вздрагивает, а на укус цеце не реагирует никак. Однако проходит несколько дней, и глаза его начинают слезиться, из носа течет жидкость, а по коже проходит дрожь, как при морозе; на нижней челюсти и около пупка появляются опухоли. Животное, правда, еще ходит, охотно поедает корм, но уже резко худеет; мускулы постепенно слабеют, начинается понос, и наконец животное уже не в состоянии встать, и так может продолжаться месяцами. Иногда оно погибает вскоре после укуса от нарушения центра равновесия и потери зрения.
Ливингстон немедленно переправляется на северный берег, где муха цеце не водится. Волы теперь тщательно оберегаются, и Ливингстон надеется, что в дальнейшем больших потерь не будет.
На реке Чобе, притоке Замбези, путешественники повстречали, как оказалось потом, первых макололо. Те радостно приветствовали Ливингстона, указали дорогу к временной резиденции Себитуане. Когда вождь услышал о приближении европейцев, он выехал им навстречу на сотню миль вперед, чтобы приветствовать. Ливингстон и Осуэлл направились прямо к нему. Себитуане принял их в кругу знатных людей.
И вот Ливингстон стоит перед тем, к кому так упорно добирался. Никто из африканцев, встречавшихся ему, не произвел на него такого яркого и глубокого впечатления, как Себитуане. Он был высокого роста, лет сорока пяти. Кожа у него светло-коричневая, цвета кофе с молоком, волосы слегка поредевшие, осанка царственная, держится с достоинством. После взаимного приветствия Ливингстон рассказал о трудностях, которые ему довелось претерпеть в пути, выразил радость, что все осталось позади и он в конце концов все же дошел до Себитуане. Вождь также был очень доволен встречей и добавил: «Весь ваш скот поражен мухой и, конечно, погибнет, но у меня скота достаточно. Я дам вам сколько надо». И тут же подарил своим гостям вола на мясо и кувшин меду, велел также принести им на ночь в качестве одеял обработанные воловьи шкуры, мягкие, как платок.
На рассвете он появился в лагере путешественников, присел у костра, -который распорядился развести для них за изгородью, и стал рассказывать, как ему еще в молодости довелось пересекать ту же пустыню — он был тогда в землях Сечеле. При последующих встречах Ливингстон услышал от Себитуане рассказ о его жизни, [61] полной приключений. Историю его можно слушать как увлекательный роман. Многие страницы своего путевого отчета Ливингстон посвятил воспроизведению наиболее интересных приключений Себитуане.
Родина Себитуане лежала у западного подножия Драконовых гор, вблизи истоков реки Вааль, в девятистах милях южнее нынешнего места его обитания. Вместе со своим племенем он не раз подвергался изгнанию с только что освоенных мест и в свою очередь теснил на пути другие племена: иначе поступить было нельзя, потому что свободных земель не оставалось. Потеряв пастбища и скот, макололо, руководимые Себитуане, вынуждены были воевать с соседями, чтобы овладеть новыми землями и скотом. На племя нападали буры; пользуясь огнестрельным оружием, они наносили макололо тяжелые потери. Силой и хитростью изгнал Себитуане племя батока с островов реки Замбези; владея ими, батока контролировали движение по реке. Плоскогорья у берегов Замбези представляли собой великолепные пастбища, будто специально созданные для такого пастушеского народа, как макололо. Но здесь на них напал Моселекатсе — вождь матабеле, разгромил их и забрал их жен и скот. Себитуане, однако, удалось собрать оставшихся мужчин своего племени, изгнать захватчиков и вернуть потерянное. Он охотно двинулся бы вниз по Замбези до самого моря, где землями владеют белые, чтобы достать у них пушки. Но предостережение одного «пророка» удержало его от этого шага: «Я вижу там огонь, Себитуане, избегай его, иначе он поглотит тебя! Не ходи туда!» «Пророк», видимо, имел в виду огнестрельное оружие европейцев. Себитуане последовал его совету, повернул на запад и не стал изгонять жившую там народность баротсе (балози), а подчинил людей своей власти и заставил их служить макололо. Моселекатсе не мог стерпеть поражения, дважды он посылал большое войско вслед за продвигавшимися на запад макололо. Упорство, с каким Себитуане защищал свое племя от привыкших к победам матабеле, является ярким свидетельством как личного мужества, так и мудрости вождя.
Тогда матабеле направились к берегам Замбези, где в болотистых низинах обитали батока и макаланга; они занимались рыболовством и обслуживали переправу через реку. Себитуане, узнавший от лазутчиков о намерениях матабеле, приказал лодочникам перевезти вражеских воинов на большой остров реки Чобе, и не знающие страну матабеле сочли его за противоположный берег реки. Себитуане старался укрепить в них это заблуждение: заранее велел переправить туда несколько коз, чтобы место выглядело обжитым. И как только войско Моселекатсе высадилось на [62] острове, лодочники быстро повернули назад. Вплавь преодолеть реку матабеле не смогли, а лодки делать не умели; к тому же влажный климат оказался губительным для них — болотистый остров стал для них лагерем смерти. Запаса продовольствия хватило лишь на несколько дней. Мучимые лихорадкой и голодом, они бродили в этой естественной тюрьме в поисках выхода, но перед ними были открыты лишь широкие кишащие крокодилами потоки Чобе и Замбези, которые во время высокой воды сливались, как бы образуя обширное море. Изнуренные голодом и лихорадкой, один за другим падали пленники и умирали. Оставшиеся в живых были добиты макололо. Некому было донести эту страшную весть Моселекатсе. А когда через своих лазутчиков и из рассказов макаланга он все-таки узнал о случившемся и понял, что его военный поход окончился крахом, то поклялся жестоко отомстить макололо.
Он снарядил новое войско, запасся многочисленными лодками, чтобы не связывать себя с прибрежными жителями. Правда, у него не оказалось надежных проводников, без которых не обойтись в болотистых, бездорожных низинах по берегам Замбези. По приказу Себитуане все жители долины покинули селения и угнали скот. Долго, но безнадежно рыскали матабеле по глухим, заброшенным местам: не было видно ни поселка, ни людей, ни животных. Изнуренные лихорадкой и голодом, они решились на крайний шаг — переправиться через реку. Весь день гоняли они лодки через широкую реку туда и обратно. А когда наступил вечер и войско было уже на «другом берегу», предводитель войска обнаружил, что в действительности они находятся на большом острове. Тогда, выставив караул, они надумали тут заночевать. Однако их положение было безнадежным: провиант на исходе, силы надломлены болотной лихорадкой. К тому же они так и не установили, где им искать противника.
Ночью внезапно послышались удары весел о воду и до слуха дозорных из темноты донесся голос. Это был Себитуане, их враг; он приказал своим людям неустанно наблюдать за противником и теперь под покровом ночи в сопровождении отряда подплывал к острову. Он велел дозорным подозвать к берегу вождей и затем объявил им о безысходности их положения. Собравшиеся на берегу с ужасом вслушивались в зловещие звуки громового голоса, несшегося из мрака бурлящего потока. Себитуане напомнил им о недавнем поражении, нанесенном силой его оружия; он расписывал страшную гибель предыдущего войска, высланного Моселекатсе, и воскликнул, что им он уготовил такую же судьбу. Они, предвещал он, не найдут здесь ни волов, ни коз, чтобы утолить голод, и не потребуется много дней, чтобы лихорадка и истощение [63] довели их до могилы, а уцелевшие найдут свой бесславный конец под секирами его воинов.
Затем все стихло, удары весел слышались слабее и слабее. Охваченные ужасом, матабеле дожидались наступления утра. У них и тени сомнения не было в правдивости предсказаний грозного вождя, и, едва рассвело, они приняли решение быстро спустить свои лодки на воду, усердно заработали веслами, направляясь к южному берегу. Голодные и уставшие, они с трудом пробирались через прибрежные дебри реки Чобе. Так началось отступление. В лесу стояла мертвая тишина, но вдруг все ожило: из мрака леса, рассекая свистом ночную тишину, полетели в них стрелы и копья, и то там, то здесь падали безжизненные тела. Хитрый Себитуане не хотел изматывать свое войско; на борьбу с племенем матабеле он послал подчиненное ему племя батока, и те быстро управились с обессиленными, блуждающими по заболоченному лесу беглецами. Лишь немногие из матабеле остались в живых. Они сообщили своему вождю печальную весть о гибели и этого войска.
Разгадка боевых успехов Себитуане таится прежде всего в его личной храбрости. В отличие от Моселекатсе и других африканских властителей он всегда сам водил в бой воинов. Едва увидев врага, он ощупывал лезвие секиры и восклицал: «Она как бритва, и всякий, кто покажет спину противнику, почувствует ее острие!» Беглецов с поля боя вождь рубил беспощадно. Все знали, что от него не уйдешь. Если кто-либо прятался, чтобы уклониться от решающей схватки, Себитуане спокойно отпускал его домой. Позже звал его к себе и заявлял ему: «Итак, ты предпочитаешь умереть дома, а не в бою. Пусть будет, как ты желаешь». И он давал знак немедленно казнить труса.
Теперь Себитуане покорил все племена на обширном пространстве и держал в страхе спесивого Моселекатсе. Вдоль Замбези он расставил воинские посты, чтобы обезопасить себя от повторного нападения матабеле.
Когда Себитуане узнал о желании Ливингстона посетить его, он предпринял все, что было в его силах, чтобы обеспечить путешествие белых людей. Молодому Лечулатебе, несомненно, досталось бы за препятствия, которые он чинил путешественникам, если бы Ливингстон не заступился за него.
Себитуане знал все, что происходило в его обширном царстве; он умел завоевать уважение и доверие как своих подданных, так и чужеземных гостей. Когда другие люди приходили в его город, чтобы продать то шкуры, то мотыги, он сам выходил им навстречу, приказывал принести муки, молока, меда и в их присутствии готовил [64] из этих продуктов привычные лакомые блюда. Довольные его угощением, приветливостью и щедростью, гости доверчиво рассказывали ему все, что его интересовало. Когда они уходили, он велел каждому вручить подарок, и те всюду распространяли хвалу его доброте и великодушию. «У него доброе сердце, он мудр» — так говорили о нем, и Ливингстон слышал это еще до встречи с ним. «Бесспорно, Себитуане был самым выдающимся человеком, — высказывается Ливингстон о нем, — был лучшим из вождей, которых я когда-либо знал».
Во время поездки по владениям Себитуане путешественники произвели сильное впечатление на местное население: макололо впервые видели белого человека. Однако многие из них уже носили кое-какую одежду из пестрого набивного ситца европейского происхождения. Были у них и мушкеты. Когда Ливингстон спросил их, откуда у них эти вещи, те бесхитростно отвечали, что выменяли их за мальчиков, захваченных «в плен» во время военных походов. Ливингстон был глубоко потрясен: те самые макололо, которые так дружелюбно принимали его, были охотниками за людьми, торговцами рабами! Что же могло побудить их к этому?!
Ответ был весьма прост. Себитуане хотелось приобрести старые португальские мушкеты, чтобы обезопасить себя от возможного нападения матабеле. В обмен на них он предлагал скот или слоновую кость. Однако владельцы оружия хотели получить четырнадцатилетних подростков — штука за штуку. Прежде макололо никогда не занимались торговлей невольниками, своих детей они и сейчас не продают, а продают только захваченных во время военных походов. Теперь они уже преднамеренно устраивают военные походы против других племен для захвата детей и обмена их на ружья. Во время одного такого похода они захватили двести пленных.
Ливингстон был потрясен тем, что такие люди превратились в охотников за рабами. Но может ли он осуждать их? Ведь они вынуждены были поступать так, чтобы защищать себя. Все мучительнее становился для Ливингстона вопрос: как искоренить работорговлю — эту раковую опухоль на теле Африки? Одно ему было ясно: миссионерская деятельность не принесет успеха, пока не прекратится охота за людьми и работорговля, которая ведет к падению моральных устоев коренных жителей. Это он понял, будучи еще в Колобенге. Но что можно противопоставить такому злодеянию? Давно уже ломает он голову над этим. Есть лишь одно средство, которое, как он думал, могло принести успех: найти для европейских промышленников пути в глубь материка, чтобы там обменивать товары на слоновую кость и различные местные [65] изделия. Только такой взаимовыгодный товарообмен нанесет действенный удар по работорговле. Борьба с работорговлей, и не на побережье, а в местах ее зарождения, в глубине материка, казалась теперь Ливингстону более насущной задачей, чем умножение христианских душ. Но для развития торговли нужно сначала проложить путь по суше и воде от побережья внутрь материка. Тогда вместе с купцами туда смогут проникнуть и миссионеры.
Открыть путь для торговли и проникновения цивилизации в глубь Африки, создать условия для миссионерской деятельности — вот главное, чем должны заняться европейцы его времени. Ливингстон считал, что это их, в том числе и его, моральный долг перед африканцами. Прийти к этой мысли для Ливингстона все равно что взвалить на себя эту ношу. Теперь цель его жизни четко определилась: он будет исследовать Африку, искать пути к прогрессу, как он его тогда понимал.
Предприятие, на которое отважился Ливингстон, трудное и опасное, но оно не пугало. Однако будущий исследователь не предполагал, что осуществление намеченного им плана приведет к прямо противоположным результатам: вместо помощи африканцев ожидало колониальное угнетение. В дальнейшем деятельность Ливингстона еще больше способствовала британской экспансии, хотя его взгляды по-прежнему были противоположны взглядам колонизаторов. Для английских купцов и предпринимателей торговля и цивилизация в Африке — лишь новые возможности для наживы, для Ливингстона же — средство приобщения африканцев к прогрессу и культуре.
Прибытие Ливингстона с женой и детьми обрадовало Себитуане: он усматривал в этом визите доказательство искреннего доверия к нему. Намереваясь совершить путешествие, чтобы показать гостям подвластные ему земли, Себитуане хотел взять всю семью Ливингстона.
Однако осуществить этот замысел не удалось. Себитуане заболел воспалением легких. Ливингстон знал, что жизнь вождя в опасности, и колебался, браться ли за лечение: если Себитуане умрет, всю вину тогда припишут ему, чужеземцу. Местные лекари, с которыми он делился своими опасениями, признавали его правоту.
Как-то воскресным вечером после церковной службы он с [66] сынишкой Робертом зашел навестить вождя и застал его уже при смерти. Себитуане и сам чувствовал ее приближение и даже высказал это. Ливингстон обронил лишь несколько слов о загробной жизни, которые вселили бы в умираюшего надежду на бессмертие. «Почему ты говоришь о смерти? — спросил один их присутствующих лекарей. — Себитуане никогда не умрет». Ливингстон молчал. Если бы он настаивал на своем, позже могли бы сказать, что он, мол, накликал ее. Как легко при подобных обстоятельствах совершил бы роковую ошибку любой другой европеец, плохо знавший язык и образ мышления этих людей! Даже вполне доброжелательные исследователи из-за незнания обычаев и неверного поведения могли бы стать жертвой недоразумения. Однако удивительная интуиция и чувство такта, которые были чуть ли не врожденными у Ливингстона, служили хорошей основой его отношений с африканцами; ему чуждо было чувство высокомерия и расового превосходства. Он еще некоторое время посидел у постели умирающего, затем поднялся и хотел уже проститься. Но тут больной, напрягая силы, приподнялся, позвал слугу и сказал: «Отведи Роберта к Маунку, пусть она даст ему немного молока». Это были последние слова умирающего, услышанные от него Ливингстоном. На следующий день ему сообщили, что вождь скончался. Глубокой и искренней была скорбь Ливингстона, который знал, что в Себитуане он потерял верного и надежного друга.
Одновременно его заботило, как теперь отнесутся макололо к нему и сопровождающим его людям. Надо же такому случиться: вождь заболел и умер как раз во время пребывания европейцев в его городе.
Умершего вождя похоронили в загоне для скота. Затем туда загнали скот, который в течение двух часов топтал могилу, выравнивая землю вокруг так, чтобы могила стала совершенно незаметной. Ливингстон счел за лучшее самому пойти к людям, наиболее близким к покойному вождю, и поговорить с ними. Он советовал им всем объединиться и поддерживать наследника и преемника вождя. Люди были готовы следовать его добрым советам и просили, чтобы он также дружески относился к детям Себитуане, как и к самому вождю, и поддержал бы его преемника; никто и не думал приписывать Ливингстону вину в смерти Себитуане.
Достоинство вождя, по завещанному желанию покойного, переходило к одной из его дочерей, проживающей в двенадцати днях пути на север. Теперь Ливингстону следовало обращаться к ней в надежде, что она выполнит обещание отца: позволит осмотреть свои владения и предоставит подходящее место для создания [67] новой миссионерской станции — должен же он где-то построить новое жилище для семьи, раз уж он не хочет возвращаться в Колобенг. Через несколько недель посыльный сообщил, что ему разрешено посещать любую часть владений макололо.
И вот вместе с Осуэллом продолжают они путь на северо-восток. В конце 1851 года совершенно неожиданно для себя отряд добрался до большой глубоководной реки шириной в несколько сот метров. На восток, к океану, такую массу воды несет, насколько известно, только одна река — Замбези. На португальских картах эти места не показаны: видимо, португальцы никогда не проникали сюда. Таким образом, Ливингстону посчастливилось сделать второе открытие, более важное, чем открытие озера Нгами.
Замбези предстала перед ним в конце сухого сезона, при самой низкой воде. Во время дождей вода поднимается на шесть-семь метров, и река затопляет прилегающие берега на пятнадцать — двадцать миль. Тогда все междуречье Замбези и Чобе (Квадо) бывает залито водой и макололо обитают на заболоченных, поросших высоким камышом, вытянутых вдоль реки Чобе полосках суши, обеспечивающих им защиту от врагов.
О поселении европейцев в этих местах, рассадниках малярии, по-видимому, не может быть и речи. К тому же Ливингстон не хотел уговаривать макололо, чтобы они в угоду ему отказались от безопасного для них места и переселились в более возвышенную и более здоровую местность, где, однако, не было никаких естественных препятствий для защиты от нападений матабеле. Значит, от мысли поселиться среди них пришлось отказаться. Кроме того, он понимал, что буры не станут долго терпеть его миссионерскую станцию у баквена, и решил пока вообще отказаться от организации станции, а полностью посвятить себя новой великой цели — исследовать возможности установления торговых путей в Африку. Конечно, это трудная и опасная задача, и подвергать таким испытаниям семью он не вправе. И он решает отправить ее на некоторое время в Англию, по крайней мере до тех пор, пока не отыщется подходящее место для миссионерской станции — зародыша цивилизации и христианской веры. Это место одновременно будет и домашним очагом ему, его семье, как когда-то был Колобенг.
Колобенгом он был недоволен. Чего он там добился? Вождь Сечеле, правда, согласился принять крещение, но как он изменился! Прежде это был страстный охотник, стройный, гибкий, пользовавшийся уважением своего народа. Люди боялись его ослушаться. А теперь он ежедневно часами сидит на корточках, склонившись над Библией, полнеет, и многие не только не [69] уважают, но даже и презирают его. Они ненавидят новую веру — колдовство, при помощи которого белый человек овладел их вождем.
«У нас здесь очень и очень трудно работать», — пишет Ливингстон своим родителям в 1850 году.
Итоги прошлых лет, проведенных в Маботсе, Чонуане и Колобенге, обескураживающие, а надежды на будущее, которыми Ливингстон пытался себя утешить, не предвещали ничего хорошего. «Мне известно пять достоверных случаев, когда благодаря нашему влиянию удалось предотвратить войну». Это, пожалуй, единственный реальный успех миссионера Ливингстона у баквена.
Опыт Колобенга показал, что для торговли и миссионерской работы здесь нет еще надлежащих условий. При таких обстоятельствах Ливингстону нечего и думать о создании новой миссионерской станции. Правда, очень не хотелось разлучаться с семьей. «Но с другой стороны, какая надобность, — стараясь не думать о неприятном, утешал себя Ливингстон, — чтобы дети были со мной, какая польза от этого?»
Однако сознавал он или нет, но годы, проведенные в Колобенге, — единственное время в его жизни, когда он имел домашний очаг и жил вместе со своей семьей.
Противники и завистники Ливингстона упрекали его в пренебрежительном отношении к семье: жену и детей он, мол, не колеблясь принес в жертву своему честолюбию. Упрек был явно несправедлив: он очень тяжело переживал расставание с семьей; лишь дневники и письма выдают его душевную драму: он глубоко любил семью и страстно тосковал по ней. Только сознание того, что ему предстоит выполнить более высокий долг перед богом и людьми, помогло ему превозмочь боль разлуки.
В августе 1851 года Ливингстон с сопровождающими его людьми едет в Кейптаун, чтобы отправить семью на родину. Караван движется медленно. В дневнике Ливингстона под датой 15 сентября стоит короткая запись: «Сын, Уильям Осуэлл Ливингстон родился в местечке, которое мы всегда называем Бельвью».g)
Миссионерская станция в Колобенге пришла в запустение. Часть имущества взяли баквена. Однако вождь не преминул навестить Ливингстона и привел ему в подарок вола. Учитывая тогдашние трудности Сечеле, это была настоящая жертва. Нелегко было [69] Ливингстону покидать баквена, но долг требовал этого. К тому же он не давал им обещания навсегда остаться с ними.
После краткой остановки в Курумане, у родителей Мэри, путешественники продолжают путь. 16 марта 1852 года они прибывают в Кейптаун. Выглядят здесь они довольно странно. Прошло одиннадцать лет, как Ливингстон здесь не был. Его «костюм теперь казался старомодным», но он слишком беден, чтобы приобрести новую одежду. На путешествие Ливингстон истратил не только все миссионерское жалованье за 1852 год — сто фунтов стерлингов, но и наделал долги под жалованье за следующий год. Осуэлл, щедрый, как всегда, охотно помог ему и просил не выражать ему благодарности: Ливингстон, мол, имеет такое же право, как и он, на деньги, которые он выручит от продажи добытой им слоновой кости.
23 апреля Ливингстон провожает жену и четверых детей на борт парусника, отплывающего в Англию. Ему жаль расставаться с родными, ведь он не увидит их два года. Дольше он не выдержит разлуки с ними, через два года приедет на родину.
 |
От Кейптауна до АнголыНападение буров на Колобенг |
С апрельского дня 1852 года для Ливингстона, который простился с семьей, началась новая жизнь. Этот день в какой-то мере вернул ему прежнюю свободу; теперь его замыслы, как и намечаемые практические действия, мало связаны с профессиональным долгом миссионера. Правда, в пути он то там, то здесь еще проповедует божье слово, беседует с африканцами о христианской вере, но все это делается мимоходом. Пока брошенное в почву семя даст всходы, сеятель уже ушел дальше. Можно себе представить, какие странные представления рождались у его слушателей от таких, например, понятий, как грехопадение, искупление, воскрешение: ведь в их языке не было таких слов! Иногда казалось, что проповедями он скорее всего успокаивал свою совесть, ибо в обычном смысле слова он уже не был миссионером. Его тревожат упреки в мирском честолюбии собратьев по религии. Кроме того, он опасается, что в Лондонском миссионерском обществе может сложиться впечатление о нем скорее как о путешественнике-исследователе, чем о миссионере, ибо в Кейптауне он с удивлением обнаружил, что имя его стало известно благодаря открытию озера Нгами. Поэтому он представил правлению миссионерского общества подробный план дальнейших путешествий и исследований. К его удовольствию, общество одобрило их.
В Кейптауне Ливингстон тщательно готовится к дальнейшим географическим открытиям и исследованиям. Он обращается к астроному Маклиру, чтобы восстановить и пополнить свои познания в астрономии, изрядно подзабытые за годы миссионерской деятельности и странствий. В предстоящем путешествии он хочет определить координаты множества пунктов. Маклир охотно соглашается помочь ему и выражает готовность проверить впоследствии наблюдения Ливингстона, а если нужно, и уточнить их.
В то время Ливингстон написал несколько трактатов: о миссионерской [71] деятельности, о так называемых кафрских войнах — борьбе народов коса и зулу против европейских завоевателей, о языке бечуана.
В одной из статей он заявлял, что буры позорят христианство, а местная церковь покровительствует им. Церковь, говорил Ливингстон, «была и остается оплотом рабства, она оправдывает буров, грабящих скот и забирающих имущество у кафров». Руководствуясь чувством гуманности, он возмутился, когда миссионерский журнал не пожелал опубликовать его статью по «политическим соображениям».
Ливингстон был глубоко убежден — и никогда не отказывался от своего убеждения, — что его соотечественники — более добрые христиане, чем буры. Ему и в голову не приходило, что борьба Англии против рабства продиктована отнюдь не стремлением к установлению дружбы народов. Причины совсем другие — хитро замаскированные военные приготовления к войне с бурами, соперниками англичан в борьбе за господство в Южной Африке. Но когда речь идет о подавлении недовольства африканского населения, то тут британцы и буры едины. Запретив продавать огнестрельное оружие и боеприпасы миролюбивым гриква и бечуана, британцы по сути дела способствовали охоте буров за рабами и грабежу скота: буры спокойно нападали на беззащитных бечуана. Ливингстон, конечно, мог и не понимать, что его соотечественников в Кейптауне не интересовали возможные последствия этого запрета. К тому же договор, заключенный с бурским Свободным государством Трансвааль, создавал видимость безопасности для местного населения, ибо объявлял рабство незаконным. Но поскольку бечуана были лишены возможности иметь необходимое оружие, чтобы защитить себя, договор фактически превращался в клочок бумаги: трансваальские буры и не думали отказываться от захвата рабов — они ведь только из-за того и выехали из Капской колонии, чтобы беспрепятственно заниматься охотой на рабов.
Представление Ливингстона, что англичане в этом вопросе морально выше буров, мешало ему понять действительность: в подавлении и эксплуатации местного населения англичане и буры были заинтересованы в равной мере.
В начале июня 1852 года Ливингстон отправляется из Кейптауна в первое большое путешествие. Сначала путь идет на север, к макололо и в сторону Замбези, затем на запад, к Луанде — главному городу португальской колонии Ангола на побережье Атлантического океана. Средством передвижения служит неуклюжий фургон, каким буры пользовались здесь издавна. Волы у него тощие, [72] но он слишком беден, чтобы обзавестись лучшими. Вначале Ливингстона сопровождали два крещеных бечуана из Курумана и два баквена, а также две няни, приехавшие в Кейптаун с его семьей и теперь возвращавшиеся домой, в окрестности Колобенга. К экспедиции присоединился и африканский купец по имени Флеминг.
Зима только что сменила сухое лето, ландшафт был унылым, как в пустыне. Названия поселений часто свидетельствовали, что по просторам равнины некогда бродили многочисленные стада буйволов, слонов, антилоп, теперь уже давно истребленных; в настоящее время их можно встретить лишь в глубине материка, за сотню миль отсюда.
Усадьбы буров теснились у источников, зачастую в окружении садов, огородов, пашен; еще дальше простирались выгоны. Ведя экстенсивное хозяйство, буры то и дело переходили на новые земли. Увеличивающиеся стада крупного рогатого скота и овец требовали все новых и новых пастбищ. А из Европы все время прибывали поселенцы. Пригодные к обработке земли, на которых местные жители занимались охотой или перегоняли с места на место свои стада, буры считали пустующими и поэтому как бы законно присваивали себе.
Почти на четырнадцать дней Ливингстон задерживается в Курумане. Сичуана, язык бечуана, он понимает почти так же хорошо, как и сами бечуана, и, слушая их беседы между собой, Ливингстон лучше узнает жизнь этих людей.
Моффат десятилетиями живет и работает в Курумане и его окрестностях и добился большого успеха. Теперь сотни людей гриква и бечуана стали христианами и научились читать и писать; к крещению не допускали тех, кто не умеет читать. И все же успехи Моффата вызвали у Ливингстона лишь разочарование. У африканцев, обращенных в христианство, эта вера не проникает глубоко в душу. Как-то один довольно умный вождь высказался так: «Мы, свои, понимаем друг друга гораздо лучше, чем вы нас. Конечно, изрядное число крещеных стали христианами. Но иные только прикидываются верующими, чтобы заручиться благосклонностью миссионера и добиться всяческих выгод. А некоторые объявляют себя христианами, поскольку это что-то новое; беднякам, например, кажется, что тем самым повышается их достоинство». Ливингстон находит, что по сравнению с язычеством это все же большой прогресс. И в этом заслуга неутомимого Моффата: миссионерская станция в Курумане — всецело его детище. «Такие места, как Куруман, едва ли можно всерьез считать собственностью Лондонского миссионерского общества. Эта прекрасная [73] станция устроена не на английские деньги, она создана потом и кровью одного лишь человека, и, однако, у его детей нет местечка на земле, которое они могли бы назвать своей родиной». На такие горестные замечания наводят его и мысли о собственных детях.
Однажды в Куруман приходит женщина баквена и передает миссионеру Моффату письмо от вождя Сечеле. Ливингстон сразу узнает ее: это жена Сечеле. Она сообщает, что буры напали на баквена в их новом месте проживания, опустошили и домик Ливингстона в Колобенге. Она едва избежала смерти, спрятавшись с маленьким ребенком в расщелине скалы, с вершины которой стреляли буры. В письме Сечеле рассказал, как все это произошло. Перед новым «городом» Сечеле появились сотни четыре буров с многочисленным вспомогательным отрядом из местных; с ними было восемьдесят повозок и несколько пушек. Так как это была суббота, Сечеле увещевал их как христиан вспомнить третью заповедь Христа «Чти день праздника» и отказаться от борьбы в праздничный день. Буры согласились. В воскресенье утром и после полудня буры появились даже в церкви и слушали проповедь Мебальве. После второй церковной молитвы они объявили войну Сечеле, так как он, мол, разрешает англичанам проходить через свои земли. Сечеле повторил лишь то, что он уже ранее заявлял: он мирный человек и англичане никогда не обижали его, обходились с ним всегда хорошо, поэтому он не мог чинить им препятствий в их деятельности.
В понедельник на рассвете буры открыли огонь по городу, в результате чего возник пожар, а затем последовал штурм. Жители города под водительством Сечеле мужественно оборонялись весь день, а затем под покровом ночи укрылись в горах. В этот день погибло шестьдесят баквена, среди них были женщины и дети; многие попали в плен. Буры увели весь скот и увезли имущество. Особенно болезненно переживал Ливингстон тот факт, что они угнали с собой около двухсот учеников его миссионерской школы, которые станут теперь рабами буров.
Несмотря на свои «победы», буры неистовствовали, ведь впервые они понесли потери: двадцать восемь буров были убиты. Во время прежних набегов убитые были лишь на одной стороне, африканцев, но на сей раз там, где годами проживал Ливингстон, англичанин, у них оказались потери, да к тому же довольно большие. Этот британец, по-видимому, научил черных оказывать сопротивление бурам — это ясно! Чтобы отомстить ему, буры двинулись в Колобенг и разграбили его домик, находившийся в сохранности в течение многих лет. Они уничтожили аптечку, искромсали книги, [74] погрузили его пожитки в повозки, чтобы затем продать все с аукциона. Буры угнали с собой также скот, принадлежавший Ливингстону и двум его ученикам — Мебальве и Паулю. Людей же, охранявших это имущество, они просто перебили.
Ливингстону еще повезло, что сам он не попал в руки буров; в гневе они, пожалуй, исполнили бы свою угрозу и убили бы его. В крайнем случае они непременно захватили бы его с собой и тем самым помешали бы его планам дальнейших исследований. Будучи снисходительным и добрым по натуре, он был нетерпим к несправедливости и жестокости. Об этом факте он рассказал в письмах и отчетах. И наконец, этот случай лишний раз убедил его в справедливости поставленных задач: «Правда, потеря книг, которые были спутниками моего детства, болью отозвалась в моем сердце, но по существу грабеж даже помог мне обрести полную свободу для проведения экспедиции на север. Поэтому я тут же перестал печалиться. Буры решили закрыть мне доступ в глубь материка, но я преисполнен решимости открыть эти земли с божьей помощью. Будущее покажет, кто больше преуспел — буры или я».
Угрозы буров Ливингстону привели к неприятным последствиям: в Курумане не нашлось никого, кто согласился бы сопровождать его в поездке на север. Буры намеревались преследовать его караван усиленным отрядом конников, если он ступит на «их» земли. Поскольку он не мог найти погонщиков, то те две недели, которые он хотел пробыть в Курумане, превратились в месяцы.
Наконец ему удалось все же разыскать троих людей, отважившихся ехать с ним. 20 ноября он покинул Куруман. К сожалению, скоро выяснилось, что его спутники не годились для такого предприятия: они принадлежали к тем людям, «которые сумели быстро усвоить пороки европейцев, но не их достоинства». Но другого выбора уже не было, и оставалось лишь радоваться, что отряд хоть как-то продвигается.
Через несколько дней Ливингстон неожиданно встречает вождя Сечеле, который направляется в Англию, к королеве. Сечеле никак не мог понять, что же происходит в мире. Два его ребенка и их мать — одна из бывших жен — захвачены бурами. Разве англичане не понимают, что, запретив продавать огнестрельное оружие местному населению, они оставили его вместе с народом безоружным перед своими злейшими врагами — бурами, они бросили его на произвол судьбы? Он все еще верит в великодушие и справедливость англичан, свидетельством чему была жизнь Ливингстона, поэтому хочет лично передать жалобу королеве Виктории. Сечеле предлагает Ливингстону ехать с ним, однако тот предвидел, что [75] поездка Сёчеле будет напрасной, и убеждал Сечеле отказаться от нее. Удивленный и потрясенный Сечеле вопрошает:
«Как же может быть, чтобы королева не выслушала меня, если я явлюсь к ней?» — «Она, конечно, выслушала бы тебя; трудность состоит в другом — как до нее добраться». Но это не испугало вождя: «Ведь я проделал уже такой далекий путь!..»
Позже Ливингстон узнал, что вождю удалось добраться до Кейптауна. Там у него иссякли средства, и он вынужден был возвратиться, ничего не добившись.
Расставшись с Сечеле, Ливингстон продвигается далее на север по краю пустыни Калахари, местами немного углубляясь в нее и тщательно избегая встречи с бурами.
В последний день 1852 года экспедиция достигла нового города Сечеле, расположенного на холмах. Никогда еще Ливингстон не видел баквена такими жалкими, как на этот раз: буры угнали у них большую часть скота, сожгли все зерно, одежду и утварь.
Отправляясь в Англию к королеве, Сечеле строго наказал своим подданным не мстить бурам. Но вопреки наказу группа молодых баквена, встретившись с небольшим отрядом буров, идущих с охоты, преградила им путь и, когда перепуганные охотники бежали в беспорядке, захватила их волов и повозки. Этот налет буры сочли, по-видимому, за начало мелкой войны; они тут же выслали посредников, чтобы предложить баквена мир. Те в свою очередь потребовали выдачи захваченных жен и детей. Одновременно они выставили сильные вооруженные отряды у проходов на холмах, а также во всех ущельях. Прибыв на переговоры, представители буров чувствовали себя во власти баквена и со страху, как позже выяснилось, приняли все условия баквена. Ливингстон был свидетелем возвращения одного из сыновей Сечеле: растроганная мать обнимала его со слезами на глазах. Плакали также и многие другие женщины, дети которых так и не вернулись. Ливингстон записал имена невернувшихся юношей и девушек; многие из них посещали его миссионерскую школу. Он знал, что баквена очень любят детей, и хотел бы помочь рыдающим матерям, но дать твердое обещание, что ему удастся вернуть детей, не мог.
После возвращения из Кейптауна Сечеле вместе со всем своим народом отправляется дальше на север. Впоследствии ему пришлось создавать еще не один город, который потом забрасывался и быстро приходил в упадок. Неудачи Сечеле, однако, не уменьшили его влияния; напротив, многие бечуана, жившие ранее на территории Трансвааля, захваченной бурами, присоединились теперь к нему. [76]
Во время более чем сорокалетнего правления Сечеле сумел сохранить независимость своей страны. Лишь когда немцы утвердились в Юго-Западной Африке, Великобритания объявила Бечуаналенд протекторатом (1884 год), создавая тем самым для себя мост между Южной и Центральной Африкой, а заодно препятствие для германской экспансии из Юго-Западной Африки в глубь материка.
Свое первое исследовательское путешествие Ливингстон описывает значительно ярче, чем прежние поездки, во время которых миссионерская работа была на первом плане. Теперь о религии заходит речь лишь изредка, хотя, как и прежде, он читает проповеди, устраивает богослужения. Его наблюдения над природой, жизнью животных и растений носят уже научный характер; он рассказывает о львах, слонах, буйволах, носорогах, птицах, рыбах, насекомых. Пишет о геологическом строении местности, о плодородии почв и системе водостока. Однако больше всего его интересуют люди. По собственным наблюдениям он описывает обряд обрезания у бечуана и упоминает, что на эти церемонии не допускаются иностранцы. Сообщает о распределении работ между членами общины, об обработке полей, где все делается при помощи мотыги, о прическах, украшениях, болезнях. Записи его носят деловой, объективный характер, нигде не поддается он искушению вызвать сенсацию.
Тогда еще не знали охоты с кинокамерой, и рисунки к книгам африканских путешественников давали читателям волю для буйной фантазии, особенно когда иллюстраторы показывали царя зверей. Поэтому довольно реалистично выглядит изображение льва Ливингстоном: «Встречаясь среди бела дня со львом, — что отнюдь не редко случается, — если ты не исходишь из заранее созданного представления о чем-то «благородном» или «величественном», ты видишь просто зверя, который немного крупнее самой большой собаки, когда-либо виденной тобою... Как правило, можно не опасаться льва: если его не трогать, то, день ли, лунная ли ночь, он не нападает на человека, за исключением периодов течки, ибо тогда они пренебрегают любой опасностью... На улицах Лондона, где снуют экипажи, подвергаешься большей опасности, чем в Африке при встрече с львом, если ты, конечно, не охотишься на него».
Страна бечуана была тогда невероятно богата дичью. Два английских охотника лишь за один выезд убили семьдесят восемь [77] носорогов. «Но теперь, — пишет Ливингстон в 50-х годах прошлого столетия, — любитель охоты уже не найдет столько дичи, ибо с тех пор местное население обзавелось огнестрельным оружием и крупная дичь растаяла, как весенний снег».
Наиболее опасной считается охота на слонов — будешь ли ты верхом на лошади или пеший. Особенно опасно, когда всадник имеет дело с разъяренным слоном: лошадь, не приученная к такой охоте, при страшном реве лесного великана обычно останавливается как вкопанная и дрожит от испуга или бросается вскачь так, что всадник рискует быть растоптанным. Иной охотник уже при первом нападении слона погибает. И Ливингстон советует начинающим нимродамh) заранее потренироваться: стать между железнодорожными рельсами и стоять до тех пор, пока не останется лишь несколько шагов до приближающегося поезда...
15 января 1853 года караван Ливингстона покидает город баквена и направляется дальше на север. По ту сторону темной базальтовой цепи гор Бамангвато экспедиция вынуждена придерживаться восточного края пустыни Калахари. Неделями путь идет почти по безводной местности. Пять дней вообще нечем было поить волов, половина из них пала от жажды. После полудня становится так жарко, что нельзя дотронуться до земли, и даже африканцы с затвердевшими, привычными к горячей земле ступнями вынуждены надеть кожаные сандалии. Путешественники без конца роют колодцы, но приходится очень долго ждать, пока там наберется хотя бы немного воды; иногда дня два уходит на то, чтобы напоить животных и дать им отдохнуть. Продвижение идет так медленно, что это внушает опасения. Вблизи редких естественных источников целыми днями топчутся стада зебр, антилоп гну и буйволов; тоскливо поглядывая на воду, ждут они ухода непрошеных гостей.
Вскоре все участники экспедиции, кроме Ливингстона и одного молодого баквена, стали поочередно заболевать неизвестным видом лихорадки. Продвижение теперь совсем застопорилось. Уход за волами лег всецело на плечи здорового юноши, а Ливингстон ухаживал за больными. Время от времени вместе с бушменами Ливингстон ходил на охоту. Ему не хотелось, чтобы они удалялись от экспедиции, поэтому он отдавал бушменам убитых зебру или буйволов, рассчитывая на их помощь в нужный момент. Вынужденная остановка дала ему возможность определить географические координаты местности, да и позже он непременно использует для таких целей остановки, если не мешает облачность. [78] Больные еще не оправились, но Ливингстону не терпится идти вперед. Все вместе они сооружают в фургоне койки для наиболее слабых, и караван медленно тянется дальше.
Выпавшие в конце февраля ливни преобразили местность, куда только что прибыла экспедиция: повсюду зеленела сочная трава, деревья были в цвету, и между ними, словно зеркала, глядели лужи, весело щебетали птицы. По мере продвижения экспедиции лес становится гуще. То и дело приходилось прибегать к топору, чтобы проложить путь воловьей упряжке. Дожди участились. «Целый день мне пришлось валить деревья, и с каждым ударом топора на спину обрушивался ливень. Правда, он действовал освежающе». Иной раз попадался могучий ствол векового баобаба, называемого также обезьяньим хлебным деревом. «А не ведут ли эти деревья свое происхождение от времен Ноя и всемирного потопа?» Доктор Ливингстон вполне серьезно взвешивает все «за» и «против»: для него мифы Ветхого завета имеют реальный смысл. Странно, но для него характерно именно такое сочетание глубокого научного проникновения в суть природных явлений с детски наивной, кроткой верой в могущество бога.
Далее простирается холмистая местность, часто встречаются большие безлесные участки. Ливингстон воспроизводит картину ландшафта, подобную старинным изображениям райских кущ: «По прогалине в яркой и пестрой растительности, извиваясь, течет ручей. Стадо красных антилоп паллах остановилось на опушке у крупного баобаба; глядя на нас, они как бы раздумывают, не взбежать ли на холм, в то время как антилопы гну, коровьи антилопы и зебры явно озадачены появлением непрошеных гостей. Одни животные беззаботно пощипывают травку, другие, кажется, настороже и вот-вот готовы пуститься вскачь. Крупный белый носорог тяжело идет через долину, совсем не замечая нас, подыскивая, видимо, для себя подходящую грязевую ванну. Напротив антилоп паллах под покровом деревьев остановилось многочисленное стадо черноголовых буйволов.
Тихий воскресный день... Дичь непуганая, ручная. Когда я с бушменами проходил мимо, куду и жирафы разглядывали меня как редкое существо. Однажды на рассвете к лагерю приблизился лев, обошел вокруг волов и громко зарычал, недовольный, что волы стояли спокойно, не проявив к нему никакого внимания. Раздраженный лев убежал, но издали долго еще доносился его зычный голос.
Многочисленные лужи, свидетельство недавнего половодья, убеждали меня, что неподалеку находится большая река Чобе — правый приток Замбези». У реки три года назад Ливингстон по [79] пути к Себитуане встретил первых макололо. И вот экспедиция достигла какой-то реки, вероятно, южного рукава Чобе, и сделала несколько попыток пересечь ее, но напрасно. Бушменам, сопровождавшим экспедицию, все это, видимо, изрядно наскучило, и однажды утром они исчезли.
Ливингстон решил на некоторое время оставить караван и отправиться на рекогносцировку лишь с одним спутником, взяв с собой только продукты и одеяла. Среди сопровождающих его африканцев он выбрал самого сильного и здорового. В маленькой понтонной лодке, которую Ливингстон на всякий случай хранил в фургоне, путники переплыли реку. Затем около двадцати миль двигались на запад, надеясь выйти к реке Чобе и повстречать там макололо. «В северном направлении река была совсем рядом, но мы тогда этого не знали. Низменность, по которой мы едва передвигались в первый день, была залита водой по щиколотку и поросла густой травой по колено. Вечером мы подплыли к сплошной стене тростника высотой шесть-семь футов, далее пробиться было невозможно. Еще и еще раз мы пытались это сделать, но всюду столь глубоко, что в конце концов нашу затею пришлось оставить».
Наконец путники добрались до высоких деревьев и решили заночевать. Ливингстону удалось подстрелить антилопу, он развел костер и стал готовить ужин. Потом, плотно завернувшись в одеяла, путники провели безмятежную ночь.
«На следующее утро, когда мы вскарабкались на самое высокое дерево, перед нами открылась обширная водная гладь, окаймленная непроницаемой стеной тростника, — это и была желанная Чобе. Два поросших деревьями острова, которые мы впереди увидели, были намного ближе к открытой воде, чем берег, где мы находились, поэтому мы решили перебраться туда. Однако путь к ним оказался нелегким. В зарослях камыша встречалась своеобразная трава, листья которой походили на зубчатую пилу. При малейшем прикосновении они резали руки, как бритва. Местами тростник был перепутан прочным, как шпагат, вьюнком и превратился в непроходимую растительную стену. Мы чувствовали себя в ней пигмеями. Приходилось вдвоем со всей силой налегать на тростник, гнуть его вперед, чтобы затем пройти по этому едва ли надежному настилу. По спинам струился пот. Когда солнце поднималось высоко и не было никакого ветерка, мы задыхались от жары, и только вода, доходившая до колен, освежала нас. После долгих часов мучений мы все же достигли острова. Мои прочные молескиновые брюки выглядели так, будто были обработаны рашпилем, кожаные брюки моего спутника разорвались. Раны на ногах кровоточили. Я разорвал носовой платок и перевязал колени. [80]
От острова до открытой воды оставалось еще около сорока — пятидесяти ярдов. Но здесь мы наткнулись на плотную массу папируса. Растения напоминали маленькие пальмы, высотой от восьми до десяти футов, и так прочно переплелись вьюнком, что даже обоюдными усилиями мы не могли наклонить их. Но наконец мы напали на тропу, проложенную бегемотом, и добрались до открытой воды. Я тут же решил испробовать глубину — и погрузился по шею».
Путники заночевали в заброшенной хижине на старом термитнике. После сырой холодной ночи Ливингстон продолжал рекогносцировку в понтонной лодке. Целый день путешественники плыли вниз по реке Чобе. Вдоль обоих берегов тянулась бесконечная стена тростника. Ливингстон уже думал, что следующую ночь придется провести в лодке и остаться без ужина, но в вечерних сумерках вдруг увидели поселок макололо. «Жители смотрели на нас, — пишет Ливингстон, — как на привидения, их лица выражали изумление». «Он спустился с облаков, — удивлялись макололо, — и приехал к нам на спине бегемота! Мы полагали, что без нас никто не сможет перебраться через Чобе, и вот он, словно птица, оказался здесь!»
На следующий день Ливингстон и его спутник возвращаются в свой лагерь по затопленной местности. «Во время нашего отсутствия люди пустили скот в лесок, где водится муха цеце. Эта неосторожность стоила мне десятка прекрасных волов. После двух дней отдыха к нам прибыли несколько вождей макололо из Линьянти с партией людей из народности бароце, которые должны были переправить нас через реку. Делали они это с такой ловкостью, что можно только поражаться; они плыли и виртуозно ныряли между волами, разобрали повозки и погрузили наши вещи на сцепленные лодки. Теперь мы среди друзей».
23 мая 1853 года Ливингстон прибыл в Линьянти — главный город народа макололо.
Все население Линьянти, насчитывавшее тогда шесть-семь тысяч жителей, вышло встречать экспедицию, чтобы подивиться чужеземцам и их воловьим фургонам. В прошлый раз Ливингстон прибыл ночью, и жителям не довелось поглядеть на это диво. Дочь Себитуане уже не была верховным вождем. У макололо достоинство вождя было несовместимо с положением женщины: мужчина у них господин для своей жены или жен. К тому же другие женщины так язвили и то и дело подпускали такие шпильки, что [81] она в конце концов отреклась от власти в пользу своего брата Секелету.
Новый верховный вождь, или царь, народа макололо — очень высокий стройный молодой человек. Лицо его светло-коричневого цвета, которым гордятся макололо, так как это резко отличает их от чернокожих племен, приносящих им дань. Ливингстона он встретил с таким же дружелюбием, как когда-то покойный Себитуане, отец Секелету. Для приема гостей он велел принести множество кувшинов, до краев наполненных пивом. Женщина, подносившая гостю кувшин, по обычаю здешних мест сначала сама отпивала из него полный глоток, как бы свидетельствуя, что пиво не отравлено.
Пока Ливингстон не отбыл со своей экспедицией, Секелету постоянно проявлял заботу о гостях, щедро снабжая их необходимым. Утром и вечером им посылали молоко от двух выделенных для них коров и каждую неделю забивали одного или двух быков. Несколько лет назад, когда Ливингстон был гостем отца нынешнего верховного вождя, он с помощью местных жителей обработал клочок земли и посадил там для себя кукурузу. Местные жители собрали урожай и сохранили его, а теперь из этой кукурузы женщины натолкли прекрасную муку. Юный вождь вдобавок преподнес им еще несколько больших кувшинов меда. А когда подчиненные племена приносили в Линьянти дань макололо, гостям посылали также и земляные орехи.
В знак благодарности гости обычно преподносят хозяевам подарки, но хозяева никогда не станут их выпрашивать. Однако в приморских районах европейцы основательно подорвали этот старинный обычай: «Едва прибыв, они ищут, где бы купить продукты, и вместо того, чтобы переждать, пока им предложат готовый ужин, они сами себе варят, а часто даже и отказываются принять участие в пиршестве для гостей, которое, собственно говоря, специально для них же и приготовлено. И нередко заранее преподносят местным жителям подарки, прежде чем те окажут какую-либо услугу».
Прожив неделю в Линьянти, Ливингстон заболел лихорадкой. Стараясь узнать, что в таких случаях применяют его местные коллеги, он попросил прийти одного из врачей Секелету. Тот предписал отвар из трав, велел хорошенько пропариться и прокоптиться дымом. Благотворности этих действий Ливингстон не ощутил. «Пропарившись так, что едва остался жив, и продымившись до состояния копчености, я пришел к выводу, что сам могу вылечиться скорее, чем с их помощью... Очень важно при этом не думать о своей болезни. Если человек малодушен и при каждом приступе [82] лихорадки приходит в отчаяние, он не сможет побороть болезнь».
Здесь, в Линьянти, как и всюду, где Ливингстон задерживался на какое-то время, он устраивает богослужения на большой котла. На них обычно присутствовало свыше пятисот человек. Особой торжественности, правда, не было. Многие матери приходили с малышами, и, когда все присутствующие на молитве опускались на колени, дети начинали громко плакать, а взрослые — хихикать, а как только произносилось «аминь», раздавался всеобщий громкий смех. Однако, как бы серьезно ни относился Ливингстон к выполнению своего миссионерского долга, фанатиком он все же не был: «нельзя строго осуждать их за нарушения богослужений, иначе у них сложится впечатление о вашей чрезмерной назидательности и надменности».
Когда Секелету однажды спросил у Ливингстона, чем бы он мог доставить гостю наибольшее удовольствие, тот ответил: «Мне очень хотелось бы помочь тебе и твоему народу стать христианами». Но как раз это-то его желание Секелету и не мог выполнить. Вначале он противился даже тому, чтобы его учили читать. Он опасался, что эти таинственные книги могут совратить его душу и привести к тому, что ему, подобно Сечеле, придется обходиться лишь одной женой, а он хочет держать не меньше пяти. Наконец Ливингстон отказался от попыток приобщить его к христианству, и при этом он не питал какой-либо неприязни к молодому вождю: «Искренность Секелету понравилась мне, ибо нет ничего более утомительного, чем беседовать с людьми, которые во всем только поддакивают». Да, поразительно слышать такие слова из уст миссионера! Неудачи и разочарования, которые довелось ему испытать в своей миссионерской деятельности, породили в нем не горечь и озлобление, а лишь терпимость и снисходительность, чего прежде ему так недоставало. Он познал теперь, как трудно африканцу разорвать вековые социальные устои, обусловленные характером сложившегося хозяйства. В своих требованиях к людям и надеждах перевоспитать их он стал гораздо скромнее. И терпение принесло результаты. Спустя некоторое время, когда кое-кто из пожилых макололо все же отважился сесть за книгу, Секелету вместе со своими друзьями последовал их примеру. За короткий срок они выучили алфавит, но, прежде чем раскрылись все их способности, Ливингстон отправился в дальнейший путь.
У макололо он занимался и врачебной практикой, но, как и в Чонуане и в Колобенге, проявлял здесь большую осторожность: «Я лечу только те болезни, которые не могут лечить местные врачи. Никогда не иду к больному, если лечащий его врач возражает. Поэтому, естественно, я имею дело только с тяжелыми случаями, [83] но зато местные врачи не могут пожаловаться, что я лишаю их возможности показать себя. Когда я заболел лихорадкой и пожелал познакомиться, как они лечат, я мог спокойно довериться знахарям, ибо они питали ко мне только добрые чувства. Если при недугах местного жителя обходишься с ним хорошо и участливо, то наверняка завоюешь его доверие». Для Ливингстона африканцы — младшие братья и сестры европейцев, дети одного отца, и его долг, долг старшего брата, — учить их добру. Так с самого начала понимал он задачу миссионера и придерживался этого правила до конца своих дней, если только открытая враждебность отдельных лиц не вынуждала его прибегать к мерам самообороны, но это случалось редко.
Целый месяц провел Ливингстон в Линьянти среди макололо. В последующих путешествиях они на долгие годы стали его спутниками, и он смог оценить такие их добрые качества, как честность, верность и мужество, так что в конце концов проникся к ним любовью. Вполне естественно, что об этом народе он собрал особенно подробные сведения — об их характере, образе жизни, общественной организации и прошлом.
То племя, которое Себитуане когда-то привел сюда, на север, едва ли сохранилось в «чистом» виде. Большинство людей унесла лихорадка. Макололо прибыли из мест с очень здоровым климатом и поэтому оказались более подверженными, чем местное население, господствовавшей тут, в речных долинах, лихорадке.
А те «чистые» макололо, которые выдержали все превратности судьбы, давно уже смешались с другими племенами: Себитуане принял в свое племя молодых людей из покоренных им бечуана, чтобы пополнить ряды воинов, уносимых лихорадкой и непрерывными битвами.
«Истинные» макололо были разбросаны по разным селениям — по одной-две семьи. Это была господствующая прослойка. «Они подчиняли себе многие племена (они известны теперь под общим названием макалака), которых обязали выполнять всевозможные работы, и прежде всего обрабатывать их поля. В остальном макалака независимы, у каждого из них есть собственный клочок земли. Им нравится, если их называют макололо». Привыкнув с малых лет чувствовать себя господами по отношению к макалака, молодые макололо считают зазорным взять мотыгу в руки и совсем отвыкли от физической работы. Этому способствовало и то, что макалака обязаны были приносить дань: поставлять в Линьянти кукурузу или просо, земляные орехи, мед, табак, копья и деревянную посуду, лодки и весла, обработанные шкуры и слоновую кость. Когда представители этой народности прибывают для передачи [84] дани, на большой котла собираются многочисленные любители поживиться чем-либо, ибо по установившимся обычаям большую часть даров вождь тут же раздает как подарки присутствующим, сохраняя у себя лишь немногое, главным образом слоновую кость. Затем он продает ее, однако выручку тоже раздает своим подданным. Если он не очень щедр, то обычно не пользуется любовью подданных.
Во время одного из путешествий по стране Ливингстон решил присмотреть подходящее место, где он мог бы создать новую миссионерскую и торговую станцию. Секелету вызвался сопровождать его в этой поездке и взял с ообой свиту в 160 человек. Вначале путь шел вниз по течению Чобе до впадения ее в Замбези, которая здесь называется Лиамбай. В зависимости от того, на каком языке или диалекте говорят прибрежные жители, река носит различные названия: Луамбеджи, Луамбези, Амбези, Ойимбези, Лиамбай, Замбези. Однако все эти названия имеют одно и то же значение — большая река, главная река страны.
Местность всюду равнинная; то тут, то там возвышаются гигантские термитники, заросшие деревьями. Правый берег Чобе окаймляют непроходимые заросли тростника. Оглядывая караван, Ливингстон видит длинную цепь сопровождающих его людей. Она, как гигантская змея, извивается вдоль тропы. То и дело мелькнет или качнется на ветру фантастический головной убор макололо: страусовые перья, белые кончики бычьих хвостов или колпак из львиной гривы. На многих из них были красные куртки или пестрые куски ситца, купленного вождем у купца Флеминга, сопровождавшего когда-то Ливингстона в его путешествиях. Груз тащат темнокожие мужчины, представители подчиненных племен; у знатного, «истинного» макололо лишь палка в руке, и даже его щит несет иноплеменный слуга. Секелету находится в окружении своего рода личной гвардии — группы молодых людей его возраста; едет он верхом на одном из коней Ливингстона; сопровождающие, подражая ему, восседают на волах. Эта картина выглядит довольно забавно: у волов ни седел, ни уздечек, поэтому всадники то и дело сползают на землю.
В поселениях, встретившихся на пути, жители торопятся навстречу гостям, чтобы приветствовать своего вождя. «Да здравствует Великий Лев!», «Великий Вождь!» — несется со всех сторон. Эти почести Секелету принимает спокойно, с достоинством и тут же, собрав людей, велит сообщить ему новости. В заключение старейшина деревни, «чистокровный» макололо, приказывает принести пиво. Чаша, сделанная из бутылеобразной тыквы, наполняется до краев, и подношение быстро выпивается. Затем подают [85] большие горшки, наполненные простоквашей, которую едят пригоршнями. Когда Ливингстон предложил им металлическую ложку, они доставали ею простоквашу из горшка, а затем стряхивали ее в горсть и ели, как у них принято. Скот для убоя Секелету брал из своих стад, разбросанных по стране, или принимал в качестве дани от старейшин деревень, по которым проходил.
Чтобы как-то пополнить рацион экспедиции, Ливингстон время от времени ходит на охоту. На травянистой равнине пасутся большие стада буйволов, зебр и антилоп — добыть мясо большого труда не составляет. Однако это занятие не приносит Ливингстону радости: «Даже в зимнее время солнце так печет, что удовольствие, доставляемое охотой, я с радостью передал бы кому-либо другому. Но макололо так плохо стреляют, что ради сбережения пороха я должен делать это сам».
Когда подошли к Замбези, Секелету впервые пришлось позаботиться о лодках. Собрав более тридцати штук и достаточное количество весел, путники начали свое плавание вверх по Замбези. Ливингстон выбрал себе лодку самую лучшую, хотя и не самую большую — тридцать четыре фута длиной. Шесть гребцов работали в лодке стоя; в зависимости от глубины они или гребли, или отталкивались шестами. Река в этих местах усеяна многочисленными островами, ширина ее местами превышает милю. По берегам зачастую тянутся дремучие леса, где обитают слоны и другие крупные животные. Кое-где над водой поднимаются скалистые утесы. «Для меня было истинным удовольствием видеть страну, которую еще ни один европеец не посетил».
Наконец река поворачивает на север, дно становится более скалистым, течение усиливается. Стремнины и водопады в рост человека мешают дальнейшему продвижению. Перед водопадом Гонье высотой около тридцати футов пришлось вытащить лодки на берег и волочить их более мили. Для этой работы макололо привлекли жителей большой деревни, лежащей вблизи водопада.
Подобно долине Нила, долина Бароце длиной около ста миль, по которой течет Лиамбай (Замбези), ежегодно затопляется. Поэтому поселения располагаются на холмах. Почва очень плодородная, можно выращивать два урожая в год, но во времена Ливингстоиа обрабатывалась едва ли десятая часть площади. На травянистых просторах паслись многочисленные стада крупного рогатого скота, дающего в изобилии молоко; однако и в качестве пастбищ эти земли использовались далеко не полностью. К несчастью, здесь свирепствовала болотная лихорадка.
Однако Ливингстон все же намерен проследить долину Бароце в северо-западном направлении вплоть до ее верховья и после [86] этого принять окончательное решение о дальнейших планах исследования. Секелету тем временем решил остаться в Нальеле — «столице» страны бароце — и ждать его возвращения.
Долина все время отклоняется на север. И после многих дней пути Ливингстон нашел место, где в реку Лиамбай вливается с северо-востока не менее крупная река, которую местные жители называют Кабомпо. Здесь и кончается долина Бароце и вместе с ней владения Секелету. Ливингстону так и не удалось найти здоровую, не пораженную малярией местность, пригодную для поселения европейцев.
«Но я... решил во что бы то ни стало осуществить хотя бы вторую часть моих планов, поскольку первая цель не была достигнута». Эта вторая часть его планов состояла в том, чтобы отыскать пути, которые обеспечили бы стране макололо надежную связь с морем.
Последствия такого решения он едва ли мог предвидеть в то время. Это был окончательный отказ и от планов создания новой миссионерской станции, и от надежды на воссоединение с семьей. Значит, дети будут расти без отца. Опустошенный бурами домик в Колобенге — единственное, чем он еще владел. Разлука с Мэри и детьми болью отдавалась в его сердце; из далекой Африки к ним в Англию идут одно за другим нежные, полные тоски письма. Однако дело, которому он хотел посвятить всего себя, не оставляло места для каких-либо колебаний. В Англии с его профессией работы не найдешь, в Африке же совесть не позволяла ему вести спокойную жизнь оседлого миссионера. Все это сулило ему судьбу человека, лишенного родины и семьи. Одержимый честолюбием, с характером первопроходца и исследователя, он с легкостью шел навстречу своей нелегкой судьбе.
Прежде чем отправиться в далекое путешествие к западному побережью, Ливингстон снова возвращается в Нальеле и вместе с Секелету и его свитой еще раз едет в Линьянти.
На совете, созванном Секелету, обсуждается предстоящее путешествие Ливингстона.3) Конечный его пункт — город Луанда в тогдашней португальской колонии Ангола. Один старик прорицатель предостерегает макололо от участия в нем. «Белый человек губит вас! — выкрикивает он как заклинание. — Ваши одежды уже пахнут кровью!» Но его никто не слушает, большинство против него, а Секелету просто высмеивает его. Отобраны двадцать семь человек, которые должны сопровождать Ливингстона. И это не какие-нибудь наемные кули, какие обычно сопровождают европейских исследователей или охотников. «Они... посланы, чтобы дать [87] мне возможность выполнить предприятие, в котором я был заинтересован столько же, сколько сам вождь и большинство его людей. Они страстно желали наладить выгодную для них торговлю с белыми людьми».
Трое из Курумана, которые до сих пор сопровождали Ливингстона, стали так часто страдать от лихорадки, что из помощников превратились в обузу: много времени уходило на лечение и уход за ними. Поэтому он отправил их назад с купцом Флемингом, возвращавшимся домой. Из сопровождавших Ливингстона только двое — истинные макололо, остальные принадлежат к подвластным вождю племенам.
Ливингстон тоже обессилел от лихорадки. Стоит ему быстро поднять голову и взглянуть на небо, как у него начинает кружиться голова, приходится хвататься за что-либо, чтобы не упасть. Макололо часто обращаются к нему с вопросом: «Если ты умрешь, не будут ли белые укорять нас, что мы позволили тебе отправиться в эту неизведанную, вредную для здоровья и неприветливую страну?» И он отвечал, что его друзья не будут бранить их, потому что у Секелету он оставил на хранение книгу, в которой записано, как готовилась экспедиция; если судьбе будет угодно, чтобы он не вернулся, они должны отослать книгу Моффату. Это был его путевой дневник. И так как Ливингстон слишком замешкался с возвращением, Секелету передал книгу одному купцу с просьбой доставить ее в Куруман, но тот потерял бесценный документ; несмотря на все старания, Ливингстону так и не удалось его разыскать.
В последних письмах к родственникам Ливингстон просит их позаботиться о детях. «Ибо я твердо решил, — писал он, — довести до конца свои исследования южной части Африки, если даже это будет стоить мне жизни. Буры завладели моим имуществом, тем самым избавили меня от труда составлять завещание. С легким сердцем я простил их и счел, что лучше быть в числе потерпевших, чем среди грабителей».
Повозку и все ненужное пока имущество Ливингстон оставил на хранение у макололо, взяв с собой лишь необходимое, чтобы не обременять лишней поклажей сопровождавших его людей. Огнестрельное оружие экспедиции состояло из трех мушкетов и двух личных ружей Ливингстона. Из провианта взяли с собой сухари, чай, сахар и двадцать фунтов кофе. В предварительную свою поездку Ливингстон успел заметить, как много здесь дичи, поэтому стол, видимо, будет в достатке обеспечен мясом. Небольшой оловянный сундучок был заполнен рубашками, брюками, обувью, предназначенными для использования, когда он прибудет в цивилизованное общество; одежда для дороги была засунута [88] в мешок. В нескольких ящиках находились медикаменты, книги, в том числе Библия, морской календарь, а также логарифмическая таблица и «волшебный фонарь». Просмотр фотоснимков через «волшебный фонарь» всегда более впечатлял, чем проповеди. Секстант, угломерный инструмент, используемый в мореходстве, термометр и компасы несли наиболее надежные люди. Боеприпасы были равномерно распределены по всем вещам, чтобы при несчастных случаях не потерять все сразу.
Спал Ливингстон в небольшой палатке, стелил на земле попону, а укрывался овечьей шкурой. Для меновой торговли он припас двадцать фунтов стеклянных бус. При длительном, многомесячном путешествии это снаряжение было, несомненно, довольно скудным. «Другие, может быть, нашли бы безрассудным пускаться в путь таким образом, но я был убежден в том, что если не достигну цели, то это произойдет не от нехватки каких-либо мелочей, а из-за недостатка мужества».
Уже не раз мы об этом слышали, но при случае полезно и повторить: географическую карту мира прошлого столетия мы с трудом можем себе представить. Мы привыкли к тому, что на нынешних картах в наших атласах мы можем найти все, они усеяны линиями, пуансонами и названиями. И до того как откроем карту Африки, мы приблизительно знаем, как и куда текут Нил, Конго, Замбези, где расположены высокие горы и большие озера. Но вот представьте себе, что на какое-то время утрачены все эти познания и вместо рек и озер на карте расползлось огромное белое пятно, которое до второй половины прошлого столетия, как непроницаемое облако, укрывало глубинные области Африки. Естественно, у исследователя появляется соблазн восполнить пробелы в знаниях.
Когда Ливингстон отправился в первое по-настоящему научное путешествие, еще не было открыто ни одно из великих восточно-африканских озер, хотя, как ни странно, они уже столетиями изображались на географических картах; правда, их положение, размеры и форма показывались по-разному и были далеки от истинных. Еще не был решен вопрос об истоках Нила, а Замбези и Конго были известны лишь на коротких приустьевых участках. И вот на это огромное белое пятно почти одновременно повели наступление Ливингстон — с юга и запада, Бёртон, Спик, Грант и Бейкер — с востока и севера. Только в 50-х и 60-х годах, а также в результате путешествия Стэнли по Конго в 1876 и 1877 годах в общих чертах были решены основные загадки Африки.4) [89]
Необъятная страна, полная тайн и опасностей, — вот что значило белое пятно для смелых первопроходцев. Многие месяцы, а то и годы оторванные от внешнего мира, плыли они в неведомые дали по рекам, пробирались через бесконечные леса, саванны и болота, где им грозили смертью лихорадка, дикие звери и отравленные стрелы.
Это путешествие даже Ливингстону представлялось полным приключений, хотя он отнюдь не падок до них и не верит в существование рогатых, хвостатых и одноглазых людоедов, о чем охотно тогда рассказывали африканцы, прибывающие из глубинных мест. Выступление в путь из Линьянти открывает новую главу его жизни.
11 ноября 1853 года Ливингстон и двадцать семь макололо покинули Линьянти и отправились в челнах вниз по реке Чобе. Широкая и глубокая река, извиваясь, как бы с трудом прокладывала себе путь. На берегах макололо всюду создали поселки в качестве сторожевых постов против своих извечных врагов — матабеле. Около каждой деревни гребцы приставали к берегу, чтобы запастись провиантом. Секелету дал указания старейшинам деревень снабжать продуктами путешественников.
Ливингстон не мог жаловаться на своих спутников: они отличались сноровкой и усердием в работе. На речных порогах незамедлительно прыгали в воду, чтобы предотвратить беду, которую сулила встреча с водоворотом или подводной скалой. Теперь, при низкой воде в конце сухого сезона, такие места особенно опасны, и тут нужны ловкость и присутствие духа, чтобы провести лодки невредимыми.
Почти незаметно проскользнули из главного рукава Чобе в самую Замбези, которая также распадается на множество рукавов. Ливингстону даже не удалось точно установить место слияния этих рек. Теперь надо еще больше прилагать усилий, ибо далее путь идет уже вверх по реке. Путевой дневник заполняется наблюдениями над птицами, рыбами, крокодилами и многочисленными бегемотами, которые целыми стадами лежат под водой в тихих местах и показываются лишь, чтобы глотнуть воздух.
Дни протекают довольно однообразно: «...встаем незадолго до пяти часов, как только начинает светать. Пока я одеваюсь, кофе готов. Наполнив себе жестяную кружку, отдаю остальное своим спутникам, которые с большим удовольствием пьют этот бодрящий напиток. Начальник еще распивает кофе, а слуги уже грузят поклажу в челноки, и, наскоро покончив с завтраком, мы все садимся в них. Последующие два часа — самое приятное время дня. [90]
Гребцы работают ладно — бароце как будто созданы для этого: у них хорошо развиты грудные и плечевые мышцы, ноги же короткие. Нередко они бранятся между собой, но лишь ради того, чтобы прогнать скуку. Около одиннадцати часов мы выходим на берег и едим то, что осталось от ужина. Если ничего не осталось, довольствуемся сухарями с медом, запивая их водой. Это и есть обед.
Отдохнув часок, мы возвращаемся в лодки, и я сажусь уже под зонт. Жара гнетущая. Не защищенные от солнца гребцы обливаются потом. Иногда нам попадается подходящее местечко для ночлега часа за два до захода солнца, и, так как все утомлены, охотно остаемся здесь до утра. На ужин снова кофе и сухари или кусок черствого хлеба из кукурузной или просяной муки. Если посчастливится подстрелить какую-либо дичь, то режем мясо длинными кусками и варим полный котел».
Вечером, как только путешественники причаливают к берегу, слуги начинают резать траву для постели Ливингстона, ставят по бокам ящики и жестяные банки и над ними разбивают палатку. Перед палаткой разводят большой костер, вокруг которого все рассаживаются. Каждый обычно знал свое место сообразно рангу. Около костра сооружали из жердей и веток что-то вроде загородки для волов, а от дождя покрывали ее травой. В пище придерживались местной кухни. Повару достается то, что остается в котле, поэтому каждый охотно вызывается быть поваром. Как только Ливингстон уходит на покой, главный лодочник ложится у входа в палатку. Другие устраиваются небольшими группами в соответствии с принадлежностью к тому или иному племени. Костер вскоре гаснет, и над лагерем воцаряется глубокая тишина.
Давно уже остался позади поселок Сешеке. В обход водопада Гонье снова приходится тащить лодки на шестах. «Люди поднимают шесты на плечи, бодро и весело берутся за работу. Они жизнерадостны, малейшая шутка вызывает у них неудержимый хохот».
В пути Ливингстону сообщили, что отряд макололо предпринял грабительский набег как раз на ту местность, которую он намеревался посетить. Грабители разрушили много селений и в качестве пленных увели несколько жителей. На всенародном собрании ему удалось посрамить главных виновников инцидента и заручиться их обещанием, что они больше так не поступят. Слава о нем обгоняет его в пути; растет его авторитет, столь необходимый для успеха дела. Особенно славят его повсюду женщины: они называют его Великий Господин и Великий Лев и выражают ему пожелание счастья и успеха в пути, хотя он и просит не произносить таких похвал. Жители деревень доставляют ему рабочих волов, а также [91] скот для убоя. Молока и масла приносят столько, что не вместить в лодки.
Часть людей Ливингстона плывет в лодках вверх по течению, согласуясь в темпе с теми, кто едет верхом на волах или идет пешком вдоль берега. Берега Замбези изобилуют затонами, и их приходится огибать, поэтому путь вдоль берега длиннее и труднее, чем по воде; правда, кое-где лодочники переправляют на лодках идущих по берегу. Здесь водится множество крокодилов, и с тех пор, как однажды крокодил схватил одного из членов экспедиции за бедро и попытался утащить его в воду, Ливингстон не мог без содрогания смотреть, как люди пускаются вплавь через реку. Благодаря присутствию духа пострадавший отделался лишь раной в мягких тканях: он вонзил свое копье крокодилу в затылок, и тот выпустил его. Жертвами крокодилов здесь ежегодно становятся многие, прежде всего дети, любящие воду. Но численность крокодилов все время уменьшается, так как жители выискивают их гнезда и забирают яйца, тем самым ограничивают их размножение.
Но вот экспедиция подошла к пределам земель, подвластных макололо. Изредка еще встречаются пасущийся скот и отдельные деревушки. Затем путники движутся по безлюдным и нетронутым местам и наконец достигают юго-западной части государства Лунда, расположенного между землями Секелету и захваченной португальцами Анголой. С наступлением периода дождей Ливингстон снова страдает от приступов лихорадки. Ливни, правда, действуют на путешественников освежающе, но в воздухе по-прежнему чувствуются зной и духота.
Благодаря заботам Секелету и щедрости местных жителей у экспедиции оставались еще изрядные запасы продуктов. К тому же в малонаселенных местах полно животных, особенно антилоп. Однако без нужды Ливингстон не стреляет. «Было очень жаль стрелять в таких прекрасных и кротких животных. Для того чтобы подкрасться к ним на пятьдесят — шестьдесят ярдов, не нужно быть очень опытным охотником. Я лежу и любуюсь грациозными формами и движениями поку, лече и других антилоп, пока люди, озадаченные моим загадочным поведением, не подойдут ко мне и не вспугнут их. Если бы мы страдали от голода, то я едва ли поколебался тут же подстрелить животное, как не стал бы раздумывать, стоит ли ампутировать больному конечности, если это спасет ему жизнь».
Спутники Ливингстона никогда прежде не держали в руках огнестрельного оружия и вначале пользовались им неумело. Поэтому они попросили Ливингстона сообщить им «ружейное лекарство» — заклинание, которое, по их мнению, обеспечило бы им [92] попадание в цель при стрельбе. Ливингстон знал, что некоторые европейцы делали так в угоду местным людям, но он не хотел их обманывать и отклонял просьбы; его отказ они истолковывали ложно — как нежелание поделиться знаниями и недружелюбие. При его поврежденном суставе, оставшемся как память о нападении льва в Маботсе, нелегко попасть в цель, ведь он не может твердо держать в руках ружье. И его спутники с радостью взялись бы за охоту, тем более что он подробно объяснил им устройство ружья и правила пользования им; но если бы он предоставил им свободу действия, то они за короткое время израсходовали бы все его боеприпасы.
В конце декабря 1853 года экспедиция добралась до того места, где река Либа, текущая с запада, впадает в Замбези.5) Но, к сожалению, оказалось, что река Замбези не может стать столь желаемым водным путем в глубь материка, ибо в ней слишком много песчаных отмелей и порогов, а водопад Гонье служит непреодолимым препятствием для судов.
Экспедиция покидает Замбези и продолжает путь по реке Либа, которая, петляя, спокойно прокладывает себе дорогу через напоенные влагой девственные леса. Между деревьями с густой сочной зеленью листвы растут гигантские папоротники. Вековые леса чередуются с обширными саваннами, над которыми поднимаются живописные купы деревьев. В конце сухого сезона трава обычно бывает выжжена, но с наступлением дождей пробилась новая, сочная, нежно-зеленая. Местность выглядит как ухоженный парк.
К концу года все заметнее становилось приближение периода дождей, и вот уже каждый день разражаются сильные ливни.
За рекой, где-то в глуши, говорят, находится деревня Маненко — первой женщины-вождя на пути отряда. Ливингстон обыкновенно приветствует повелителя страны, через которую он проезжает, и уведомляет его о цели своей поездки. К Маненко он также отправил своего посланника и спустя четыре дня получил приглашение навестить ее. Но ее деревня далеко в стороне, пришлось бы потерять много времени, поэтому он продолжает путь на север вверх по Либе.
6 января нового 1854 года экспедиция достигает деревни, где у власти стоит также женщина. Так как в стране Лунда господствует матриархат, здесь нередко роль вождя выполняет замужняя женщина, муж которой является «принцем-консортом», как в Англии. Здешний вождь Нямоана доводится матерью Маненко и сестрой Шинте — самому могущественному вождю балунда в этой части государства Лунда. [93]
Ливингстон наносит Нямоане визит вежливости; его сопровождают несколько спутников, один из них — в качестве переводчика. Повелительница восседает рядом с мужем на троне — небольшом холмике, на вершине которого расстелены шкуры; чуть в стороне от них расположились около сотни мужчин и женщин. У всех мужчин, как и у «принца-консорта», при себе копье и меч, у многих лук и стрелы.
Нямоана — пожилая, некрасивая и, как потом оказалось, коварная женщина. Ливингстон и сопровождающие его люди сложили оружие и приветствовали мужа Нямоаны, хлопая в ладоши по обычаям страны. «Принц-консорт» указал при этом на жену: ей, мол, подобает эта честь, и Ливингстон повторил приветствие, обращаясь на сей раз к ней. Затем он сел против них на принесенную циновку. Переговоры проходили в духе господствующего здесь церемониала: Ливингстон говорит своему переводчику, тот переводит сказанное переводчику балунда, который сообщает услышанное мужу Нямоаны, а тот наконец воспроизводит все для самой повелительницы. Ответ проходит те же инстанции в обратном направлении. «Я изложил им мои истинные намерения, не желая вводить их в заблуждение или изображать себя в ложном свете, ибо мой опыт постоянно убеждал меня, что с нецивилизованными людьми лучше всего вести себя откровенно и правдиво».
Ливингстон намерен продолжить путь вверх по реке Либа до тех пор, пока будет возможно. Однако Нямоана убедительно просит его навестить ее брата, могущественного Шинте. Но Шинте проживает вдали от реки, поэтому Ливингстон отказывает ей в просьбе. Однако Нямоана не сдается. На пути, предупреждает она, встретится водопад; там живут воинственные балобале, которые, несомненно, предпримут нападение на чужеземцев и перебьют их. Ливингстон говорит, что не раз уже подвергался смертельному риску, и выражает опасение, что скорее вынужден будет сам кого-либо убить, прежде чем убьют его. Однако Нямоана ловко парирует: его самого, возможно, балобале и не убьют, но могут убить его спутников. В результате переводчик и другие сопровождающие проявляют нерешительность и начинают поддерживать просьбу Нямоаны.
Неожиданно в деревне возникает какая-то суета: прибыла Маненко с мужем, их сопровождают несколько подданных. Это крупная здоровая молодая женщина. Ее тело смазано какой-то смесью жира и охры, и вся она увешана всевозможными амулетами и украшениями. В остальном она ничем не отличается от многих женщин народности балунда — ходит совсем голая и отнюдь не из бедности: будучи вождем, она могла бы позволить себе одеться по [94] крайней мере не хуже, чем некоторые из ее подданных, но она считает, что неодетой она выглядит элегантнее. Маненко тотчас же включилась в беседу, и, так как и она принялась советовать Ливингстону навестить Шинте, то в конце концов он сдается.
Впоследствии Ливингстон советовал Нямоане установить дружбу с народностью макололо. Она охотно согласилась с этим и предложила, чтобы чужеземный переводчик из макололо для скрепления дружественного союза выбрал себе в жены девушку из ее племени. Эта умная женщина надеялась иметь посредника, от которого она в любое время могла бы получать сведения о намерениях и планах макололо, ибо он часто приходил бы сюда, чтобы навестить жену; к тому же макололо, пожалуй, не стали бы делать набеги на деревню, в которой живет их близкая родственница. Переводчик согласился и, женившись, оставил экспедицию. Ливингстон был доволен, что внес еще один вклад в дело мира.
Продовольственные запасы экспедиции были на исходе — надежда только на балунда. Нямоана и Маненко, правда, прислали им клубней маниоки, но, так как члены экспедиции привыкли к полным котлам мяса в стране макололо, это для них был очень скудный стол. Маненко тем временем велела позвать людей из своей деревни, чтобы те отнесли багаж гостей к ее дяде Шинте. В ожидании людей снова были бесполезно потеряны несколько дней. Это беспокоило Ливингстона, и он велел доставить багаж к лодкам, чтобы продолжить путь по Либе, не заходя к Шинте.
Но тут вмешивается Маненко и приказывает своим людям отложить багаж в сторону. Повернувшись к Ливингстону, она спокойно объясняет ему, что прикажет нести этот груз к Шинте даже против его воли, ибо ее дядя очень обидится на нее, если она не обеспечит доставку слоновых бивней, которые вождь Секелету вручил своему белому другу для продажи. Удивленный и раздосадованный Ливингстон видит, что его люди беспрекословно подчиняются власти женщины, но Маненко подходит к нему, дружественно кладет руку на плечо и мягким тоном заявляет: «Ну, дорогой, поступай же так, как и другие». Ливингстон не мог больше обижаться на нее и покорился судьбе.
И вот к выходу в путь все готово. Дождь, к сожалению, не прекращался. Маненко сопровождали муж и барабанщик. В пути она прибавила шагу, так что Ливингстон, сидевший верхом на воле, едва поспевал за нею. На вопрос, почему она при такой погоде не накинет на себя что-нибудь, она отвечает: «Вождь не имеет права быть неженкой, он всегда должен выглядеть бодрым и крепким, быть спокойным и хладнокровным, даже в плохую погоду». [95] Спутники Ливингстона восхищались ею и с гордостью заявляли: «Маненко — настоящий воин».
Путь шел по густому, мрачному лесу, иногда попадались прогалины и даже возделанные участки. Приближаясь к деревне, Маненко, чтобы собрать видных людей, подает знак бить в барабаны. А когда караван останавливался на ночлег, жители предоставляли чужестранцам конусообразные крыши своих хижин. Эти крыши путешественники ставили на колья и так проводили ночь, спасаясь от дождя. Деревни были окружены полями спелой кукурузы, но жители не предложили ни белому человеку, ни Маненко чего-либо поесть — путники легли спать голодными. Настроение у всех было подавленным из-за голода и частых грозовых дождей. На одежде и обуви появилась плесень. Постельное белье и упакованные вещи пахли плесенью, хирургические инструменты и оружие покрывались ржавчиной, хотя каждый день их смазывали маслом.
Маленькая палатка Ливингстона стала ветхой и дырявой, при каждом порыве ветра на одеяло падали брызги дождя. Лишь на короткое время прорывалось солнце. Только 14 января выдался солнечный день и можно было просушить вещи.
И вот навстречу экспедиции прибывают гонцы от Шинте и привозят вяленую рыбу и две корзины маниоки. Они с удивлением разглядывают белого человека, особенно гладкие белокурые волосы. Ливингстон снял головной убор, чтобы дать им возможность как следует рассмотреть их. «Настоящие ли это волосы? Я думаю, это парик». Сами-то они носят парики из окрашенных в черный цвет растительных волокон. «Это вовсе не волосы, а львиная грива». — «Этот белый человек, наверно, из тех, кто обитает в море». Они, очевидно, слышали о людях, которые на своих судах выплывают, как им кажется, из глубин океана. Спутники Ливингстона хорошо запомнили эти слова и в дальнейшем выдавали его за представителя людей, обитающих в море: «Посмотрите только на его волосы, они прямые и отбеленные морской водой!» Во время последующих встреч с местными жителями они часто заявляли Ливингстону: «Эти люди хотели бы поглядеть на твои волосы». Но он уже знал, что, забавляясь, его друзья рассказывали жителям сказки о морском человеке.
На шестой день экспедиция наконец добралась до деревни, где проживал Шинте. Напротив места, где расположились путешественники, уже разбили свой лагерь два африканских купца, которые, однако, называли себя португальцами. У них было несколько молодых невольниц, закованных в цепи. Многие спутники Ливингстона впервые увидели цепью скованных людей и [96] возмущались: «Кто поступает так со своими детьми, тот не человек!» Дело в том, что купцы приобрели этих девушек здесь в окрестности.
Шинте торжественно принял гостей: устроил военный парад, гремело множество барабанов, звучала музыка и неслась громкая речь. В заключение раздался дикий треск ружейных выстрелов, для этого были собраны все ружья. Во время аудиенции, состоявшейся на следующий день, Ливингстон спросил Шинте, видел ли он прежде белого человека. «Никогда, — ответил тот, — ты первый человек с белой кожей и гладкими волосами, которого я вижу. И такой одежды, как на тебе, я тоже никогда раньше не видел». Следовательно, делает вывод Ливингстон, тут не бывал ни один европеец.
Однажды в деревню с громкими воплями приходит женщина, живущая с мужем и двумя детьми в хижине на окраине: оба ее ребенка в возрасте семи и восьми лет вдруг исчезли. Они ушли за дровами. Родители исходили весь лес, но следов детей не обнаружили. Хищных животных вблизи нет, поэтому можно предполагать, что кто-то захватил и спрятал детей, чтобы затем тайно продать их в неволю. Похищение детей с такой целью случается нередко. После одного события подобного рода Ливингстону стало ясно, что родителям нечего ожидать помощи от своего вождя.
Однажды ночью его позвали к Шинте, хотя он неоднократно говорил вождю, что предпочитает вести переговоры честно и откровенно в дневное время. Когда Ливингстон вошел в его хижину, Шинте предложил ему девочку лет десяти и заявил, что он имеет обыкновение каждому посетителю отдавать ребенка в качестве подарка. Ливингстон учтиво поблагодарил за доброе к нему отношение, однако добавил, что отбирать детей у их родителей он считает подлостью и очень хотел бы, чтобы вождь бросил это занятие. Но Шинте, кажется, не понял: «Любой важный человек держит у себя ребенка, только у тебя нет. Он хоть воду тебе принесет, когда нужно». «У меня четверо детей, — ответил Ливингстон, — и я был бы крайне возмущен, если бы какой-либо вождь отобрал у меня мою маленькую дочку и подарил ее другим, и поэтому я предпочитаю, чтобы подаренная мне девочка оставалась у своих родителей и носила воду матери». На сей раз, казалось, наступило «просветление» у вождя: тогда Шинте велел позвать девушку постарше: он счел, что белый человек желает еще одну служанку. Тогда Ливингстон заявил без обиняков, что у него и его соотечественников любой вид рабства вызывает отвращение.
Однажды вечером Ливингстон приглашает Шинте и его придворных на показ диапозитивов с помощью «волшебного фонаря». Это были большей частью картины из жизни праотцев, какими их [97] представляет Ветхий завет; они ведь были такими же скотоводами, как и африканцы. На сей раз он начал с показа картины из жизни Авраама, который по требованию бога приносит в жертву своего сына Исаака. Зрители видели фигуры людей во весь рост, прародителя с занесенным над жертвой мечом в приподнятой руке. Ливингстон поясняет им: Авраам, мол, родоначальник племени, которому бог даровал Священное писание, Библию, а при потомках Авраама появился спаситель мира. Зрители слушали терпеливо. Когда Ливингстон оканчивает пояснение картины, он вытаскивает ее из аппарата, но при этом Авраам как бы делает движение, и кажется, будто меч в приподнятой руке направляется прямо на зрителей. Раздается пронзительный крик ужаса! Все вскакивают со своих мест и бросаются бежать. Никого не осталось, за исключением Шинте, который спокойно подходит к проекционному аппарату и просит объяснить принцип его действия.
Наконец ливни прекращаются, и экспедиция готовится в дальнейший путь. В последний день Шинте навещает своего гостя в его крошечной палатке и внимательно рассматривает зеркало, щетку для волос, книги, часы. Затем вытаскивает нитку бус и конусообразную раковину и в знак дружбы вешает эти украшения Ливингстону на шею. Раковина — большая ценность: за две такие раковины можно купить раба, а за пять — слоновый бивень внушительных размеров.
Шинте еще раз щедро обеспечивает своих гостей продуктами и устраивает пышные проводы. Когда Ливингстон выходит в путь, вождь дает ему проводников, которые должны сопровождать его до самого моря, и обещает свою поддержку на всем пути. Однако Ливингстон понимает, что это всего-навсего лишь пожелание успеха. В действительности же проводники возвратятся, как только экспедиция достигнет владений следующего верховного вождя, ибо далее власть Шинте теряет свою силу. «Мы расстались в надежде, что бог ниспошлет на него свое благословение...» На него-то, на рабовладельца Шинте!? И снова Ливингстон чувствует душевный разлад, который не может преодолеть собственными силами: да, «язычник» Шинте — работорговец, и в то же время он ведь неплохой человек. Нельзя же осуждать его за то, что бог оставил его прозябать в невежестве. Однако недолго мучит Ливингстона эта дилемма: решение вопроса он оставляет на волю бога.
Далее путь идет по редколесью между зелеными холмами. Местность заселена довольно густо: в каждой долине ютится деревня из двадцати — тридцати домов. Жители возделывают маниоку, бобы и земляные орехи, обрабатывают железо, которое получают из руды, в большом количестве встречающейся в здешних холмах. [98]
Долина реки Либа повсюду залита водой. Под густой травой вода едва видна, но копыта волов постоянно хлюпают в воде, и от летящих вверх брызг не просыхают ноги у Ливингстона и двух знатных макололо, едущих верхом на волах. В свою очередь люди, идущие пешком, жалуются, что их мозолистые ступни покрылись язвами от постоянного пребывания в воде. Ночью лагерь разбивали обычно на островках или в деревнях, но даже там надо было насыпать кучу земли и рыть канавы, чтобы прилечь на сухом месте.
Двигаясь в северо-западном направлении, путники преодолевали многочисленные реки и ручьи. Целыми днями люди шли насквозь мокрые. Некоторые реки были так глубоки, что при переходе их из воды торчали лишь головы волов, а одеяла, использовавшиеся как седла, были совсем мокрые. «Подмышечная впадина — единственное место, где можно было сберечь часы и от дождя сверху, и от воды снизу. Преодолевая такие реки, люди поднимали поклажу над головой».
Теперь уже деревни под властью другого верховного вождя. В городе, где он сам живет, состоящем, собственно, из нескольких слившихся деревень, гостей приняли так же радушно, как и в резиденции Шинте. Ливингстон и сопровождающие его люди снова пользуются исключительным гостеприимством. Такой прием оказывают обычно лишь близким друзьям.
Некоторые притоки Либы вытекают из озера Дилоло, длина которого лишь шесть — восемь миль, а ширина самое большее две мили. Изучая его, Ливингстон обнаружил, что воды озера текут не только на юго-восток, но и на северо-запад: частично в Либу и тем самым в Замбези, а отчасти и в Касаи, приток Конго. Следовательно, воды озера питают и Атлантический, и Индийский океаны. Неожиданно для Ливингстона это неприметное озеро и его затопленные окрестности оказались водоразделом между речными системами Замбези и Конго. Таким образом, ему посчастливилось сделать замечательное открытие, что послужило важным вкладом в познание орографии внутренних районов Африканского материка.
К сожалению, по ту сторону маленького озера Дилоло экспедиция обнаружила изменения не только в направлении рек, но и в отношении к ним местных жителей. Они не проявляют радушия к прибывающим, не обмениваются с ними подарками: они пристрастились к торговле, причем и цены они знают хорошо. В обмен за товары или за услуги они просят прежде всего патроны, которые ценятся очень высоко. В крайнем случае они уступят свой товар за миткаль или бусы. Но деньги и золото здесь не в моде. А у Ливингстона нет ни боеприпасов, ни иных подходящих для продажи [99] вещей. И путешественникам ничего не оставалось, как потуже затягивать пояса, потому что даже дичи в этих местах не найдешь. Один из местных проводников добыл себе на ужин крота и двух мышей. В деревнях не раз можно было видеть, как дети выкапывают из нор грызунов. Ливингстон вынужден был променять на муку и маниоку оставшиеся еще бусы.
Чем ближе экспедиция к цели, тем труднее и опаснее путешествие. То и дело приходится переправляться через затопленные долины. Кое-где вода доходит до подбородка, а иногда путники переправляются вплавь, при этом они умело держатся за хвосты плывущих волов. Однажды Ливингстон спрыгнул со своего вола в глубоком месте; сильное течение помешало ему вновь взобраться на спину вола, и так в одежде и обуви ему пришлось вплавь добираться до противоположного берега. Как только его спутники увидели, что их начальника относит течением, чуть ли не двадцать человек бросились в воду, чтобы спасать его. Но он и без их помощи добрался до берега. Тут они, сияющие от радости, окружили его, притащили его вещи, выловленные в воде; он растроганно благодарил их за готовность оказать помощь. Пришедшие к вечернему костру путников жители ближайшей деревни старались запугать их предстоящей опасной переправой через глубокую реку. Однако это предостережение вызвало лишь смех у сидевших путников: «Все мы умеем плавать, белый человек совсем один только что переплыл глубокую реку». Полусерьезно, полуиронически заканчивает Ливингстон запись в дневнике в этот день: «Такая похвала вызвала у меня чувство гордости».
В марте экспедиция вступила на земли народности чибокве. В многочисленных деревнях люди не испытывают недостатка в необходимом, и жители охотно предлагают всевозможную еду, но взамен они хотят получить хлопчатобумажные ткани, а их у Ливингстона уже не осталось, и, разочарованные, они уходят.
В деревне, где правит вождь чибокве Нжамби, Ливингстон, поскольку все запасы иссякли, велит забить самого слабого вола. Пару кусков мяса он посылает вождю. Нжамби благодарит и обещает прислать продукты. Утром человек передает обещанную посылку, но, к сожалению, очень скудную, и вдобавок требование вождя отдать ему за проход чужеземцев по его земле одного человека, одного вола или одно ружье с боеприпасами. Если белый уклонится от уплаты, то не получит разрешения на дальнейший путь. Ливингстон велит передать вождю: никто не имеет права требовать дань у людей, не являющихся работорговцами. Когда посланники уходят, один из них замечает: «У них [у Ливингстона] всего пять ружей». [100] Около полудня чибокве кучками окружают лагерь. Спутники Ливингстона хватаются за свои дротики. Воины чибокве начинают угрожать, яростно размахивая мечами, целятся из ружей в Ливингстона, чтобы запугать его.
Ливингстон спокойно садится на свой раскладной стул, кладет ружье на колени и предлагает вождю тоже сесть. Хладнокровие исследователя вызывает неуверенность у Нжамби, и он вместе со своими советниками садится лицом к Ливингстону. Этим уже многое сделано. На вопрос, почему чибокве пришли сюда вооруженными, Нжамби указывает на одного из людей Ливингстона и заявляет: когда тот человек плюнул, его плевок попал на одного чибокве; эту вину надо искупить — выдать им как минимум одного человека из сопровождающих Ливингстона и одного вола или одно ружье. Виновный не отрицал своего проступка, но сказал, что это произошло случайно. Ему, несомненно, можно было верить, ведь он проявил желание уладить инцидент и только что преподнес «пострадавшему» кусок мяса в качестве подарка, а плевок свой он еще тогда же вытер. Вождь использовал этот пустяковый и давно улаженный казус как предлог для своих требований. Ливингстон возразил ему: «Вы хотите взять одного из нас? Мы все предпочтем скорее умереть, чем позволить стать одному из нас рабом. Мы крепко стоим друг за друга, ибо все мы свободные люди». — «Тогда дайте мне по крайней мере одно ружье, которым вы убили здесь вола». Но Ливингстон твердо отказывает вождю, так как ружье лишь побудит чибокве к агрессивности. Нжамби настаивает на своем требовании, Ливингстон решительно отвергает его. Ради достижения мира спутники Ливингстона просят его разрешения отдать что-нибудь вождю, и он снова жертвует своей рубашкой. Однако это не задобрило чибокве, и они воинственно размахивали мечами. Ливингстон добавил тогда бусы и платок, но и этого оказалось мало.
Поведение чибокве становилось все более угрожающим.
«Мне хотелось во что бы то ни стало избежать кровопролития. Правда, я был убежден, что с моими макололо, обученными Себитуане, отбил бы и вдвое больше нападающих, хотя их и без того было множество, вооруженных копьями, мечами, луками и даже ружьями, но тем не менее я пытался предотвратить стычку. Мои люди к подобному столкновению не были готовы, но сохраняли полное спокойствие.
Когда вождь и его советники последовали моему предложению и присели, они оказались в незавидном положении. Мои люди тем временем совершенно спокойно окружили их и дали понять, что им не удастся избежать наших копий. Затем я заявил чибокве: [101] поскольку вам ничем не угодишь, то мне ясно, что вы сами лезете в драку, хотя мы намереваемся мирно пройти через ваши земли. Итак, развязать битву придется все же вам и тем самым взять на себя всю вину перед богом; мы не ввяжемся в борьбу, пока вы не предпримете первый удар. Затем я еще некоторое время сидел спокойно, присматриваясь к чибокве... Вождь и его советники поняли теперь, что они оказались в большей опасности, чем я. У них пропало желание взять на себя инициативу, и, возможно, спокойная решимость моих людей также отрезвляюще подействовала на них.
Наконец они заняли явно примирительную позицию и заявили: «Вы ведь прибыли к нам совсем не так, как это принято: заявляете, что вы пришли как друзья, а сами, например, не делитесь с нами своей пищей. Дайте нам одного вола, и мы дадим вам все, что вы пожелаете. Тогда станет ясно, что вы действительно наши друзья»».
Ливингстон, посоветовавшись со своими спутниками, отдает этим людям одного вола. Вечером Нжамби присылает ему полную корзину съестного и два или три фунта мяса от подаренного им вола и одновременно передает извинение: птицы у него нет, а других продуктов очень мало.
«Такое проявление великодушия после всего происшедшего не могло не вызвать улыбки. И, несмотря на это, я благодарил бога: мы ведь так долго шли и так далеко и благополучно пробрались, не пролив ни капли ни чужой, ни своей крови, хотя всегда были полны решимости: лучше всем умереть, чем уступить кого-нибудь из нас в качестве раба».
Местные проводники утверждали, что работорговцы навещают племена, живущие между страной чибокве и побережьем Атлантического океана, и в результате установившихся здесь порядков Ливингстон может потерять так много своих попутчиков, что ему придется добираться до побережья в одиночку. Поэтому он решил идти обходным путем и вначале повернул на север.
Не раз еще пришлось Ливингстону встречаться с враждебными настроениями племен, препятствовавших его проходу через их земли; однако всякий раз благодаря мужеству и дипломатическому такту ему удавалось избегать кровопролития. Он знал, что именно работорговля породила алчность у вождей и других представителей местного населения. Африканские работорговцы вынуждены были всячески угождать местным вождям, ибо им при возвращении из внутренних областей приходилось переходить их земли, и в один прекрасный день они могли лишиться всего живого товара. И пока процветавшая работорговля приносила португальцам [102] солидный доход, они спокойно относились к такому положению. «Мы столкнулись с такими порядками, — пишет Ливингстон, — которые совсем не известны на родине моих спутников... Мои люди почувствовали какую-то неуверенность и выразили желание вернуться домой. Перспектива повернуть назад, когда мы уже приблизились к португальским колониальным владениям, меня крайне обеспокоила. Исчерпав все способы уговорить их, я заявил, что, если они направятся в обратный путь, я все равно пойду вперед, даже один. И после этого я ушел в свою палатку». Спустя некоторое время один макололо просунул туда голову и сказал: «Мы никогда тебя не оставим. Не теряй мужества! Куда бы ты нас ни повел, мы последуем за тобой». Другие, присоединившись к его словам, заверили Ливингстона «просто и сердечно», что они все его дети и, если будет необходимо, пойдут за него и на смерть.
Приступы лихорадки не прекращаются. От истощения Ливингстон почти не может идти и чаще всего едет верхом на воле. Но в конце марта путники попадают в местность, где приходится преодолевать глубокие и тесные долины, а подъем иногда так крут, что Ливингстон, хотя он и очень слаб, предпочитает идти пешком, чем свалиться с вола. «Эта беспомощность в высшей степени несвоевременна и производила даже на меня самое неприятное впечатление, как если бы я видел мужчину, будь он болен или здоров, проявляющего женскую слабость».
4 апреля у какой-то реки6) путешественники наконец встретили молодого португальского солдата, метиса. Он назвал себя Чиприано; живет на том берегу с двумя подчиненными ему солдатами; переплыл сюда, чтобы набрать здесь пчелиного воска. Он охотно приглашает к себе путешественников.
Все солдаты передового поста, которым командует Чиприано, — метисы. Они выстроились перед своим приятным на вид и весьма опрятным домиком и приветствовали пришельцев. Власти Анголы послали их сюда, чтобы подчинить местное племя, которое доставляло немало хлопот торговцам. Теперь эти солдаты живут среди покоренных людей и перебиваются кое-как торговлей и земледелием, ибо правительство им ничего не платит.
Перед домиком Чиприано Ливингстон разбивает свою ветхую и дырявую палатку. А португалец, принимая чужестранцев, опустошил весь огород, забил даже вола, о вознаграждении же и слышать не хочет. Он лично приглашает Ливингстона к столу, на [103] завтрак подает земляные орехи, поджаренную кукурузу, отваренные клубни маниоки, на десерт — гуаву и мед, а на обед — птицу. Перед едой и после ее рабыня поливает господам воду на руки. К такому этикету, надо полагать, Ливингстон должен будет привыкнуть в Анголе: у каждого португальца имеются свои рабы.
После трех дней перехода экспедиция прибыла в Касанже (Шасенге) — португальское поселение, наиболее удаленное от западного побережья. Дома, плетеные каркасы которых обмазаны глиной, окружены огородами и деревьями. В Касанже проживает около сорока португальских купцов — или, как здесь говорят, «офицеров». Да, они одновременно и то и другое. Некоторые из них обогащаются тем, что снаряжают и отправляют с товарами внутрь страны своих торговых агентов из местного населения.
Португальцы оказывают Ливингстону всяческое гостеприимство. Местный комендант приглашает его к себе на ужин и на ночь дает ему приют в своем доме, а утром преподносит ему приличную одежду. Не забывает он проявить заботу и о голодных макололо, не требуя за это платы. Другие жители Касанже также очень гостеприимны, хотя Ливингстона они считали английским агентом, который исследует эти места для борьбы с работорговлей. Он же всегда представляется как миссионер, ведь он и является им на самом деле или по крайней мере все еще верит, что это так. Португальцы лишь понимающе ухмыляются: как может миссионеру прийти в голову заняться определением географической долготы и широты? «Вы доктор медицины и одновременно математик? Вам подобает быть больше чем просто миссионером, вы ведь знаете, как исчисляется долгота. Скажите-ка лучше, какой чин у вас в английской армии?» Очень странным для них, католиков, кажется и то, что этот человек считает себя священником, хотя у него есть жена и дети.
Португалок здесь нет. Мужчины прибывают в Африку только затем, чтобы делать деньги, а потом возвращаются в Лиссабон. Поэтому они редко берут с собой жен, и, следовательно, из них не получается настоящих колонистов. Так как эту страну они не рассматривают как свою новую родину, то и не возделывают здесь землю, не разводят скот, а только торгуют местной продукцией — воском и слоновой костью. Продовольственные и потребительские товары получают из Португалии, Америки и Англии.
До недавнего времени португальские купцы в отдаленных от побережья местах вместе со слоновой костью и пчелиным воском открыто покупали и рабов, по две-три сотни в каждую поездку, чтобы те на своих спинах доставляли товары к побережью. Оттуда товары вместе с носильщиками вывозились в заморские страны. [104] С тех пор как берега Анголы начали патрулировать английские крейсеры, препятствовавшие вывозу рабов, португальцы нашли другие способы транспортировки грузов: по приказу губернатора правители здешних деревень должны были выделять купцам за небольшое вознаграждение носильщиков, а купцы в свою очередь вносили соответствующий налог правительству.
Когда Ливингстон отправился в дальнейший путь, купцы Касанже снабдили его рекомендательными письмами к своим друзьям в Луанде с просьбой принять его у себя дома: гостиниц там не было. Некоторое время португальцы торжественно сопровождали Ливингстона, а их рабы несли его в гамаке. Сколь ни было сильно у него чувство отвращения к рабству, с рабовладельцами он расстался «с чувством глубокой благодарности за их бескорыстную доброту».
До конечной цели путешествия — побережья — оставалось еще 300 миль. Двигаясь от одного португальского поста к другому, Ливингстон приближался к побережью медленно; измученный частыми приступами лихорадки, он сильно ослаб, иногда вынужден был делать длительные остановки. В доме одного коменданта он даже выпил для подкрепления первый с тех пор, как прибыл в Африку, бокал вина; впрочем, от употребления алкоголя и табака он всегда воздерживался. Однако лихорадка подорвала и его духовные силы: «Хотя я не прекращал своих наблюдений, однако не очень-то ориентировался ни во времени, ни в пространстве, не мог даже твердо держать в руках инструменты и производить простейшие вычисления; поэтому определение географического положения многих мест пришлось отложить до того времени, когда буду возвращаться из Луанды. Просыпаясь по утрам, я нередко обнаруживал, что моя одежда так пропитана потом, как если бы меня только что окунули в воду. Напрасно я напрягал силы, чтобы изучить наречие, на котором говорят в Анголе, или составить словарик новых для меня слов. Я забывал даже дни недели и имена моих спутников; были моменты, когда я едва ли мог бы назвать собственное имя, если бы меня вдруг спросили».
В конце мая 1854 года сопровождающие Ливингстона люди впервые в своей жизни увидели океан. Онемев от удивления, долго оставались они недвижимы. Позже они делились с Ливингстоном своими думами, возникшими у них при взгляде на море: «Мы, как и наши предки, верили, что мир бесконечен, но вдруг мир заявляет нам: тут мой конец, меня больше нет».
Ливингстон же глядел на море с чувством глубокого успокоения: его радовало, что первую часть своих планов он выполнил, не [105] пролив ни капли крови, не потеряв ни одного человека. В целом путешествие прошло успешно, задача выполнена, доказано, что из глубинных районов материка можно добраться до западного побережья, хотя путь этот пока труден.
Португальцы утвердились на западном побережье Африки еще в конце XV столетия, в тот период, когда они занимались поисками морского пути вокруг Африки в Индию, славившуюся своими богатствами. Этот путь они искали, чтобы захватить в свои руки торговлю с азиатскими странами, которой до того занимались почти одни арабы, и тем самым заполучить огромные барыши. Вначале они обосновались на Гвинейском побережье и вблизи устья реки Конго. Местные властители кое-где приняли христианство, навязанное им португальскими миссионерами. Главной побудительной причиной к этому было желание заполучить в португальцах, вооруженных огнестрельным оружием, сильного союзника в борьбе против враждебных соседей. Стремясь укрепить здесь свое господство, португальцы охотно оказывали им помощь.
В XVI столетии наблюдается упадок могущества португальского королевства, и африканцы предпринимают попытки сбросить чужеземное господство. В результате португальцы были вынуждены покинуть район Конго. Теперь они сосредоточивают свои силы в Анголе, где утвердились давно, с 1490 года;7) а столетием позже один из завоевателей, уполномоченный короля, а затем губернатор этой местности, основал город Луанда, ставший административным центром колонии. Как и на Гвинейском побережье, в Анголе португальцы ставили своей задачей завладеть прибрежной полосой и заселить ее. Они неоднократно посылали экспедиции в глубь материка, чтобы установить связь со своей колонией Мозамбик, лежащей на восточном побережье материка. Но эти попытки оказались тщетными. В результате португальцы отказались от мысли исследовать и покорить глубинные районы Южной Африки. Все сведения об этих местах они получали лишь от «помбейруш» — местных торговцев, которых отправляли в глубь материка с эскортом, набранным из жителей побережья. Главная их цель — захват или покупка рабов. Живой товар свозили в португальские фактории на побережье, а затем грузили на суда и отправляли в обезлюдевшие колонии европейских держав на американской земле. В результате слабо организованные племена глубинных областей материка за несколько столетий были обессилены и деморализованы.
И лишь в XIX столетии португальские работорговцы попали в затруднительное положение. В 1833 году в британских колониях [106] рабовладение было отменено законом. Правда, рабовладельцы не подвергались экспроприации, ведь они принадлежали к господствующим классам. Правительство выкупило у них рабов, выплатив владельцам 20 миллионов фунтов стерлингов. Но положение рабов едва ли улучшилось: поскольку у них не было земли, они вынуждены были работать за нищенскую плату на плантациях бывших господ.
Да и в XIX столетии даже в колониях самой крупной тогда Британской империи рабский труд местного населения оставался основой хозяйственной деятельности, принося сказочные богатства господствующим классам Великобритании. Но в конце XVIII и в начале XIX века то и дело вспыхивают восстания рабов. Кроме того, социально-экономическое развитие шло к тому, что наемный труд оказался выгоднее принудительного. Все это привело к отмене рабства. Разумеется, британское правительство не упустило случая представить миру отмену рабства как благородное и человеколюбивое дело, и Давид Ливингстон, как всегда простодушный и доверчивый, принял слова за истину.
В интересах британских промышленников и купцов было позаботиться о том, чтобы и другие европейские державы запретили поставку африканских рабов в свои колониальные владения. Прежде всего необходимо было прекратить вывоз невольников в Америку. Хотя другим колониальным державам ничего не оставалось делать, как присоединиться к требованию запретить торговлю рабами, — Франция, правда, приняла такой закон с оговорками, — но на практике это доходное занятие еще долго продолжало процветать. Закрывая глаза на все нарушения и втайне даже потворствуя им, португальское правительство лицемерно заявляло о согласии со своим могущественным союзником. И только когда у побережья Анголы появились британские крейсеры, чтобы силой подкрепить намерения Великобритании, работорговля стала приходить в упадок. Как раз в это время и прибыл Ливингстон в Анголу. Однако нелегально работорговля продолжалась вплоть до конца XIX столетия.
В Луанде, главном городе Анголы, проживало тогда двенадцать тысяч человек; примерно 3/4 их составляли африканцы, из них около пяти тысяч — рабы; 'Д приходилась на метисов, остальные — португальцы. Последние жили в каменных домах, местное же население обитало в глинобитных лачугах.
Единственный в городе англичанин, некий Габриэль, находился здесь в качестве уполномоченного британского правительства по борьбе с работорговлей. Больного путешественника он принял очень радушно и предоставил ему кров в своем доме. «Никогда не [107] забуду того блаженства, которое ощущал, засыпая на настоящей английской постели, после того как я шесть месяцев вынужден был спать на голой земле».
Несмотря на покой и заботливый уход, которым окружили Ливингстона в доме Габриэля, он день ото дня слабел. Вскоре после его прибытия в гавань Луанды зашли британские крейсеры. Морские офицеры не преминули навестить соотечественника, который первым из европейцев прибыл в Луанду из неведомых глубин материка. Они любезно предлагали при первой же возможности отправить его в Англию.
Предложение было заманчивым: съездить на родину, после столь длительной разлуки снова увидеть Мэри и детей, отдохнуть, прийти в себя... Но как ни велик был соблазн, он не вправе ему поддаться. Ведь он выполнил пока лишь первую часть своих планов; предстояла вторая: из внутренних областей материка пробиться к восточному побережью Африки. К тому же у него есть долг перед спутниками — проводить их на родину.
Неутомимые заботы Габриэля и медицинская помощь английских судовых врачей в конце концов помогли восстановить силы и здоровье Ливингстона. Прежде всего он счел нужным позаботиться о своих спутниках. Габриэль подарил им новые хлопчатобумажные костюмы и красные шапки. Ливингстон водил их по городу. Полные изумления, внимательно рассматривали они церковь, приемный зал губернаторского дворца и многоэтажные каменные дома португальцев. Они и представить себе не могли, что люди могут жить в многоэтажном доме друг над другом. Теперь они увидели: это не хижины, а «горы со многими пещерами».
Командиры крейсеров пригласили спутников Ливингстона посетить военные суда. На борту, указывая на матросов, Ливингстон говорит: «Это мои земляки. Королева послала их сюда, чтобы воспрепятствовать торговле черными невольниками». Первоначальный страх макололо постепенно исчезает, и они смешиваются с толпой матросов и без всякого смущения берут предлагаемые им хлеб и говядину. Командир корабля разрешил даже выстрелить из пушки — это может, как он полагал, поднять уважение черных и коричневых парней к англичанам, которые так любезны с ними! Ливингстон пояснил им, что и пушки предназначены для того, чтобы воспрепятствовать работорговле, — для доверчивых африканцев это хорошее основание для дружбы с англичанами! Не ускользает от их внимания и то, с какой почтительностью встречают Ливингстона офицеры и матросы. «Мой престиж крайне поднялся в их глазах, ибо то, о чем они могли лишь предполагать, теперь подтвердилось: среди своих земляков я был уважаемым [108] человеком, и с тех пор они всегда относились ко мне с очень глубоким почтением».
В начале августа Ливингстон снова перенес тяжелые приступы лихорадки. Прошло несколько недель, он отдохнул, пришел в себя и тут обнаружил, что его люди тем временем выполняют подвернувшиеся работы: собирают в окрестности дрова и продают их в городе, а когда прибыло судно с грузом угля, предназначенного для крейсеров, они работают на разгрузке. На заработанные деньги макололо покупают одежду и различные предметы, которые намереваются взять с собой на родину.
До недавнего времени Луанда была перевалочным пунктом работорговли. В гавани «черную слоновую кость», как называли рабов, грузили на суда. Сборы от работорговли были главной статьей дохода Португалии в этой колонии. И хотя в Луанде она стала приходить в упадок, однако при господствовавших в Анголе порядках вряд ли можно было ожидать полной ее ликвидации. Небольшое жалованье, которое выплачивалось чиновникам, вынуждало людей искать любые другие побочные доходы, а поскольку торговля невольниками давала наибольший доход, то они не брезговали заниматься ею. Глубоко укоренившаяся коррупция открывала бесчисленные лазейки, чтобы обойти правительственный запрет.
Ливингстон вскоре понял, что для Португалии Ангола — своего рода штрафная колония. Солдаты, офицеры и чиновники отправлялись сюда для отбывания наказания за разного рода проступки, совершенные на родине. Поэтому благосостояние страны и проживающего здесь населения ни в малейшей мере не интересовало «белых невольников». Им хотелось как можно скорее обогатиться, чтобы потом припеваючи жить на родине.
И местный епископ, исполнявший в то время должность губернатора, и купцы Луанды всецело поддержали намерения Ливингстона установить мирную торговлю Анголы с внутренними районами. А когда Ливингстон готовился в обратный путь, они послали для Секелету подарки: коня, полную форму португальского полковника, двух ослов — это животное имеет иммунитет против укусов мухи цеце, — а также образцы всевозможных предметов португальской торговли. Из всех подарков лишь конь не достиг места назначения: он пал в пути. Кроме подарков Ливингстон взял с собой запас хлопчатобумажной ткани, боеприпасы и бусы для меновой торговли, а каждого из своих людей снабдил ружьем, чтобы внушить уважение к экспедиции у разного рода встречающихся племен. Для транспортировки грузов епископ предоставил в его распоряжение двадцать носильщиков.
 | Первый европеец пересекает АфрикуВозвращение макололо |
20 сентября 1854 года Ливингстон со своими спутниками отправился в обратный путь, в Линьянти. Для него это путешествие было одновременно и началом осуществления второй части плана исследований — пройти от западного побережья к восточному. Если удастся, он будет первым европейцем, пересекшим Африканский материк.
Что же в большей степени толкало его на это далеко не легкое дело: стремление к славе или намерение открыть пути для торговли? На этот вопрос он и сам, пожалуй, едва ли мог бы дать ответ. Ливингстон, как известно, не лишен был некоторого тщеславия. Он знал, что от Анголы до Мозамбика уже удалось пройти двум местным работорговцам, посланным португальскими купцами.8) В январе 1815 года они вернулись в Анголу с письмами от губернатора Мозамбика. Но сознание долга перед верными ему спутниками было, несомненно, сильнее тщеславия: надо было помочь им вернуться на родину.
Стремясь лучше изучить местность, он не раз отклонялся в сторону от намеченного пути. Сначала экспедиция продвигалась вдоль океанского побережья до впадения реки Бенго, а далее следовала вверх по течению реки.
Земли здесь очень плодородны, но используются мало; искусственное орошение не применяется; орудия труда примитивны: в руках раба — мотыга. Когда-то здесь хозяйничали иезуиты. После их изгнания все пришло в упадок: церкви, монастыри, госпитали пустуют; мебель, предметы домашнего обихода, книги переправлены португальцами в Луанду. Устаревшие и, вероятно, уже негодные пушки, установленные в небольших фортах, своим видом все еще наводят страх на местных жителей и тем самым подкрепляют португальское господство в Анголе.
В Пунго-Андонго, лежащем на южной границе португальских колониальных владений, Ливингстон несколько недель, пользуясь [110] гостеприимством полковника и купца Пиреса, наслаждался отдыхом в его уютно обставленном домике. Рабовладение, как известно, вызывало у него отвращение, и он понимал, что честным трудом не наживешь такого состояния; тем не менее, воздавая должное гостеприимству хозяина, Ливингстон отзывается о нем доброжелательно.
Во время пребывания у Пиреса до него дошло сообщение: погибло все, что он доверил людям британского почтового парохода, — его донесения, топографические карты, путевой дневник; пароход утонул вблизи Мадейры. Не откладывая на будущее, он начинает восстанавливать утраченное: еще раз записывает прошлое, чертит проделанные маршруты. И это продолжается в течение месяцев, проведенных в пути.
1 января 1855 года Ливингстон со своими спутниками покидает Пунго-Андонго; полковник обеспечил его на дорогу маслом и сыром. Несколько дней спустя они снова вышли на свой путь и больше уже не отклонялись от намеченного маршрута. Время от времени его мучила лихорадка, а иногда муравьи предпринимали такие атаки, что живого места не оставалось на теле. Но Ливингстон не прекращал вести наблюдения над природой и жизнью людей, делал записи в дневнике, картографические наброски местности, устанавливал географические координаты отдельных пунктов.
Страну чибокве на сей раз Ливингстон пересекал в обществе местных торговых агентов, называемых португальцами помбейруш; они должны были доставить подарки и товары португальских купцов легендарному повелителю царства Лунда. Ливингстон охотно побывал бы вместе с помбейруш в главном городе этого государства, но оно находилось далеко в стороне, а припасов оставалось мало. Длительные приступы лихорадки и необходимость пополнять продовольственные запасы замедляли движение.
Ливингстон отказывается платить пошлину чибокве за проход через их страну, а от вождей отделывается мелкими подарками; помбейруш же платят боеприпасами, ситцем, водкой. Они объясняют это тем, что сопровождающие их люди — рабы; если им не удастся добиться благосклонности вождей, то они могут потерять все при стычках с местным населением в глухих лесах, а ждать поддержки от рабов не приходится.
Спутники Ливингстона никак не походили на людей, сопровождающих помбейруш. «В то время как мои люди все наши припасы рассматривали как общее достояние и оберегали их, те же, напротив, лишь радовались, когда, например, волы работорговца не могли идти дальше: в таких случаях их забивали на мясо; для [111] владельца — это потеря, а для рабов — желанная пища». В глухих местах помбейруш побаивались даже уличать провинившихся рабов, ибо в результате те могли сбежать.
Один помбейруш вел с собой прикованных к цепи восемь красивых девушек, которых намеревался продать в царстве Лунда. «Они всякий раз смущались, когда я проходил мимо них, — пишет Ливингстон, — и, по-видимому, болезненно переживали свое несчастье и унижение». А его спутники возмущались работорговцами: «Помбейруш бессердечны». Но свободные макололо не понимали и рабов: «Почему же невольники мирятся с этим?» «Они думают, — пишет Ливингстон, — будто рабы имеют возможность избавиться от столь жестокого обращения».
Когда экспедиция приблизилась к границе страны чибокве, ливни стали ежедневными. Равнина оказалась затопленной.
Ливингстона снова свалила лихорадка; приступ был очень сильный, как никогда прежде. Наконец, почувствовав себя немного лучше, он выразил желание продолжить путь, но спутники стали уговаривать его повременить: они считали его слишком слабым для путешествия.
Как только экспедиция покинула земли чибокве и сошла с дороги работорговцев, поведение населения заметно изменилось. Жители встречают путников дружелюбно, приносят им продукты и сами вызываются быть проводниками.
Ливингстон зачастую останавливается у знакомых, вручает им обещанные в свое время подарки и вместе со своими спутниками пользуется их щедрым угощением. Он навестил и старого вождя Шинте, который принял его очень дружелюбно и щедро снабдил продуктами. Кроме того, Шинте посылает человека к своей сестре Нямоане, чтобы та предоставила участникам экспедиции лодки для проезда вниз по течению рек Либа и Лиамбай.
27 июля Ливингстон со своими спутниками прибывает в Либонту — первое поселение в царстве макололо. «Нас встретили с такой радостью, какая не проявлялась еще нигде. Женщины вышли нам навстречу в своеобразном танце, издавая громкие возгласы восторга. Некоторые тащили циновки и шесты, которые должны были изображать щиты и копья. Другие восторженно целовали своих знакомых. На нас смотрели так, будто мы прибыли с того света, а искуснейшие прорицатели давно уже объявили нас погибшими. После того как были излиты чувства дружбы, я поднялся, поблагодарил всех и объяснил им, почему мы так долго отсутствовали, затем предложил их землякам самим рассказать о нашем путешествии. Первым из макололо выступал Пицане. Он [112] говорил более часа и картину всех наших приключений в пути нарисовал в очень приукрашенном виде... Свой рассказ он закончил словами, что я своим путешествием, дескать, сделал больше, чем макололо могли ожидать: открыл им путь к другим белым людям, а также наладил дружеские отношения со всеми вождями племен, встречавшихся в пути...
Мои спутники принарядились в европейское платье. Правда, часть приобретенных ими в Луанде вещей была использована для обмена на продукты во время пути, но у них еще остались красные шапки и кое-какие другие предметы европейской одежды. Теперь они выделялись среди земляков и попытались даже важно промаршировать перед ними, как солдаты, которых им приходилось видеть в Луанде. Мои спутники сами именовали себя «храбрецами». Во время богослужения они не расставались с ружьями, висевшими у них за плечами, и были предметом восхищения женщин и детей. Макололо привели нам двух хорошо упитанных быков для убоя; женщины принесли молоко, муку и масло. Все это было преподнесено нам в качестве подарков; и я очень сожалел, что не мог предложить им ничего взамен. Мои люди объяснили им, что у нас все на исходе, и жители вежливо отвечали: «Это неважно. Ведь вы открыли нам путь к морю и наладили дружбу с другими племенами». Толпами прибывали люди издалека, чтобы повидать нас, и редко с пустыми руками. Полученные подарки я распределял среди своих людей.
То же повторялось на всем нашем пути по долине бароце. Каждая деревня давала нам быка, а нередко и двух. Люди здесь исключительно любезны. Я чувствовал да и сейчас чувствую себя обязанным им... Покидая Луанду, мы взяли с собой немало вещей и надеялись, что этого хватит, чтобы расплатиться с чибокве при проходе через их земли, и, кроме того, думали преподнести подарки дружественным балунда, и еще больше великодушным макололо. Но из-за частых болезней ушло так много времени на стоянки в пути, что пришлось использовать все запасы, как мои личные, так и приобретенные моими людьми в Луанде на свой заработок; в результате к макололо мы вернулись такими же бедными, как и при отъезде отсюда».
В последний день июля Ливингстон и его спутники прощаются со своими друзьями в Либонте и продолжают путь.
«22 августа. Зима подходит к концу. Деревья вдоль реки начали пускать почки... Оранжевые молодые листья так ярки, что я принял их за распустившиеся цветы. Листва переливается всевозможными оттенками: желтым, пурпурным, медно-красным, коричневато-красным и даже черным, как чернила». [113]
Удивительно богат мир птиц, наполняющий жизнью эти берега. «Песчаные отмели днем выглядят совершенно белыми от пеликанов — однажды я насчитал их три сотни; другие отмели кажутся сплошь коричневыми от уток — одним выстрелом мне удалось убить четырнадцать штук... Чайки и другие птицы стаями парят над водной гладью».
Наконец экспедиция прибывает в Линьянти. Здесь в целости стоит фургон Ливингстона, как и другое имущество, оставленное им еще в ноябре 1853 года.
В присутствии множества людей на большом народном собрании он передает Секелету подарки, присланные губернатором и купцами Луанды, а его спутники держат отчет о своем путешествии. Слушатели воспринимают рассказы недоверчиво. Как и до этого, путешественники повторяют, что они достигли края земли и повернули в обратный путь только тогда, когда впереди уже не было земли. «Наконец один старик хитро поинтересовался: «Значит, вы, пожалуй, доехали до Ma-Роберт (матери Роберта, т. е. жены Ливингстона)?» Тут им пришлось выходить из положения, указывая, что она живет еще дальше края земли. Подарки были приняты с радостью. А в воскресенье, когда Секелету явился на богослужение в форме полковника, никто уже не слушал проповедь: все внимание было приковано к нему. Обо мне было сказано так много лестного, что лучше бы и не слушать. И сразу же среди макололо оказалось много желающих сопровождать меня к восточному побережью. Они заявляли, что им тоже хотелось бы по возвращении иметь возможность рассказать о чем-либо удивительном, как это сделали мои спутники. Секелету тут же заключил соглашение с одним арабом, неким Беном Хабибом, по которому тот обязался сопровождать в Луанду новую группу макололо с грузом слоновой кости. Секелету хотелось, чтобы его люди обучились торговле, причем им пока что вменялось в обязанность лишь прислушиваться и присматриваться, но не принимать участия в продаже товаров. Прежние мои спутники останутся дома, будут отдыхать до возвращения тех, а затем в свою очередь отправятся в Луанду».
Ливингстону казалось, что этот поход явится первым шагом в развитии торговли с прибрежными районами. Но, к сожалению, в отсутствие Ливингстона сложилась неблагоприятная обстановка. Макололо дважды устраивали набеги на соседние племена и захватили много скота. В одном из этих набегов Секелету якобы лично участвовал, чтобы «покарать» Лечулатебе, который, заполучив огнестрельное оружие, стал слишком заносчивым. Другой набег макололо даже и не пытались оправдывать. Ливингстон [114] высказал суровые упреки вождю, но при этом учел мудрый совет, данный ему одним родственником Секелету: «Крепко побрани его, но так, чтобы другие не слышали».
От арабов из Занзибара, встретившихся в пути, Ливингстон узнал, что они пришли с восточного побережья через земли миролюбивых людей; по их словам, Ливингстону нечего опасаться: местные вожди беспрепятственно пропустят его. Арабы рассказали ему также о большом озере Танганьенка, или Танганьика, через которое переправляются в челноках на пути к восточному побережью. Ливингстон предполагал, что это озеро лежит на водоразделе между Замбези и Нилом, подобно тому как озеро Диололо находится на водоразделе между Замбези и Конго. В путевом дневнике Ливингстон не раз возвращается к этому вопросу. Все больше и больше занимает его загадочная, с трудом поддающаяся расшифровке речная система центральной Африки.
Несмотря на благоприятные сообщения, он все еще колеблется, идти ли сухим путем на Занзибар или предпочесть водный путь по реке Лиамбай, или Замбези. Макололо хорошо знали Замбези вплоть до впадения Кафуэ, поскольку они жили там прежде, и советовали ему идти водным путем. Правда, здесь придется преодолевать два серьезных препятствия: на самой реке — огромные водопады, о которых Ливингстон уже слыхал, а на берегах — муха цеце, присутствие которой делало непроходимыми для волов многие места южного берега; а о северном береге вообще не может быть и речи, там не пройдешь: берега скалистые и изрезанные ущельями. Ливингстон предвидит и третью трудность: вниз по Замбези ему предстоит пересекать земли, заселенные батока, для которых макололо — исконные враги. И все же он решил плыть в челноках: водный путь казался ему более перспективным для будущего.
Секелету все время проявлял великодушную заботу о своем белом друге, как и его отец Себитуане. Он велел ежедневно доить нескольких коров, выделенных для Ливингстона и его спутников, а когда уходил на целый день на охоту, то приказывал забивать для них вола. Секелету выделил двух людей, Секвебу и Каньятта, для того, чтобы возглавить отряд, который будет сопровождать Ливингстона к восточному побережью. Секвебу еще мальчиком попал в плен к матабеле, много странствовал с ними по обоим берегам Замбези вплоть до Тете и хорошо знал наречия, на которых там говорили. Ливингстон пишет о нем как о «толковом человеке с трезвыми суждениями». [115]
3 ноября 1855 года Ливингстон с новыми спутниками покидает Линьянти. Две с половиной недели Секелету примерно с двумя сотнями людей сопровождал экспедицию, которая все это время полностью находилась на его обеспечении. Повсюду паслись стада крупного рогатого скота, принадлежавшие вождю; по мере надобности он выделял часть скота для убоя.
Между Линьянти на Чобе и Сешеке на Замбези господствует муха цеце. Поэтому большая часть отряда днем уходит вперед, чтобы приготовить место для ночлега. Секелету и Ливингстон обычно оставляют при себе около сорока человек и, опасаясь цеце, ждут, пока стемнеет, а затем догоняют передовую группу. Бушевали тропические грозы. Шум сильного ливня время от времени заглушался громом, а резкие вспышки молний рвали небосвод и слепили спутников. «После необычайно жаркого дня мы вскоре сильно прозябли, и когда наконец увидели вдали огонь, то направились прямо туда. Какие-то путники разожгли костер... И так как мое одеяло было отправлено вперед, я прилег на холодную землю и готов уже был провести безрадостную ночь, однако Секелету дружески прикрыл меня своим покрывалом, а сам лег спать непокрытым. Эта доброта безмерно тронула меня...
В Сешеке Секелету дал мне двенадцать волов — три из них приучены к верховой езде, — а также мотыги и бусы, на которые я вполне смогу купить себе челнок, когда мы будем спускаться по Замбези вниз от водопада. Он снабдил нас также маслом и медом и вообще делал все, что было в его силах, чтобы я был обеспечен всем необходимым в пути. Я полностью зависел от его великодушия, ибо все запасы, захваченные мной еще из Капской области, были уже израсходованы во время пути от Линьянти к западному побережью. Правда, мной было захвачено семьдесят фунтов стерлингов из моего миссионерского денежного вознаграждения, что дало мне возможность оплатить труд моих спутников и купить кое-что необходимое на пути к Линьянти. Но и эти закупки также были использованы. В результате макололо на свои средства снова снабдили меня и отправили к восточному побережью. Только благодаря их великодушию, а также помощи других африканских народностей мне удалось предпринять два крупных путешествия из Линьянти — к западному, а затем и к восточному побережью, и я очень благодарен им за все, что они сделали для меня. Деньги здесь бесполезны, а золото и серебро как средства обращения совсем неизвестны». Ведь вначале Ливингстон путешествовал, не имея на то поручения своего правительства и, естественно, не [116] получал от него никаких средств, как в следующей экспедиции. Все это он делал по собственному побуждению и на свои средства; лишь незначительную поддержку оказывало ему Королевское географическое общество, которое он информировал о ходе своих исследований, насколько это было возможно в тех условиях.
Себитуане уже спрашивал его: «Встречается ли в вашей стране гремящий пар?» И только после долгих расспросов Ливингстон наконец понял, что вождь имеет в виду водопад огромных размеров, образуемый Замбези ниже впадения в нее Чобе. Макололо не отваживались подойти к водопаду и называли его «мози оа тунья», что означает «бушующий пар» или «гремящий пар».
Секелету очень хотелось поехать вместе с Ливингстоном к водопаду; но так как вместо двух заказанных челноков пригнали только один, он остановился на одном из островов вблизи водопада в ожидании возвращения Ливингстона, который перед отправкой в дальний путь намеревался съездить вниз по глубокой и широкой Замбези вплоть до водопада. «После двадцатиминутного плавания нашим взорам сначала открывались гигантские столбы пара, поднимавшиеся в пяти-шести милях от нас... На большой высоте эти пять столбов сливались с облаками. Внизу они казались белыми-белыми, поднимаясь же, становились темными, как дым. Весь пейзаж был поразительно красив».
В полумиле от водопада Ливингстон пересаживается в более легкий челнок, в котором на веслах сидели люди, хорошо знающие водопад. До этого водная поверхность была спокойной и челн спокойно скользил вниз. Направляясь к острову, лежащему у самого края водопада, лодочники держались середины потока. Приближаясь все быстрее и быстрее к гремящей пучине, испытываешь жуткое ощущение, ведь, чем ближе к водопаду, тем более стремительным и бурлящим становится поток. На поверхности появляются волны, а у скальных выступов и около быстро несущихся деревьев, вырванных с корнем, клокочут водовороты. Передний гребец выкрикивает рулевому, чтобы тот своевременно отклонялся от встречающихся препятствий. Малейший промах — и лодка опрокинется, тогда не миновать гибели. Во время половодья вообще не отважишься на такую поездку; хотя быстрины тогда скрыты глубокой водой, но сила потока так велика, что если и удастся достигнуть острова, то вернуться оттуда будет невозможно до следующего спада. К тому же есть опасность, что мощное течение, огибающее остров с обеих сторон, может утянуть вас в бушующую пучину водопада.
Однако гребцы подгоняют лодку к острову, и Ливингстон сходит на землю. И вот лишь несколько шагов отделяют его от [117] кромки уступа, через который огромные массы воды широким фронтом, разрезаемым скальными выступами, низвергаются в бушующую бездну. Ливингстону не видно, куда же падает вода; с острова кажется, что она теряется в скалистой расселине, противоположный край которой, по его мнению, находится в каких-то 80 футах. Чтобы решить загадку, он подползает к самому краю острова и видит под собой длинную трещину, в которую на сотню футов низвергается вода — так оценивает он высоту водопада.i)
«Это было самое чудесное зрелище, виденное мной когда-либо в Африке. Когда смотришь в глубь расселины направо от острова, не видишь ничего, кроме густого белого облака, на котором, когда мы там были, сверкали две яркие радуги. От облака поднимался столб водной пыли на 200 или 300 футов вверх, там он принимал окраску густого темного дыма и падал вниз проливным дождем, от которого мы промокли до костей». Налево от острова видно, как в глубине бурлит вода — сплошная пенисто-шипучая масса, устремляющаяся дальше в длинное скалистое ущелье.
Как первооткрыватель этого величественного чуда природы, Ливингстон дал ему английское название — имя королевы Виктории.
Возвратившись на остров, где его ожидали Секелету и спутники, Ливингстон рассказал об увиденном зрелище. Вождь тоже пожелал полюбоваться этим «грохочущим паром», и на следующий день они вместе поплыли туда. Вечно влажный, поросший травой остров, лежащий у самой пучины, навел Ливингстона на мысль посадить там плодовые деревья, и он воткнул в почву около сотни персиковых и абрикосовых косточек, а также несколько бобов кофе. Но затем с сожалением заметил вблизи следы бегемота — надежды на успех затеи оставалось мало.
«Закончив посадку, я вырезал на одном дереве свои инициалы и дату — 1855 год. Это был единственный случай, когда я поддался тщеславию».
Вблизи места, где когда-то Ливингстон любовался «грохочущим паром», ныне ему стоит памятник — простая бронзовая статуя. В 1905 году у водопада основан город, названный именем Ливингстона; до 1935 года он был административным центром Северной Родезии.j) [118]
20 ноября Секелету прощается с Ливингстоном и дает ему в помощь еще сто четырнадцать человек для доставки слоновой кости к побережью. Там Ливингстон должен ее продать и на вырученные деньги закупить для вождя подходящие товары. В качестве носильщиков использовали людей из подвластных макололо племен. А для такого множества людей требуется немало и продовольствия. Пока экспедиция движется по землям царства макололо, подданные Секелету по его приказу вместо дани, поставляемой обычно в Линьянти, должны обеспечивать теми же продуктами — кукурузой и земляным орехом — экспедицию.
Но вот экспедиция обходит водопад Виктория и пороги Замбези и в конце ноября выбирается из лесной местности на слабо волнистую, очень живописную, но безлюдную травянистую равнину. Она подходит к местам прежнего обитания макололо. Безлюдная местность стала теперь настоящим раем для крупных животных. Кое-где путникам встречаются развалины поселений, где разбросаны каменные ступы и кварцевые песты, служившие когда-то для размола зерна, — явно следы опустошительной войны, иначе, переселяясь, жители взяли бы с собой эти хозяйственные предметы.
Сейчас, когда читаешь его дневники, кажется, что он забыл о своем миссионерском долге. В путевом дневнике все больше и больше места занимают описания ландшафтов, встречающихся в пути, зоологические, ботанические, геологические наблюдения и описания народов, проживающих там. Выразительно показаны жизнь и быт людей, способы их охоты на зверей, виды причесок и украшений различных народностей и племен. И только из кратких пометок в дневнике узнаем, что Ливингстон еще соблюдает воскресные дни и при случае в своих проповедях и беседах стремится донести до африканцев слово божье. Неудачи в Колобенге и Линьянти побудили его по-новому взглянуть на миссионерскую деятельность. Проповедование христианства теперь уже не кажется ему единственной и неотложной задачей миссионера: гораздо важнее привить людям чувство дружбы и дух гуманизма, изжить вражду племен и искоренить охоту за невольниками. Сначала необходимо добиться того, чтобы утвердился мир между народами и племенами, а затем уж можно браться за распространение христианства.
Но Ливингстон все же опасался, что миссионерское общество не сразу и не безоговорочно примет его точку зрения; поэтому он постарался изложить ее пространно и мотивированно в своем [119] письме правлению миссионерского общества, сочиненном еще во время пребывания в Линьянти.
Через Кафуэ, северный приток Замбези, экспедиция переправилась на лодках. Далее, идя вниз по течению реки, путники держались левого берега Замбези. Между холмами повсюду вдоль долины ютились многочисленные деревушки, окруженные огородами, садами и полями. Однако участники экспедиции питались преимущественно мясом убитых бегемотов, буйволов и слонов.
«Равнинный левый берег реки Кафуэ, лежащий у наших ног, богаче крупными животными, чем любая другая часть Африки. На прогалинах в лесу щипали траву сотни буйволов и зебр, там же паслись и величественные слоны, шевеля своими хоботами. Мне очень хотелось запечатлеть на фотоснимках картины здешней природы, какие редко встретишь, а как только появятся ружья, вообще не увидишь». Слоны без всякой опаски стояли почти на самой дороге, беззаботно помахивая большущими ушами. «По мере приближения к Замбези все чаще появлялся густо разросшийся широколиственный кустарник, где было много животных. Нам не раз приходилось криками сгонять с дороги слонов. В одном месте сбежалось целое стадо буйволов, привлеченных видом наших волов. И только выстрел, сделанный мной, заставил их удалиться».
У жителей, обитающих в этой холмистой местности, нет огнестрельного оружия, и они лишь изредка нарушают покой животных. И когда Ливингстону или его людям, вооруженным метательными копьями, удавалось убить какого-нибудь слона, жители близлежащих деревень торопились сюда, чтобы принять участие в пиршестве.
Появление множества водоплавающей птицы подсказывало отряду, что Замбези уже недалеко. И наконец перед глазами людей блеснула, как зеркало, величественная широкая водная гладь, усеянная множеством островов. Путь вдоль берега стал невозможен: колонна может следовать только по тропам, протоптанным дикими животными в буйно разросшемся кустарнике.
В деревнях, встречающихся на пути, обитают миролюбивые земледельцы и садоводы. Повсюду есть желающие указать подходящую тропу и довести путников до следующей деревни. Старосты дружелюбны и очень щедры, они сами несут гостям зерно и другие продукты. Один принес полную чашу риса, который он называет «зерном белого человека». В этих местах Ливингстон впервые увидел рис и выразил большое желание оставить его у себя впрок. К удивлению Ливингстона, взамен продуктов староста потребовал одного раба. Это показывало, что работорговля проникла и в [120] восточную часть Южной Африки. Вскоре путешественникам, вероятно, придется столкнуться с ее неблагоприятными последствиями. Здесь, как и при подходе к западному побережью, не встретишь уже прежнего миролюбия и гостеприимства.
Однажды экспедиция зашла в одну деревню, казавшуюся почти вымершей: все женщины и девушки бежали, а оставшиеся мужчины отнеслись к путникам с подозрением. Вот уже собралась группа вооруженных воинов соседнего племени. Что все это могло означать?
Постепенно Ливингстон узнает, что недавно вверх по Замбези проезжал один европеец — как потом оказалось, итальянец — с двадцатью вооруженными рабами; он вез с собой невольников и слоновую кость. Но когда он прибыл вторично, вожди деревень, собрав людей, разогнали охрану и убили работорговца. И вот в это примерно время прибывает сюда Ливингстон с многочисленными африканскими спутниками, и естественно, что жители приняли меры предосторожности. Через своих гонцов они вызвали подкрепление из соседней деревни.
Вождь соседней деревни, возглавлявший отряд, имел ружье. Ливингстон впервые видит за время пути к восточному побережью, чтобы у местного населения было огнестрельное оружие. Путешественник рассказал жителям о своих намерениях и объяснил, что они могут спокойно возвращаться к себе домой. Его одарили мукой и зерном, однако жители относились к путникам с некоторым недоверием. Они подходили к лагерю экспедиции лишь большими вооруженными группами.
Так экспедиция достигла устья Луангвы, притока Замбези, без каких-либо инцидентов. Но здесь создалась обстановка, вызвавшая опасение у Ливингстона. Вокруг лагеря экспедиции собралось множество вооруженных местных жителей. Женщин и детей, толпившихся тут же из любопытства, воины отгоняли. Хотя на берегу стояли три привязанные лодки, Ливингстону удалось получить лишь одну. Переправляться предстояло небольшими группами. Ширина реки, пожалуй, добрых полмили. Что и говорить, положение отнюдь не из приятных! Ливингстон велит сначала отправить багаж, затем скот, а потом перевезти его людей. Сам он будет отплывать последним, оставаясь в окружении чужих вооруженных людей. Чтобы как-то занять их, он показывает им свои часы, лупу и другие вещи, совершенно неизвестные им. Когда наконец очередь доходит до него, он, прежде чем отплыть, поблагодарил их за дружелюбие и пожелал им мира. Однако оказалось все проще. У них, вероятно, вообще не было никаких плохих намерений. «Они хотели лишь быть готовыми на всякий случай, чтобы я не сыграл над ними [121] какую-либо дурную шутку, и имели все основания не доверять белым».
По утверждению местных жителей, на берегах Замбези, ниже впадения Луангвы, когда-то жили базунга (португальцы). Кое-где еще видны развалины каменных строений, уже заросшие деревьями и кустарником.
В общем жители берегов Замбези — миролюбивые и гостеприимные люди. Лишь однажды экспедиция натолкнулась на препятствие: путь ей преградил вождь по имени Мпенде. Еще до встречи с ним местные жители советовали Ливингстону переправиться на южный берег Замбези, так как Мпенде, во власти которого находится северный берег, не разрешает белым проходить через его территорию. И, боясь навлечь на себя гнев Мпенде, никто не отважился предоставить чужеземцам лодки для переправы, а для покупки их у Ливингстона не было средств; итак, вопреки советам он вынужден был идти наперекор воле опасного вождя.
Мпенде, разумеется, через своих лазутчиков давно уже осведомился о приближении экспедиции. Посланники, отправленные Ливингстоном в деревню, подверглись унижению: вместо зерна или муки, о чем они просили, им бросили отходы. Вокруг стоянки экспедиции всегда толпились вооруженные воины Мпенде.
Как тут поступить? Продолжать путь вопреки всему — это может быть истолковано и как самоволие; уход назад выглядел бы как проявление страха. И Ливингстон решил немного выждать, а на случай нападения приготовился к защите. Его спутников радовала возможная стычка; им хотелось иметь пленных, которых можно было бы использовать как носильщиков; можно было бы, пожалуй, кое-чем и поживиться — зерном, новой одеждой, так как их собственная одежда превратилась в лохмотья и их задевало, что жители берегов Замбези встречали их презрительными взглядами. И наконец, они дали понять Ливингстону, что он должен будет передать им всех жен Мпенде.
Ливингстон велел людям убить одного вола. Это им понравилось. Себитуане тоже имел обыкновение так поступать перед боем. Живо зажарили мясо. У людей поднялось настроение.
Время от времени появлялись лазутчики Мпенде. Их окликали, но они не отзывались. Наконец Ливингстону удалось двум из них передать для вождя солидный кусок мяса забитого вола. А с двумя другими пожилыми людьми завязался разговор. Ливингстон пытался объяснить им, что он не базунга, а макоа, англичанин. Оба они, оказывается, уже наслышаны об одном «белом племени, которое благожелательно относится к черным людям». «Так вот, к этому-то «дружественному вам племени» и принадлежу я», — заверяет [122] Ливингстон. Так непреднамеренно он становится пособником британских колонизаторов.
Позже Ливингстону стало известно, что эти два старика вступились за него перед Мпенде, и в результате вождь разрешил Ливингстону беспрепятственно пройти по его земле. Он выразил даже сожаление, что так недружелюбно обошелся с этим белым человеком, и в дальнейшем оказывал ему посильную помощь. Момент прощания с деревней выглядел совсем не так, как встреча. В знак благодарности Ливингстон посылает своему новому другу одну из двух оставшихся у него ложек и рубашку: большего он дать не мог. Ему было обидно преподносить столь жалкие подарки, особенно когда хозяева оказались щедрыми к нему.
«Та благожелательность, — пишет Ливингстон, — с которой чуть ли не все племена внутренних областей материка, не соприкоснувшиеся еще с европейцами, давали нам продукты, как-то избавляла нас от неловкости при получении их. Снова и снова извинялись они, что приносят столь незначительные дары, и выражали сожаление, что заблаговременно не знали о моем прибытии, чтобы иметь возможность намолоть зерна. Мы сказали им, что не можем дать что-либо взамен, и они были удовлетворены нашим объяснением; им ведь известно, говорили они, что во внутренних областях материка нет тех предметов, которые производит белый человек.
Мне всегда хотелось одаривать их чем-либо полезным. Шинте и другим я делал подарки, каждый из которых стоил мне 2 фунта стерлингов. Для меня было непостижимо, как это путешественники дарят иногда местным людям, скажем, три пуговицы или другие пустяковины, имея при этом возможность подарить какие-нибудь полезные вещи. И если они об этом еще хвастливо упоминают в своих книгах, то, наверное, совсем не понимают, что тем самым роняют честь англичан. Африканцы чувствуют себя даже неудобно, принимая столь пустяковые дары. «Среди белых есть такие сквалыги, а некоторые из них просто бессердечные». Один белый купец, подаривший какому-то вождю совсем устаревшее ружье, стал объектом насмешки: «Белый человек подарил ружье, которое было новым, когда его прабабушка кормила грудью его дедушку». Когда теперь местные жители встречаются с такого рода скупостью, то полагают, что таким неразумным людям стоит напоминать о приличии, поэтому они говорят заранее, что им хотелось бы получить в подарок, — путешественники же истолковывают это по-своему, считают, что жители попрошайничают».
То, что Мпенде изменил свое отношение к путешественникам, оказалось полезным впоследствии. Он здесь довольно известен [123] и влиятелен, поэтому и другие деревенские старосты и вожди в дальнейшем равнялись по нему. Макололо, правда, были разочарованы тем, что им приходится уходить отсюда с пустыми руками, но от Ливингстона не ускользнуло, что его авторитет поднялся в их глазах.
Берега нижнего течения Замбези заселены так густо, что трудно достать даже сухих дров для лагерного костра. Плохо обстоит здесь и с охотой: она регулируется сложными и строгими законами. Но слоны причиняют немалый вред посевам, и жители деревень не раз обращались к Ливингстону с просьбой убить животное. Однако он всегда был рад, когда слон, не дождавшись такого исхода, сам покидал поле и избавлял его от необходимости нарушать существующие охотничьи законы.
Переправиться через Замбези оказалось исключительно трудно: наступил паводок, и течение быстро несет вниз вывороченные с корнем деревья. Ливингстон принимает решение покинуть реку и уйти в сторону. Позже он, правда, сожалел об этом, ибо, снова выйдя к Замбези у Тете, первого португальского поселения, услышал о существовании порогов Кебрабоса (Кабора-Басса), находящихся как раз на том участке реки, который он обошел стороной, и теперь не мог судить о проходимости их для судов.
Совершая короткие дневные переходы, путешественники в течение многих недель странствуют по суше. Чрезмерная жара не позволяет им одолеть за день больше десяти — двенадцати миль. К тому же они вынуждены удлинять путь. Ливингстон старается обходить деревни, чтобы избежать необходимости обмениваться подарками: у него уже ничего не осталось.
3 марта около двух часов утра навстречу экспедиции прибыли два португальских офицера с отрядом солдат, чтобы сопровождать ее последние восемь миль пути до Тете. Они принесли с собой «цивилизованный» завтрак. «Наслаждение, какое я получил от этого завтрака, можно сравнить лишь с тем удовольствием, какое мне доставила постель в доме Габриэля по прибытии в Луанду».
Тете походит скорее на большую деревню. Хотя там проживает, вероятно, около 4,5 тысячи человек, среди них едва ли наберется десятка два португальцев. Около трех десятков домов выстроены из камня и крыты тростником и травой. Ил, применявшийся в качестве раствора при кладке камня, во многих местах вымыт дождями, и дома выглядят обшарпанными и запущенными. Хижины африканцев сооружены из ветвей и глины. На прибрежной скале возвышается небольшой форт с несколькими орудиями. Солдаты получают жалкое довольствие, поэтому основное для них — доходы [124] от садов, за которыми ухаживают их жены из местных женщин. Офицерам выдается жалованье, выплачиваемое нерегулярно, поэтому они охотно женятся на дочерях или вдовах богатых купцов и таким образом приобщаются в дальнейшем к работорговле.
Комендант Тете, майор Сикард, депешей британского министра иностранных дел был уже уведомлен о намерении Ливингстона пересечь Африку. Он принял Ливингстона очень дружелюбно, предоставил его людям немало проса и временно, пока те не выстроят себе хижины, разместил их в своих домиках. Вскоре Ливингстон выразил желание продолжить путешествие до портового города Келимане, но Сикарду удалось уговорить его отдохнуть и остаться недели на две, ибо погодные условия в Келимане в это время года очень неблагоприятны для здоровья.
Ливингстон согласился и целых семь недель провел в Тете. Он был занят приемами, визитами и экскурсиями в окрестные места — на заброшенные кофейные плантации и золотые прииски, к местам выхода угольных пластов, известных португальцам, но не разрабатываемых ими, к горячим источникам, к заброшенным иезуитским поселениям.
Утвердившись в Анголе накануне 1500 года, португальцы вскоре появились и на восточном побережье Тропической Африки, находившейся под властью арабов. Со временем они отняли у арабов многие города и к концу XVII столетия подчинили себе почти все побережье. Но когда португальское королевство пришло в упадок, арабы неоднократно восставали против европейского господства; в результате нескольких войн португальцы к 1730 году потеряли многие прибрежные города. Они сумели удержаться лишь в низовьях рек Рувума и Замбези, в колонии Мозамбик. В то время иезуиты были ярыми поборниками колониального господства Португалии. Они сумели проникнуть довольно далеко в глубь материка, проповедуя христианскую религию и обращая местных жителей в свою веру, всячески вмешивались во внутренние дела местного населения, чтобы подчинить его своей власти. Иезуиты пристрастились и к торговле, занимались даже работорговлей. Словом, их интересовало не столько спасение душ «жалких язычников», сколько золото и слоновая кость, и тем самым они навлекли на себя гнев своих светских земляков. Когда лиссабонское правительство в 1759 году изгнало иезуитов из Португалии, в Мозамбике жители взяли иезуитов под стражу и затем доставили их на побережье, а накопленные ими богатства государство конфисковало.
Внутренние области материка португальцам так и не удалось захватить: немало их солдат погибало от тропических болезней, [125] многие же, ослабленные лихорадкой, стали жертвами местных воинов.
В Мозамбике во времена Лнвингстона еще процветала работорговля. Хотя она здесь и была запрещена законом, но велась все же в открытую; у побережья Мозамбика даже не патрулировали британские крейсеры, чтобы препятствовать вывозу рабов. Работорговля была и причиной упадка, который повсюду наблюдал здесь Ливингстон. Вывоз в Бразилию рабов, трудившихся ранее на золотых приисках и плантациях, оказался более доходным делом для предпринимателей, чем медленная и трудоемкая промывка рабами золота или выращивание кофейного дерева и сахарного тростника. Когда спрос на рабов в заморских странах возрос, владельцы забросили плантации и добычу золота. В результате пришло в упадок и господство португальцев в Мозамбике, их немногие владения оставались лишь в нижнем течении Замбези и на побережье. Местным агентам португальских купцов — помбейруш вожди пограничных племен разрешали доступ во внутренние области материка только за «подарки».
До Ливингстона глубинные места Африки для европейцев были так же неизвестны, как и Северный полюс; географы имели о них очень смутное представление. Зная, что такие крупные реки Африки, как Лиамбай на западе и Луапула, текущая севернее, каким-то странным образом несут свои воды не к побережью, а в глубь материка, они пришли к заключению, что эти реки теряются там в огромной песчаной пустыне, подобной Сахаре. Только благодаря Ливингстону мир впервые узнал, что Лиамбай — это верховье Замбези и что в Центральной Африке нет никакой пустыни. Однако Ливингстон не смог решить загадку, связанную с Луапулой, и все последние годы жизни посвятил ее решению.
Португальцы, с которыми он встретился теперь, не имели никакого представления о характере мест, примыкающих к их колонии. Они не в состоянии были дать сведений ни о среднем, ни о верхнем течении Замбези, ни тем более о ее истоках. Но они рассказывали о каком-то огромном озере, известном под названием Ньянья,k) в сорока пяти днях пути на северо-северо-запад от Тете. Из этого озера вытекает река Шире, впадающая в Замбези ниже местечка Сена. Впрочем, название Ньянья означает просто «большая вода».
Неизведанное озеро, конечно, манило Ливингстона. Однако [126] решение этой задачи он отложил на будущее. А теперь он будет готовиться к отъезду на родину.
Многие из людей Ливингстона должны были остаться в Тете до его возвращения из Европы, поэтому майор Сикард отвел им участок земли, где они могли бы выращивать зерно, а пока снабжал их необходимыми продуктами. Он разрешил им вместе с его слугами охотиться на слонов. На добытую слоновую кость и на вяленое мясо они могли выменять себе все необходимое. «Люди были очень довольны его щедростью, и 60 или 70 человек вскоре собрались на охоту. В то время в Тете трудно было достать ситца, но комендант все же ухитрился одеть моих людей. Мне же нечем было ему отплатить за доброту, и, хотя я просил его в знак благодарности взять слоновую кость, он наотрез отказался».
В дальнейший путь по Замбези Ливингстон отобрал шестнадцать человек, искусных в управлении лодками. Комендант дал ему отряд солдат под командованием лейтенанта, который должен будет присматривать, чтобы экспедиция безвозмездно получала пищу и приют в пути. Кроме того, Сикард отправил к друзьям в Келимане гонца с рекомендацией. Как бы резко ни осуждал Ливингстон португальскую колониальную систему, о самих португальцах здесь, как и в Анголе, он до сих пор мог лишь сказать: «Каждый из этих господ проявил ко мне бескорыстную доброту, и я всегда буду благодарить португальское гостеприимство».
22 апреля в трех больших лодках Ливингстон со своими людьми отправляется в дальнейший путь. Он укрывается от солнца в своего рода «каюте». Подгоняемые сильным течением, лодки быстро плывут по широкой усеянной островами реке — ширина ее здесь свыше двух миль. Попытаться проложить на карте возможный фарватер было бессмысленно: паводки каждый год размывают одни острова и образуют другие.
Даже здесь, в Мозамбике, португальское господство было весьма непрочным. Когда путешественники однажды причалили к берегу и стали завтракать, вдали вдруг раздался глухой бой барабанов. Лейтенант вскочил и, обращаясь к местным жителям, прибежавшим сюда из любопытства, спросил, что бы это могло означать, но те молчали. «Звуками барабанов жители деревень чаще всего вызывают подкрепление», — делится уже своими мыслями лейтенант, который, разумеется, знает здешние обычаи. Он отдает приказание своим людям приготовиться к бою, и его бдительность, видимо, предотвратила нападение. На южном берегу Замбези признанными хозяевами оставались до сих пор зулу.
Пять дней спустя экспедиция прибывает в Сену. «До этого [127] я смотрел на Тете как на жалкую дыру, но оказалось, что Сена в десять раз хуже. В Тете все же теплится какая-то жизнь, здесь же царит полное запустение. Форт выстроен из кирпича, высушенного на солнце; стены, подпертые кое-где кольями, поросли травой. Периодически эту деревню навещают зулу и собирают с жителей дань; португальцев они рассматривают как одно из покоренных ими племен». Хотя португальский комендант запретил эти поборы зулу, жители, особенно метисы, все же предпочитают от них откупаться.
11 мая отряд Ливингстона продолжил путь; комендант Сены снабдил его на дорогу продуктами.
Примерно в 30 милях по течению видно широкое устье впадающей в Замбези реки Шире. Ниже ее впадения вся территория, похоже, находится под властью зулу, а не португальцев. Ливингстону, однако, не удалось встретиться с ними.
И вот путешественники достигают наконец дельты Замбези, всюду поросшей тростником и травой. Ливингстон предпочел бы плыть по главному руслу реки, чтобы поглядеть на то место, где могучая водная масса вливается в море. Но он слышал, что вверх по главному руслу уже шел английский капитан Паркер, он разведал и описал этот путь. И Ливингстон сворачивает в один из северных рукавов. Сливаясь с многочисленными притоками, этот рукав носит название Келимане; при впадении его в Индийский океан лежит одноименный портовый город. В пути ему повстречался португалец, предложивший воспользоваться большой парусной лодкой с каютой на корме. Ливингстон с благодарностью принял лодку, ибо на берегу москиты представляют собой настоящий бич, а на середине реки, где лодку можно держать на якоре, легко от них избавиться.
20 мая 1856 года Ливингстон прибывает в порт Келимане, который также оказывается большой деревней. Келимане лежит на илистом берегу, вокруг — болота и рисовые поля. Берега реки в мангровых зарослях, сплетение их корней обнажается всякий раз во время отлива. «Келимане, — заключает Ливингстон, — возник лишь в результате работорговли, ибо никому и в голову не пришло бы строить поселение на таком низком месте, топком, зараженном лихорадкой, кишащем москитами, не будь здесь хорошей наживы от работорговли».
Три года уже Ливингстон не имел никаких вестей о семье. В Луанде, на западном побережье, к своему глубокому разочарованию, [128] он не получил ни единого письма, хотя родственники и друзья обычно часто писали ему. Только в Келимане он узнает, что на родине и в Капской колонии с напряженным вниманием и участием следили за его судьбой. Письма и газеты, ожидавшие его здесь, снова пробудили в нем страстное желание повидать близких и побывать на родине после шестнадцатилетнего отсутствия. Но пребывание в Англии он заранее представляет себе лишь как кратковременный отпуск, чтобы отдохнуть в кругу семьи, укрепить здоровье перед новым нелегким походом.
Одно письмо из Лондона вызвало у него озабоченность — это было послание Лондонского миссионерского общества. Много лет назад общество одобрило его намерение расширить миссионерскую деятельность в Африке, распространив ее на «не освоенные» еще внутренние области. Но, как сообщалось в послании, оно не согласно с теперешним пониманием им роли миссионера.
Сам же он был доволен проделанной работой. Он уже разведал путь из внутренних областей материка к западному побережью; теперь ему удалось проделать то же в восточном направлении, причем он оказался первым европейцем, которому довелось пересечь Африку. Выполняя эту трудную задачу, Ливингстон вопреки всем опасениям все же не потерял ни одного человека, что особенно радовало его. «Что касается меня, то на открытие внутренних областей я смотрю как на важное событие, с которым мы можем себя поздравить, поскольку оно дает нам надежду на прогресс местного населения. Как я уже говорил в другом месте, в географических исследованиях я вижу прежде всего предпосылку для миссионерской деятельности. Это последнее понятие я толкую в самом широком смысле, имея в виду любые усилия, направленные на улучшение рода человеческого».
Под миссионерской деятельностью Ливингстон понимал, с одной стороны, все то, что способствует развитию науки, техники, мореплаванию и торговле, улучшает благосостояние народа, с другой же — любые усилия по распространению христианского учения. Сам Ливингстон давно уже ведет «миссионерскую деятельность» в этом ее понимании.
И тут, видимо, сбылись его опасения: такое толкование миссионерской работы Лондонскому миссионерскому обществу показалось слишком широким. Правление, как говорилось в письме, не может оказать поддержку его планам, имеющим лишь отдаленное отношение к распространению христианства. «Финансовые возможности общества, — сообщает правление, — не дают основания надеяться, что в ближайшем будущем мы сможем обеспечить такое длительное и нелегкое путешествие». [129]
Если он не откажется от своих планов — а об этом и речи быть не может, — то эти слова, сказанные с намеком, ему следует принять как недвусмысленное предостережение со стороны общества. Разрыв с ним, разумеется, приведет к утрате даже той мизерной денежной поддержки, которую он теперь имеет; однако для осуществления даже его ближайших задач все равно не обойтись этими деньгами. Возможно, появится какая-либо иная возможность в Англии, когда он изложит свой проект.
Географическое общество давно уже принимало живое участие в исследованиях Ливингстона, а 2 октября 1855 года его президент Родерик Мёрчисон9) направил Ливингстону письмо, полное восхищения. В нем выражалась «сердечная благодарность всех британских географов за неимоверные усилия и выдающийся успех в географических исследованиях». «Я рад, — говорилось далее в этом письме, — что мне выпала честь выступить с предложением на последнем заседании Совета Британского географического общества о присвоении вам нашей первой Золотой медали, и едва ли надо говорить, что предложение было встречено с большой радостью и принято единогласно».
Для Ливингстона, конечно, важна была не столько благодарность, сколько помощь географов. Но для успешного завершения планов ему надо было заинтересовать и привлечь к этому делу также английских предпринимателей и купцов. Такой проект оказался вполне созвучным с тогдашней экспансионистской колониальной политикой Великобритании, направленной прежде всего на захват новых рынков сбыта и источников сырья для высокоразвитой британской промышленности.
Ливингстон предусматривает создать во внутренних областях материка торговые фактории, куда могла бы поступать местная продукция, предназначенная для вывоза, а оттуда по стране расходились бы импортные промышленные изделия. Цепь таких торговых факторий в климатически благоприятных районах в среднем течении Замбези должна быть связана с побережьем через португальские поселения в низовьях реки. Это дало бы возможность поддерживать непрерывный товарооборот, и тогда работорговля быстро исчезла бы. Эта новая система торговли «стала бы истинным благословением как для Африки, так и для Англии», полагает Ливингстон и чувствует себя поборником лучшего будущего, когда африканец, поддерживаемый рукой его отзывчивого английского собрата, сможет достичь вершин цивилизации. Эта заманчивая идея, вдохновившая его, придает ему новые силы. Он твердо верит, что его земляки призваны выполнить эту миссию.
Шестнадцать лет провел Ливингстон на чужбине. Тоскуя по [130] родине, он сквозь розовые очки видел англичан и Англию, где провел свое безрадостное детство, — реальность и грезы слились воедино. Сумеет ли он разглядеть лицо истинной Англии, когда снова окажется среди земляков?
В течение шести недель вынужден Ливингстон жить в Келимане, в этой вредной для здоровья, зараженной лихорадкой местности, в ожидании прибытия английского судна, на котором предстояло отправиться на родину.
В ожидании судна Ливингстон проводил время в заботах о спутниках. Их нельзя было просто отпустить домой, ведь путь туда шел через местности, где обитали враждебно настроенные к ним племена. Поэтому он твердо решил возвратиться сюда и помочь им вернуться домой. Макололо еще в Тете сказали, что будут ожидать его возвращения. Прибывшим вместе с ним в Келимане он советовал после своего отъезда тоже вернуться в Тете и там вместе с другими устроиться, пока он вернется, ведь в Келимане продукты дороги и их с трудом можно достать.
Чтобы помочь своим спутникам приобрести ткань для одежды и другие необходимые предметы быта, он продал десять небольших слоновых бивней. Двадцать больших бивней, принадлежавших Секелету, он передал на хранение полковнику, у которого остановился. Товары для Секелету он намеревался купить в Англии на свои деньги, а позже, когда вернется, продать оставшуюся слоновую кость для покрытия дальнейших расходов. Если же он умрет по пути или в Англии, тогда полковник должен будет продать эти бивни и выручку передать макололо. Конечно, было бы куда проще продать сейчас бивни, а деньги взять с собой в Англию. Но как быть, если все же какая-то непреодолимая сила помешает ему вернуться сюда. Тогда люди, ожидающие его в далекой Африке, могут подумать, что он удрал с деньгами и просто надул Секелету. Он всегда вел себя так, чтобы ни в малейшей степени не запятнать свое имя или свою нацию. Все принятые им меры он обстоятельно разъяснил своим людям, и они поняли и одобрили его действия.
Наконец в Келимане пришла весть, что английский бриг уже десять дней стоит на якоре у песчаной косы, в семи милях от Келимане. Разбушевавшаяся стихия мешает ему подойти к гавани. Судно готово взять на борт исследователя; деньги и все необходимое для него в пути привезено.
Макололо Секвебу выразил желание ехать с ним в Англию.
«Секвебу оказал мне добрую услугу; без него, обладающего острым умом, чувством такта и знающего местные языки, мы, возможно, и не добрались бы до побережья. Я очень благодарен ему. Его вождь хотел, чтобы все мои спутники ехали со мной в [131] Англию, и, конечно, он был бы весьма огорчен, если бы никто из них не поехал туда. Я полагал, что на Секвебу благотворно подействует все, что он увидит в цивилизованном мире; потом он расскажет об этом землякам; к тому же мне хотелось как-то вознаградить его за те важные услуги, которые он мне оказал. Другие также просили взять их с собой, но я отговаривал их, указывая на опасность для здоровья, сопряженную с переменой климата и пищи».
Ливингстон не упоминает о том, что и финансовые возможности не позволили бы ему принять своих спутников в Англии как гостей, ведь их надо и одеть, как положено для того времени, и обеспечить питанием и кровом.
Он утешает себя заверением, что только смерть помешает ему возвратиться к ним.
12 июля 1856 года Ливингстон, взяв с собой Секвебу, покинул Келимане. Дул крепкий ветер. Бот, на котором они плыли к судну, с трудом пробивал себе путь навстречу катящимся волнам, и Ливингстон, глядя на задумчивое лицо спутника, всячески старался подбодрить его. Волны со страшной силой бились о борт, и на палубу им пришлось подниматься на чем-то вроде стула, опущенного на канате.
12 августа они прибыли к острову Маврикий. Секвебу мог уже кое-что сказать на ломаном английском; он стал любимцем команды, матросов и офицеров, но медленно и с трудом приспосабливался к новой для него обстановке: «И что же это за странная местность — кругом только вода!»
И вот паровой буксир уже тянет судно в гавань Маврикия. В этот момент что-то странное произошло с макололо: не выдержав напора все новых и новых потрясающих зрелищ, Секвебу сошел с ума. Он убежал от Ливингстона и попытался броситься за борт. «Секвебу, ведь мы едем к Ma-Роберт (матери Роберта)!» — взывал к нему Ливингстон. Но это не успокоило его.
«Офицеры предлагали надеть на него цепи, но, так как в своей стране он был человеком знатного рода, мне не хотелось поступать так. Я знал, что помешанные часто надолго сохраняют в памяти плохое с ними обращение; и потом в стране Секелету меня могли бы упрекнуть, что одного из их знатных людей я заковал в кандалы, как раба. Я пытался взять его с собой на берег, но он отказался. Вечером у него начался новый приступ. Сначала он намеревался заколоть копьем одного матроса, а потом сам выбросился за борт. Он умел хорошо плавать, но, перебирая руками якорную цепь, потянулся за нею вглубь. Нам не удалось найти тело несчастного Секвебу».
По приглашению коменданта Маврикия Ливингстон остается [132] некоторое время на острове, чтобы отдохнуть здесь и, наслаждаясь приятным климатом и удобствами цивилизации, поправить свое здоровье после неоднократно перенесенной болотной лихорадки. Лишь в ноябре судно находилось в Красном море. В Каире Ливингстону стало известно, что умер его отец. Ливингстон очень тяжело перенес эту весть, ведь ему частенько рисовалась милая его сердцу картина, как он, сидя у пылающего камина, рассказывает о своих странствиях отцу, с которым перед отъездом у него установилось хорошее взаимопонимание, и он знал еще, как страстно хотелось старику снова увидеть сына.
9 декабря 1856 года, через пять месяцев после своего отъезда из Келимане, Давид Ливингстон прибыл в Англию.
 | Знаменитость |
Никто не ждал его с таким нетерпением, как Мэри, его жена. Сырая и холодная Англия так и не стала для нее родиной. Кроме детей и семьи Ливингстонов, у нее ведь не было здесь ни близких родственников, ни хороших друзей, да нет и настоящего домашнего очага. Многие годы живя в этой стране, она чувствует себя все же чужой; иногда долгое время не получает никаких вестей от мужа; страх и беспокойство за него стали ее вечными спутниками. Образ жизни в этой стране также непривычен ей; тут нет такого поприща, где она могла бы приложить свои силы и проявить способности. Там, в Южной Африке, в своем воловьем фургоне или в нехитром домашнем хозяйстве скромного миссионера, она могла показать, какие дарования таятся в ней. Там она была полна жизни и деятельности, славилась умелой и экономной хозяйкой, которая несла всю тяжесть забот не только о своей семье, но и о женщинах и детях бечуана, не теряя при этом бодрости и чувства радости; к тому же ей нередко приходилось принимать и европейских гостей.
И вот в Саутгемптоне супруги вновь встретились. Вместе едут они в Лондон. В глубине души госпожа Ливингстон давно уже дала себе клятву в дальнейшем быть всегда рядом с мужем, чтобы он ни намеревался делать и куда бы он ни ехал.
Уже через шесть дней после того, как он вступил на английскую землю, Королевское географическое общество во главе с президентом Родериком Мёрчисоном собралось на специальное внеочередное заседание; оно было созвано, чтобы приветствовать известного путешественника, отдать должное его заслугам и в торжественной обстановке вручить ему Золотую медаль. Вскоре Ливингстону становится ясно, что с задуманным им спокойным отдыхом в кругу семьи у него ничего не получится.
За первым заседанием следует нескончаемая вереница встреч, завтраков, обедов и всевозможных чествований.
Как только у него появилось время, он посетил свою престарелую [134] мать и сестер. Первое время он живет у друзей, пригласивших его вместе с семьей; затем переезжает в собственную квартиру в Челси, одном из районов Лондона.
Вначале он намеревался лишь немного погостить на родине — три-четыре месяца, а затем вернуться на берега Замбези, где его ожидали макололо. Но потом понял, что надо закончить книгу о своих путешествиях, тем более что уже нашлись предприимчивые издатели, готовые даже без его согласия опубликовать описания его путешествий, то есть воспользоваться его славой как источником дохода. По настоянию Мёрчисона, на которого в свою очередь оказывал давление один крупный издатель, предвкушавший приличный куш, Ливингстон в январе 1857 года садится наконец за рукопись. Первую половину года он проводит большей частью за письменным столом. В материалах нет недостатка; не хватает, пожалуй, времени и терпения, чтобы отобрать их, придать им какую-то стройность, отделить важное от второстепенного, сделать речь выразительной — словом, создать книгу. Тогда он не раз говорил: я бы предпочел еще раз пересечь Африку, чем написать еще одну такую книгу.
Ему, конечно, не удавалось спокойно, не отрываясь посидеть над работой. То и дело навещали посетители, желанные, а чаще нежелательные, и ежедневно почта доставляла пачки писем с поздравлениями, излияниями чувств восторга и с массой вопросов. Вначале он пытается отвечать на все письма, но недели через две отказывается от этого: ведь над ответами надо просиживать целый день. Он выезжает с семьей за город, гуляет по лугам и лесам, наслаждается прелестями весны и лета, играет с детьми в прятки в высоком папоротнике.
Время от времени ему приходится откладывать перо, чтобы выполнить какой-либо более или менее приятный долг. Принц-консорт устраивает для него аудиенцию; многие города присвоили ему звание почетного гражданина, и надо туда ехать, чтобы принять грамоту, выслушать торжественные речи за праздничным столом и ответить на них.
Осенью 1857 года, как только рукопись была передана издателю, посыпались приглашения делать доклады в разных городах, выступать перед самыми разными слушателями. На его родине, в Шотландии, всюду хотят его видеть и слышать. В Глазго от имени всего населения ему воздали почести магистрат, университет в целом и медико-хирургический факультет в отдельности, объединенные пресвитериане, союз фабричных рабочих и рабочих хлопкопрядильных фабрик Шотландии. И снова Ливингстону предстояло выступать с речами, выражать благодарности, выслушивать [135] застольные тосты, держаться официально и улыбаться, хотя чувствовал он себя усталым и измотанным. Но отклонить подобные приглашения он не мог, потому что не хотел казаться недружелюбным и неблагодарным.
Доклады же, с которыми он выступал в промышленных и торговых центрах — в Лидсе, Ливерпуле, Бирмингеме, в торговой палате Манчестера, отвечали его собственным планам. Ливингстон искусно приспосабливал доклад к тому кругу слушателей, которых он хотел бы увлечьсвоими проектами. Он рассказывает об африканских растительных маслах и красящих веществах, о волокнах и древесине, о меде, сахарном тростнике, пшенице, просе, хлопке, железе — обо всем, чем богаты земли вдоль Замбези. Он привез с собой двадцать пять образцов различных видов плодов и показал их своим слушателям.
С удивлением узнают промышленники и купцы вслед за географами, что там, где, полагали, должна простираться обширная песчаная пустыня, на самом деле находится плодородная и довольно заселенная страна. Да и о тамошних жителях у них теперь создавалось совсем иное представление. Из поступавших прежде многочисленных сообщений о «кафрских войнах» и из рассказов бывавших в Африке охотников на крупную дичь следовало, что африканцы дики и жестоки. И вот англичанин долгие годы дружно жил с этими «дикарями» и теперь тепло и сердечно рассказывает о них. Да и климат там не везде такой уж «невыносимый» и «пагубный для здоровья», как казалось раньше.
«Во время следующей экспедиции я намерен, — говорил Ливингстон, — побывать на берегах Замбези, попытаться примирить вождей враждующих племен, побудить их возделывать хлопчатник и отказаться от работорговли. Они уже торгуют слоновой костью и золотым песком и полны желания расширить торговые связи. Взаимные интересы, наши и их, сулят большие возможности, а это приведет к развитию африканских стран».
Владельцы промышленных и торговых предприятий быстро сообразили, для чего этот простой человек рассказывает им обо всем увиденном. Они единогласно принимают решение, в котором выражают желание, чтобы правительство ее величества совместно с правительством Португалии поддержало дальнейшие исследования доктора Ливингстона в глубине Африки, и прежде всего в районе Замбези и ее притоков, поскольку это место больше всего подходит для поселения там английских купцов и миссионеров.
Ливингстону очень хотелось уладить свои отношения с Лондонским миссионерским обществом. Тот радушный прием, который оказала ему вся Англия, кажется, побудил правление общества [136] предать забвению свой безапелляционный отказ поддержать его будущие планы, который содержался в послании вместе со скрытой угрозой оставить его без жалованья. При первой же встрече с Ливингстоном оно вдруг проявило полное понимание и благосклонно отнеслось к его затеям. Но теперь уже, наоборот, он выражает несогласие с замыслами руководителей общества.
«Вновь ожило во мне стремление к независимости, — пишет Ливингстон, — которым я всегда руководствовался до того, как связал себя с миссионерским обществом». Что же привело его к таким мыслям? Конечно, не только обида, нанесенная ему руководством, хотя он и не мог забыть ее и простить тот факт, что однажды оно уже оставило его без средств к существованию и заинтересовалось им лишь тогда, когда к нему пришла известность. Как на причину своего отхода от общества он указывает на крайне ничтожное денежное вознаграждение миссионера: «Для язычников я кое-что сделал, но старушке матери, которая имеет священное право находиться на полном моем обеспечении, я пока ничем не мог помочь; сохранение связей с миссионерским обществом лишило бы меня возможности и в дальнейшем проявлять заботу о ней, даже в ее преклонном возрасте... А поскольку открылся новый источник дохода без всякого нажима с моей стороны, то, не колеблясь, я принял предложение, дающее мне возможность выполнить свой долг перед матерью, так же как и перед язычниками».
Рассудительные друзья все же не советовали Ливингстону порывать с миссионерским обществом: они предвидели, что общественность может ложно истолковать этот шаг. Но если уж ему что-то однажды вздумается осуществить, то отговорить его невозможно. Он указывал и на моральную сторону этого дела: нельзя же получать миссионерское довольствие, а заниматься научными исследованиями.
Однако не только уход с миссионерской службы, но и его книга вызвали неодобрение англичан; у них создалось впечатление, что писал ее не миссионер: уж слишком много места отведено в ней географическим и вообще естественнонаучным исследованиям, а также просто светским размышлениям. И он отвечает на это: «Мое понимание долга миссионера вовсе не ограничено узкими рамками, как у тех, чьим идеалом является человек с постным видом и Библией под мышкой. В жизни все необходимо — и кирпич и раствор, и кузнечные меха и верстак, и я управлялся с ними так же, как и с проповедью, одновременно мог оказать и необходимую врачебную помощь... Я служу Христу даже в том случае, когда провожу астрономические наблюдения или забиваю буйвола для моих людей». [137]
Но «стремление к независимости», которое привело его к разрыву с миссионерским обществом, не помешало ему, однако, взять на себя новое и весьма щекотливое обязательство. Британское правительство, осаждаемое с разных сторон просьбами о поддержке планов Ливингстона, в феврале 1858 года назначило его консулом на восточном побережье и в независимых областях внутренней Африки с местом пребывания в Келимане и одновременно начальником исследовательской экспедиции в Восточную и Центральную Африку. Он принимает это назначение и при каждом удобном случае с гордостью носит форменную фуражку с золотым околышем, как знак своей новой должности; надевает ее даже во время путешествий по Африке и придает большое значение своему служебному положению; он надеется, что отныне еще более возрастет к нему уважение и со стороны местных жителей, и со стороны португальцев, а также поднимется его авторитет среди членов экспедиции.
Пятьсот фунтов стерлингов в год приносит ему новая должность. Теперь вполне можно отказаться от жалкого миссионерского жалованья. Однако перенести эту вторичную утрату дорогой его сердцу независимости помогли ему не деньги, которые он теперь получает, и не фуражка с золотым околышем, а скорее всего благоприятные возможности осуществления своих планов. Теперь он не обходится только жалованьем. Уже в первые дни его пребывания в Англии было собрано и передано ему в дар 2 тысячи фунтов стерлингов. А когда вышла в свет книга, имевшая большой успех, она принесла ему хотя и маленькое, но все же какое-то состояние. Значительную часть своих доходов он предназначил для исследовательских работ, себе же оставил столько, чтобы хватило на скромную жизнь, на то, чтобы оказать поддержку матери и дать образование детям. Теперь он может даже позволить себе отказаться от гонораров за прочитанные им доклады или пожертвовать какую-то сумму на какое-либо общеполезное дело.
Последние месяцы пребывания в Англии Ливингстон посвящает главным образом подготовке к следующему путешествию. Лорд Кларендон, первый государственный секретарь министерства иностранных дел, лично заботится о новой экспедиции: «Приходите к нам и говорите, что вам требуется, и я дам все возможное». «Необыкновенно любезный» и поразительно деятельный, лорд поручил одному капитану из адмиралтейства, не ограничивая себя в расходах, заняться организацией экспедиции крупного масштаба. В нее должны войти кроме Ливингстона как начальника и одного его помощника еще несколько офицеров и ученых. [138]
Но Ливингстона это беспокоит. До сих пор он привык путешествовать один или в обществе случайно встретившихся европейцев — миссионеров или охотников на крупную дичь. А теперь снаряжается целая экспедиция. И он знает, что, чем больше прибудет туда европейцев, — да к тому же еще новичков, не знающих ни страны, ни языков местных народностей, — тем труднее будет ориентироваться в обстановке и обеспечивать одинаковое поведение всех участников по отношению к местным жителям. Поэтому вряд ли можно будет избежать ошибок, бестактных поступков и просто промахов со стороны европейцев. Это как раз и может помешать выполнению его планов и даже расстроить их. Он не привык командовать такими людьми, какие отданы теперь ему в подчинение. Ливингстон знает также, как раздражительны могут стать европейцы под воздействием тропического климата, лихорадки, мучений, доставляемых насекомыми, или при малейших лишениях и неудобствах. Втайне он, возможно, даже опасался, что при участии офицеров руководство экспедицией может перехватить кто-то другой, обладающий нежелательными чертами характера. Во всяком случае его очень тревожило непомерное усердие министерства иностранных дел, и он прилагал все усилия, чтобы затормозить работу капитана, уполномоченного на это министерством. Ему, по сути дела, нужен лишь небольшой пароход для плавания по рекам и маленькая группа ученых, и в конце концов он настоял на своем.
В качестве помощника и секретаря его сопровождает родной брат Чарлз, живший длительное время в Северной Америке, а врачом и ботаником назначен некий доктор Джон Кёрк, человек почти на двадцать лет моложе Ливингстона; кроме того, в экспедицию включены судовой инженер Рей, художник и интендант Бейнс, один морской офицер и один геолог. Эти шесть англичан в соответствии с подписанным ими контрактом обязались быть в подчинении у руководителя экспедиции. Для плавания по рекам приобретен небольшой разборный колесный пароход.
«Любезный» лорд Кларендон вручает исследователю письма для «уважаемого друга Секелету, вождя макололо», а также и для других вождей. Эти письма составлены по совету Ливингстона и с его помощью. «Мы покупаем хлопок и делаем из него ткани, — говорится в письмах, — и, если ты пожелаешь возделывать хлопчатник и другие необходимые нам культуры, мы охотно будем закупать их. И сколько бы ты ни собрал, наши люди все закупят. Объясни своему народу и соседним племенам, что англичане ваши друзья, сторонники любой дозволенной торговли, но враги работорговли: они выступают против охоты за невольниками... Мы [139] надеемся, что представители нашего величества и наши люди смогут навещать тебя время от времени, чтобы закрепить нашу дружбу...»
Ливингстон знал обстановку в Мозамбике, он хорошо понимал, что даже самое лучшее снаряжение и поддержка экспедиции со стороны британского правительства не смогут обеспечить ее успех, если к ней доброжелательно не отнесутся также и португальские власти в колонии. И он решил съездить в Лиссабон, чтобы самому добиться соответствующих указаний губернаторам Мозамбика со стороны их правительства или короля. Однако по разным причинам этот план расстроился, и лорд Кларендон провел переговоры по этому вопросу с португальским посланником в Лондоне. Тот, оказывается, знает Ливингстона, относится к нему с уважением и готов всегда оказать любую помощь. Он даже предложил Ливингстону несколько человек в качестве сопровождающих. Однако «помощь» такого рода не входила ни в планы Ливингстона, ни в планы министерства иностранных дел Великобритании, и пришлось приложить немало усилий, чтобы избавиться от этой услуги. Приятно, однако, что португальское правительство согласилось дать указание губернаторам оказывать Ливингстону необходимое содействие. Больше того, оно снабдило его рекомендательными письмами к губернаторам.
Ливингстон был твердо убежден, что ему удалось добиться своего: он привлек к своим планам внимание промышленных и торговых магнатов и даже правительства. Ему и в голову не приходила мысль, что все получилось как раз наоборот: власть имущие используют его как инструмент для осуществления своих намерений. У него ведь было немало качеств, подходящих для этого. Он слыл «освободителем рабов», «другом черных», которому так доверяли африканцы и не раскаивались в этом, потому что у него слово не расходилось с делом и всюду он искренне заявлял: «Я верю, Англия полна сознания своего долга стать поборником цивилизации и христианства среди язычников».
Вот этот-то человек и пришелся кстати для британских политических деятелей, которым прямо-таки мерещилась распростершаяся на весь мир колониальная империя. Поскольку он глубоко верил в то, что говорил, и был увлечен этим, то можно считать, что Ливингстон, несомненно, был хорошим пропагандистом. А то, что его намерения создать английские поселения в Центральной Африке выглядели слишком уж наивными и утопичными, нисколько не мешало политикам осуществлять свои замыслы: пусть он только проложит путь, а уж они сумеют им воспользоваться. И если этот человек еще недостаточно знаменит и популярен, тем более его [140] надо показать всему миру: вот, дескать, посмотрите, каковы мы, англичане!
Возможно, наиболее дальновидные из друзей Ливингстона, которые предостерегали его от разрыва с миссионерским обществом, предвидели уже, что утрата независимости, на которую он пошел, вела к злоупотреблению личностью и достоинством исследователя, но он был слишком доверчив, чтобы понять глубокий смысл их предостережений или хотя бы подумать об этом на досуге.
Промышленники тоже скоро уяснили, что бывшего фабричного рабочего можно хорошо использовать и в собственной стране. Однажды он был приглашен на собрание в родной Блантайр. Председательствовал один из фабрикантов. И что же посоветовал своим землякам бывший рабочий прядильной фабрики? Предоставим слово Блэйки, биографу Ливингстона:
«Он рассказал им о своих путешествиях и по их просьбе о приключении со львом в Маботсе. Тут же он высмеял мнение госпожи Бичер-Стоу, автора знаменитой «Хижины дяди Тома», будто фабричные рабочие фактически являются рабами. Он настоятельно советовал своим собратьям проявлять к честным и добрым намерениям своих хозяев больше доверия... Когда хозяевам оказывают больше доверия, они в свою очередь проявляют больше доброты к рабочим». Такой совет понравился «господам» больше, чем тот лозунг, с которым десять лет назад обратился К. Маркс в «Коммунистическом Манифесте» к пролетариям всех стран. По мнению Ливингстона, выходило, что рабочие, выражая недоверие своим «господам», себе же наносят вред и обрекают себя на нужду и нищету! Вышло так, что те человеческие качества Ливингстона, которые были полезны и важны во время его пребывания в Африке, оказались непригодными для рабочих в капиталистической Англии. Непосредственность, наивность породили ограниченность его взглядов, неспособность глубоко вникнуть в суть сложившихся социальных отношений: доброта вылилась в кротость и покорность там, где они неуместны, а миролюбие, подкрепляемое ложными аргументами, стало успокоительным, снотворным средством для эксплуатируемых. «Господа», конечно, предоставили ему полную возможность выступать с такими проповедями, а доверчивость его их вполне устраивала.
И тем не менее роль Ливингстона как исследователя исключительно велика. Университеты Глазго и Оксфорда присудили ему почетное звание доктора права. Кембриджский университет пригласил его выступить с докладами. [141] «Он начал без особых приготовлений, — рассказывает один кембриджский профессор, — и без всякого намерения захватить или очаровать нас блеском красноречия. Перед нами стоял скромный и простодушный человек, с видом немного утомленным долголетним трудом, с обожженным африканским солнцем лицом».
Он говорил главным образом о пользе миссионерской деятельности, выражал сожаление, что такое крупное английское миссионерское общество вынуждено все же просить у немцев людей для выполнения миссионерской работы. Необходимо смыть, говорил он, это пятно. «Позвольте мне привлечь ваше внимание к Африке. Я знаю, что буду в течение нескольких лет служить той стране, которая теперь открыта для всех. Включитесь в эту деятельность и вы! Возвратившись в Африку, я попытаюсь разведать путь во внутренние области материка, по которому шли бы товары и проникало христианство. Доведите до конца дело, начатое мной! Оставляю его вам!»
Приглашение это, говорят, имело непредвиденный, но очень желательный для Ливингстона результат. Искренность и скромность оратора произвели глубокое впечатление на слушателей, его воодушевление передалось академической молодежи. «Одаренные и многообещающие молодые люди английских университетов начали рассматривать цель своей жизни уже совсем в ином свете и дивились теперь, почему же прежде не возникало у них побуждения включиться в это благородное дело», — делится своими впечатлениями Блэйки. В Шотландии священник Джеймс Стюарт решил основать миссионерскую станцию где-нибудь на Замбези. В Оксфорде и Кембридже возник проект большого миссионерского предприятия, так называемой университетской миссии, полем деятельности которой также должен был стать бассейн Замбези.
Первое время Ливингстон чувствовал себя неловко в роли знаменитости: всюду его узнавали, оглядывали его и старались заговорить с ним. «Доктор Ливингстон был простым, невзыскательным человеком, — рассказывает один из его друзей, у которого он тогда гостил. — Он чувствовал себя неловко, когда с ним обходились как со знаменитостью... Ливингстон неохотно выходил на улицу из опасения, что его могут узнать и он невольно привлечет к себе внимание прохожих. Однажды так и случилось с ним на улице Риджент-стрит, и он не знал уже, как сбежать оттуда, пока не увидел извозчика и не вскочил в коляску. По этой же причине ему не хотелось появляться в церкви. Но как-то раз он все же согласился пойти с нами: мой отец убедил его, что мы будем не заметны, ведь наше место находится под самыми хорами. Входя в церковь, он нарочно опустил голову и все время молитвенно [142] прикрывал лицо руками. Но проповедник все же узнал его и в конце молитвы упомянул о нем. Молящиеся поняли, что он в церкви, и, как только молитва кончилась, устремились к нему, перелезая через скамьи, лишь бы повидать его, пожать ему руку».
Кульминационным моментом восторженных приемов в Англии стала аудиенция, данная ему королевой Викторией в феврале 1858 года. В черном сюртуке и голубых брюках, с форменной консульской фуражкой с золотым околышем в руке без особых церемоний он был представлен ее величеству, маленькой полной женщине. Полчаса она вела с ним беседу, расспрашивая его о путешествии. Теперь-то уж он может сказать своим африканским друзьям, что видел «вождя своего племени», имея в виду королеву; они ведь всегда удивлялись, когда он отвечал, что ему до этого не представлялось такого случая.
Последние месяцы подготовка к его путешествию то и дело прерывалась прощальными обедами, приемами и банкетами! И хотя ему не по душе было столь пустое времяпрепровождение, он не мог избежать его. Чуть ли не каждый день бывшему фабричному рабочему приходилось быть в обществе министров, послов, адмиралов, герцогов, епископов, разных лордов и леди и других видных персон общественной жизни и науки. И как же всех умиляло то, что он и в самом деле был намерен сдержать обещание и вернуться к своим черным друзьям. А как прекрасно сумел он показать этим африканцам, что такое истинный английский христианин! И как приятно было слышать присутствующим на одном из последних банкетов, когда сэр Родерик Мёрчисон сказал:
«Несмотря на то что в последние восемнадцать месяцев было высказано столько заслуженных похвал в его адрес представителями всех слоев нашего общества, несмотря на все почести, которыми он был осыпан университетами и городами нашей страны, Давид Ливингстон остался таким же простодушным и чистосердечным, каким он явился к нам из африканской глуши!»
Все эти очень любезные, доброжелательные господа, эти благородные, богатые и щедрые в благотворительности дамы еще больше укрепили в душе Ливингстона веру в великодушие своих земляков, в благородное призвание англичан в этом мире. Он не видел разницы между тем, что они о себе думали или по крайней мере хотели, чтобы так думали о них, и тем, что они собой представляли в действительности. Конечно, не все они были лицемерами и циниками. Немало и среди них было таких же простодушных, как и тот, кого они чествовали сегодня. И от полного сердца они благодарили своего бога за те общественные привилегии, которыми он одарил их на этом свете. Они искренне полагали, что [143] несчастным язычникам надо больше помогать, и были благодарны этому простодушному человеку, который будет трудиться вместо них на этом поприще и руководствоваться их помыслами.
Но больше было других, которые понимали скрытый смысл всей этой затеи. Однако они боялись лишить чистосердечного человека и его доверчивых почитателей благочестивой иллюзии и открыть им жестокие правила закулисной игры. Они сидели рядом: бесхитростные, наивные и знатоки дела, сидели в одной упряжке, управление которой находилось в руках последних. А материальными благами наслаждались как те, так и другие, благочестивые и лицемеры, нисколько не задумываясь над тем, что богатство это есть не что иное, как результат труда миллионов ограбленных, обманутых тружеников, которых бог не пожелал облагодетельствовать.
 | В борьбе с работорговлейВ обход порогов |
10 марта 1858 года на пароходе «Перл», принадлежавшем правительству, экспедиция наконец покинула Англию. Вместе с мужем отправилась Мэри Ливингстон, а также их младший сынишка Осуэлл. Экспедиция везла с собой в разобранном виде колесный пароход, предназначенный для исследования реки Замбези и ее притоков. В пути, в Сьерра-Леоне, для временного пополнения команды были завербованы двенадцать человек из племени кру. Люди этого племени были известны как хорошие моряки, обычно их охотно нанимали на европейские суда.
В Кейптауне госпожа Ливингстон, ожидавшая пятого ребенка, покинула экспедицию. Она поехала к своим родителям в Куруман и только через полтора-два года смогла присоединиться к мужу, намеревавшемуся исследовать реку Замбези. От своего тестя, прибывшего в Кейптаун, чтобы забрать Мэри, Ливингстон узнал, что сопровождающие его макололо все еще находятся в Тете.
Ливингстон, его брат Чарлз и другие члены экспедиции отправились дальше, и в мае пароход «Перл» достиг дельты Замбези — низкого заболоченного берега, покрытого мангровыми зарослями. Вначале они зашли в самый южный рукав дельты — Луауэ. Здесь с помощью двенадцати человек из племени кру были выгружены на берег части доставленного колесного парохода, затем они же начали собирать его. Готовый паровой бот Ливингстон окрестил именем «Ma-Роберт» — «Мать Роберта», так по имени их старшего сына бечуана по своим обычаям называли госпожу Ливингстон.
Только что собранный пароход «Ma-Роберт» поплыл вверх по Луауэ, однако ему не удалось пробиться в главный рукав реки Замбези. Непреодолимые, густо поросшие тростником болота вынудили участников экспедиции повернуть назад.
В результате длительных исследований они убедились, что из всех рукавов дельты Замбези наиболее удобен для плавания Конгоне, поэтому вверх по нему и направились теперь уже оба судна. [145]
Будучи еще на борту парохода «Перл», Ливингстон велел в присутствии всех членов экспедиции прочитать вслух инструкцию министерства иностранных дел. Позже он составил дополнение к ней, в котором подробно излагалась задача каждого члена экспедиции и особо подчеркивалась необходимость быть корректными друг с другом — как пример для африканцев — и безупречными в отношениях с ними. Предписывалось щадить животных. Убивать их разрешалось только при заготовке мяса или в научных целях.
«Будем надеяться, что для защиты от нападения местных жителей нам не понадобится оружие. Лучшая гарантия безопасности — достойное поведение.
Нет необходимости, пожалуй, призывать вас проявлять безупречную справедливость к местным жителям. В этом вы, конечно, будете руководствоваться собственными принципами. Но, поступая так, вместе с тем, безусловно, необходимо требовать также, чтобы ваши подчиненные избегали любого проявления обмана или оскорбления местных жителей...»
Будучи одновременно миссионером и исследователем, Ливингстон с самого начала придерживался этих принципов, и это оправдало себя. Теперь же он стремился личным поведением быть примером для окружающих: не терял самообладания в трудные минуты, был всегда вежлив, излишне не использовал свой авторитет, но и не ронял его.
В задачу экспедиции входило изучить возможность плавания по Замбези, включая ее притоки и устье. Это открыло бы путь для торговли и распространения христианства во внутренние районы Африки. В более широком плане задача «сводилась к тому, чтобы пополнить имевшиеся познания в географии, в изучении полезных ископаемых и сельскохозяйственных возможностей Восточной и Центральной Африки, углубить знакомство с местным населением и помочь внедрению новых методов ведения сельского хозяйства, чтобы образовались излишки продовольствия и сырья, необходимого для обмена на промышленные товары Англии».
«Работорговля — главное препятствие на пути цивилизации и торговли, а так как англичане — самый человеколюбивый народ мира и, вероятно, они всегда будут играть важнейшую роль в торговле на Африканском континенте, то меры по борьбе с работорговлей — это проявление глубокой мудрости и дальновидности». К числу таких «мер» Ливингстон относит и отправку британского крейсера к берегам Анголы, чтобы воспрепятствовать вывозу невольников в Америку, и свою теперешнюю экспедицию. Он, очевидно, и понятия не имел, с какой жестокостью этот «самый человеколюбивый народ мира» подавлял народное восстание в [146] Индии, известное под названием восстания сипаев, как раз в то время, когда отправлялась его экспедиция. Но даже при его безграничной доверчивости было трудно отыскать «глубокую мудрость и дальновидность» в шагах английского правительства в Африке.
Берега Конгоне были окаймлены настоящими зарослями — мантрами, гигантскими папоротниками и пальмами. На травянистых прогалинах паслись буйволы, бородавочники, антилопы. Их так много, что не прошло и нескольких часов, как экипажи обоих судов настреляли столько дичи, что ее хватило всем на несколько дней. Изредка встречавшиеся жители прибрежных деревень тотчас же скрывались на своих челноках в мангровых зарослях; это, вероятно, были беглые рабы.
Португальцы им не попадались. Впрочем, португальцы не имели правильного представления об устье Замбези. Позже Ливингстону стало ясно, что даже их генерал-губернатор не знал о Конгоне: широкое воронкообразное устье рукава Келимане он принимал за главное устье Замбези.
Дремучие леса по берегам постепенно отступали; начинались обширные равнины, покрытые травой выше человеческого роста.
Наконец суда повернули в главное русло, довольно широкое, но усеянное многочисленными песчаными мелями, между которыми проходил извилистый фарватер. Осадка парохода «Перл» оказалась слишком большой для такого фарватера. Пришлось изъять из трюмов личный багаж и снаряжение экспедиции и переправить его на остров, чтобы дать возможность судну маневрировать.
Во время этой выгрузки произошла ссора между Ливингстоном и морским офицером, который должен был командовать судном «Ma-Роберт». Этот офицер заявил об отставке. Вначале Ливингстон отказался принять отставку и пытался добром уладить ссору. Однако тот стоял на своем, и Ливингстон в конце концов вынужден был согласиться, хотя его очень огорчило столь недоброе начало экспедиции. Если вправду этот офицер вообразил себя незаменимым, то он ошибся: после его ухода командование судном Ливингстон принял на себя. Во время трех больших морских путешествий он имел возможность познакомиться с искусством вождения судов. В своем письме он указывает: «Кое-кто полагал, что мы не найдем выхода из этого положения, но я принял командование судном и провел его по реке уже свыше тысячи шестисот миль, хотя это занятие под палящими лучами солнца едва ли большее удовольствие, чем вождение экипажа по улицам Лондона в ноябрьские туманы». Ливингстон очень сожалел лишь о том, что в связи с новой обязанностью у него стало меньше возможностей бывать на берегу и общаться с жителями. [147]
Часть участников экспедиции осталась у склада на острове. Они должны использовать это время для ботанических и геомагнитных исследований и метеорологических наблюдений. Мяса им хватало: на берегу против острова паслись буйволы и зебры.
Остальные плыли на пароходе «Ma-Роберт» и на пинасе [португальская шлюпка. — Пер.] вверх по Замбези в направлении Щупанги и Сены. Здесь португальцы как раз вели борьбу против печально известного охотника за невольниками метиса Марианну. Выше по течению, недалеко от впадения Шире в Замбези, Марианну устроил укрепление, обнесенное частоколом. Там он держал отряд, вооруженный мушкетами, и время от времени высылал людей на северо-восток для охоты за невольниками из племен, не имевших огнестрельного оружия. Эти жертвы затем доставлялись закованными в цепи в Келимане, а оттуда как «свободные переселенцы» перевозились на судах во французские колонии.
Пока Марианну грабил и убивал в отдаленных местах, португальские власти не препятствовали ему. Но со временем его люди начали делать налеты на деревни, лежавшие вблизи португальских поселений; они отваживались нападать даже на Сену, не убоявшись пушек и гарнизона здешнего форта.
Губернатор вынужден был наконец выслать солдат для поимки грабителей. Марианну, видимо, был убежден, что португальцы не очень-то обеспокоены его действиями: оказывая им длительное сопротивление, он ведь не побоялся направиться к португальцам. в Келимане, чтобы там добром поладить с губернатором. Но тот посадил его в тюрьму и велел затем отправить в главный город колонии, порт Мозамбик, якобы для предания суду. Однако отряд Марианну, теперь уже под командованием его брата Бонга, продолжал вооруженные набеги и грабежи.
К июню 1858 года, когда пароход «Ma-Роберт» начал свой путь вверх по Замбези, эта война длилась уже полгода. Ливингстон, разумеется, остерегался принимать чью-либо сторону.
В августе «Ma-Роберт» забрал группу участников экспедиции с острова в верховье дельты. Теперь экспедиция, уже в полном составе, направлялась в Тете, где Ливингстон хотел забрать макололо, оставленных там более двух лет назад: надо же наконец доставить их домой. По нижнему течению Замбези, усеянному островами и песчаными отмелями, плыли очень медленно, не обходилось и без приключений. Иногда случалось, что рулевой не успевал уследить вовремя направление очень извилистого фарватера, и судно садилось на мель. Нелегко было команде из племени кру снять его с мели.
К тому же скоро обнаружилось, что паровая машина плохо [148] сконструирована: она пожирала невероятное количество дров, а отдача была невелика. Полтора дня заготовляли дрова все свободные от работ люди, а их хватало лишь на один день. Тяжело нагруженные челны плыли почти с такой же скоростью, как и судно; легкие челноки даже обгоняли его, и гребцы удивленно и сочувственно смотрели, как беспрерывно чихает медленно ползущий «астматик» — это прозвище было дано судну участниками экспедиции. Ливингстон не мог простить себе, что при покупке судна доверился мошеннику. Тогда ему казалось, что это была удачная сделка, так как прежний владелец якобы «из любви к его делу» продал судно по дешевке. И вот теперь плавание оказалось под угрозой. Потеря времени, вызванная непрерывными остановками и заготовкой дров, нарушала все планы. Бывало и так, что дрова кончались, а к берегу не подойдешь: на многие мили вдоль реки тянулись болота, покрытые тростником, а иногда степь. Нередко лишь счастье выручало из беды — глядишь, удастся высмотреть на берегу останки убитого слона, тащат тогда кости на борт и бросают их в топку. Если благоприятствовал ветер, то в помощь машине пускали в ход паруса.
8 сентября «Ma-Роберт» бросил якорь у Тете. Ливингстон поплыл на лодке к берегу; ему не терпелось узнать, как там его друзья макололо. Он знал, что король Португалии приказал колониальным властям проявить заботу о них, и за это Ливингстон открыто выразил ему благодарность в предисловии к своей книге о путешествии.
Увидев Ливингстона, бывшие его спутники поспешили ему навстречу. Их радость была неподдельной. Многим хотелось обнять его, но другие сдерживали их: «Не трогайте его, помнете его новый костюм».
Ливингстон рассказал им о печальном конце бедного Секвебу. А они сообщили, что тридцать их товарищей умерли от оспы, которую наколдовали им жители Тете, шестеро других были схвачены каким-то местным вождем и убиты. Ливингстон поинтересовался, как выполнялся приказ португальского короля о материальной их поддержке. Макололо не только ничего не получали от португальцев, но даже и не слышали о таком приказе. Местным властям в Тете, к которым обратился Ливингстон, тоже о нем ничего известно не было. Впрочем, они заявили, что за лиссабонским правительством большая задолженность: оно уже многие годы не платило жалованья служащим колонии, поэтому и не вправе требовать, чтобы они за свой счет кормили сотню чужих людей. Чтобы заработать себе на пропитание, макололо рубили дрова и продавали [149] их в деревне. Им помог только майор Сикард, предоставив им участок земли и мотыги, чтобы они могли обеспечить себя продовольствием.
Проживая в Тете, Ливингстон сумел узнать кое-что новое о португальской работорговле. Когда португальцы покупали взрослого раба вместе с его семьей, то делали это не ради того, чтобы избавить его от страданий, вызванных разлукой с родными, а для того, чтобы прочно привязать к новому месту и лишить возможности побега. Если он все же сбежит один, то лишится семьи и подвергнет себя риску, так как в первой же деревне его схватит какой-нибудь вождь и снова продаст в рабство, но уже без дорогих его сердцу людей. А если бы ему удалось бежать вместе с семьей, то может оказаться, что их поймают, но теперь уже не обязательно продадут одному рабовладельцу. Итак, здесь создавалась лишь видимость гуманного обращения с рабами, на самом же деле всем двигал голый расчет.
Здесь бывало и такое, что свободный человек добровольно становился рабом; для этого ему надо было лишь пройти символический обряд: сломать копье перед будущим господином, которого он облюбовал. Один португальский офицер пытался уговорить на такой символический поступок одного из макололо. Но тот не согласился.
В своем путешествии от западного побережья Африки до восточного Ливингстон не имел возможности исследовать нижнее течение Замбези. Теперь он хотел восполнить этот пробел. Да и обстоятельства благоприятствовали этому: уровень воды в реке на сей раз небывало низкий и многие скалистые выступы в русле реки обнажены.
В районе Кебрабаса Замбези несколько миль течет в скалистой теснине; ширина ее местами не более пятидесяти ярдов; здесь много резких поворотов русла и небольших водопадов. Отвесные стены ущелья гладко отшлифованы, так как в период дождей вода поднимается здесь более чем на восемьдесят футов; скалистые уступы и пороги скрыты тогда под водой. Скорость течения, разумеется, огромная, и только мощный пароход в состоянии преодолеть встречный поток. «Ma-Роберт» не был пригоден для такого плавания. С трудом удалось пройти лишь семь или восемь миль против течения. Затем пришлось все же вернуться. Ливингстон велел стать на якорь в этом потоке. И чтобы исследовать пороги Кебрабаса до самого их верховья, он с доктором Кёрком и небольшой группой макололо пробирался вверх по течению вдоль крутого скалистого склона. Скалы были так нагреты, что на ступнях у макололо, которые шли босиком, вздулись волдыри. Наконец проводники [150] отказались идти дальше, макололо также начали роптать. «Мы всегда полагали, что ты добросердечен, — говорили они Ливингстону, — но, оказывается, у тебя нет сердца!» Но он хотел непременно получить недвусмысленный ответ на вопрос о проходимости порогов Кебрабаса — разумеется, не так, как это сделал, по рассказам, один высокопоставленный португалец. Говорили, что этот человек посадил двух связанных рабов в лодку и пустил ее выше порогов вниз по течению Замбези. «И так как в том месте, где пороги кончаются, не оказалось ни рабов, ни лодки, то его превосходительство пришел к заключению, что пороги Кебрабаса для судоходства недоступны».
Ливингстон же не успокоился, пока не достиг того порога, о котором проводник сказал, что это верхний. Он возвратился с твердым заключением, что в период низкой воды Кебрабаса представляет собой непреодолимое препятствие для любых судов. Об этом Ливингстон сообщил британскому правительству и, пользуясь случаем, просил предоставить ему более подходящее судно, ссылаясь на дефекты «Ma-Роберт». Одновременно он пишет другу и просит приобрести новое судно, если правительство не откликнется на его просьбу. Он дает ему полномочия истратить на эти цели две тысячи фунтов стерлингов из его средств. Прежде чем доставить домой макололо, ему хотелось бы дождаться ответа правительства на его просьбу.
Ниже Сены в Замбези с севера впадает многоводный приток Шире. Португальцы ничего не могли сказать о нем, так как не знали даже, откуда он вытекает. Много лет назад португальская экспедиция якобы пыталась плыть вверх по этому притоку, но не смогла пробиться сквозь плотную массу водных растений и вернулась назад. Другие утверждают, что португальцев вынудили вернуться отравленные стрелы прибрежных жителей. И даже охотники за невольниками, возглавляемые Марианну, сторонились этих мест. Река Шире не использовалась для судоходства, поэтому и не было торговых связей с недружелюбными к чужеземцам племенами. Один купец из Сены рассказывал, что он посылал своих торговых агентов вверх по этой реке, но их постигла неудача: их ограбили и им едва удалось уйти. А когда португальские должностные лица узнали, что Ливингстон проявляет интерес к этой опасной реке, они стали жаловаться: «Наше правительство приказало всячески содействовать вам и охранять вас. Но как можно обеспечить вашу безопасность, когда вы намереваетесь отправиться в такое место, куда мы не отважимся следовать за вами!»
И все же в январе 1859 года судно «Ma-Роберт» начало свой [151] путь вверх по реке Шире. В первые дни навстречу им все время как бы плыли массы водных растений, но они не очень мешали движению парохода и челноков. Здесь плыть было даже легче, чем по Замбези: шире, глубже и нет песчаных отмелей.
Всякий раз, когда судно делало остановку, чтобы заготовить топливо, Чарлз и Кёрк отправлялись на экскурсию. Они собирали образцы растений, ценных древесных пород, насекомых, а также предметы одежды, украшений и инструменты местных жителей; здесь же изготовляли чучела птиц. В их обязанности входили магнитные и метеорологические наблюдения, а доктор Кёрк оказывал жителям встречавшихся деревень и врачебную помощь. Чарлз Ливингстон собирал для владельцев текстильных фабрик Манчестера образцы выращиваемого здесь хлопка.
Плывя вверх по реке, путники заметили, что отношение к ним здешних жителей уже иное. Как только судно приближалось к какой-либо деревне, раздавались звуки барабанов и тотчас появлялись мужчины, вооруженные луками и стрелами. Некоторые прятались за деревья, тщательно выбирая цель. Женщин совсем не видно. «Нам надо действовать очень осторожно, чтобы эта толпа, внимательно следящая за каждым нашим движением, ложно не истолковала наши намерения». В одной большой деревне Ливингстон насчитал по меньшей мере пятьсот собравшихся здесь воинов. Они приказывали ему остановиться. Он же велел грести к берегу, где его провели к вождю, крупному седовласому человеку, который, видимо, был встревожен появлением на реке неведомого дымящего чудовища. Ливингстон, как обычно, вначале пояснил, что он и его белые спутники не португальцы, а англичане и прибыли в эти земли не ради разбоя и захвата невольников, а для того, чтобы проложить путь мирной торговле всевозможными товарами, а не рабами. При этих словах лицо вождя просветлело. Это был как раз тот человек, который до сих пор плотно закрывал путь португальским купцам внутрь страны. По просьбе Ливингстона он созвал своих воинов, чтобы уведомить и их, с чем пришли эти белые. Они ничего не имели против намерений чужеземцев: «Ма-Роберт» может беспрепятственно продолжать свой путь. Однако недоверие у местных жителей еще оставалось: они не спускали с судна глаз, день и ночь на берегу бодрствовала сильная охрана.
На тридцать миль выше этой деревни вдоль восточного берега Шире вытянулась заболоченная местность, где обитали огромные стада слонов: Ливингстон однажды насчитал до восьмисот животных. В этих болотах они были в безопасности: охотникам туда не пробраться.
Проплыв еще двести миль, путешественники натолкнулись на [152] большие скалистые утесы среди реки; между ними бурлил и пенился катившийся вниз поток. Пороги преграждали путь дальше. На этом закончилось плавание по реке Шире.
Встретившись здесь с недоверчивыми жителями, Ливингстон считал слишком рискованным дальнейший путь по суше. Но чтобы подготовить благоприятные условия для будущих исследований, он послал нескольким вождям добрые послания и подарки, а затем отправился в обратный путь. Вниз по течению двигались быстро. В воде бегемоты уступали путь судну, но крокодилы бросались навстречу, принимая его, видимо, за крупное животное, за которым стоило бы поохотиться. Оказавшись в нескольких ярдах от судна, они понимали свою ошибку и быстро ныряли в глубину.
В середине марта экспедиция во второй раз отплывала вверх по Шире. У одной деревни, жители которой оказались менее напуганными и охотно продавали птицу и зерно, «Ma-Роберт» стал на якорь, и Ливингстон вместе с доктором Кёрком и несколькими макололо отправился в путь пешком, чтобы обследовать вновь пороги Шире до самого верхнего течения. Оказалось, что за первым открытым ими водопадом выше находятся еще пять. Ливингстон дал им название по имени президента Королевского географического общества — водопады Мёрчисона.
Во время экскурсии на восток от реки Ливингстон открывает озеро Ширва, до этого неизвестное португальцам. Затем он возвратился на судно и поплыл вниз, к Замбези, закончив свой путь на Конгоне при ее впадении в Индийский океан.
Этим и завершился первый этап экспедиции. Он не привел к сенсационным открытиям, в основном заполнив лишь пробелы в познании этих мест, которые остались в стороне от маршрута трансафриканского путешествия Ливингстона.
В устье Конгоне экспедиция пополнила продовольственные запасы доставленными английским бригом. Ливингстон приказал вытащить «Ma-Роберт» на берег, чтобы осмотреть снизу и с боков стальной корпус судна, доставлявшего ему в последнее время лишь огорчения. Дно где-то дало течь, и в трюме к утру по щиколотку набиралась вода, а иногда она заливала даже каюту. Во время дождя протекала крыша каюты и, чтобы записать что-нибудь в дневник в такое время, приходилось раскрывать зонтик над головой. В ящиках с продуктами, выполнявших роль коек и стульев, также сыро. Собранные и высушенные с большим трудом образцы растений оказались попорченными, и их надо было снова собирать. Из-за сырости иногда приходилось спать на влажных постелях; участились и случаи заболевания лихорадкой.
Осматривая тонкую обшивку корпуса, сделанную из новых, [153] неапробированных сортов стали, спутники обнаружили немало едва заметных трещин, через которые постоянно просачивалась вода. Металл оказался пористым. Эти дефекты на ходу нельзя было устранить. И пока не прибыло новое судно, Ливингстону пришлось обходиться этим.
Второй этап экспедиции обещал быть нелегким: предстояло целыми неделями идти пешком. Люди из племени кру, обслуживавшие судно, были непривычны к длительным переходам. Пришлось их уволить. Макололо взяли на себя их заботы. Усердные дровосеки и привычные ходоки, они быстро освоились с новой работой и приступили к выполнению своих обязанностей на судне.
В самом начале карьеры путешественника славу первооткрывателя Ливингстону принесло открытие им озера Нгами. Его и теперь манило озеро, лежавшее, как говорили, там, где начинает свой путь река Шире. Севернее озера Ширва находится, как заверяли его, огромный водоем — озеро Ньяса. Там пока не ступала нога европейца, да и жители берегов Шире знали о нем только понаслышке.
В середине августа «Ma-Роберт» снова направился вверх по реке Шире. Судно, как считалось, способно было взять десять — двенадцать тонн груза и приблизительно тридцать шесть человек, но даже при такой нагрузке было опасение, что оно очень сильно осядет в воду. Поэтому часть людей разместилась в лодках, буксируемых пароходом. В пути ночью одна лодка опрокинулась, и один человек, не умевший плавать, утонул. Этот случай очень опечалил Ливингстона и вызвал гнев к его земляку, всучившему негодное судно; теперь на его совести лежала гибель человека.
Перед водопадами Мёрчисона он покинул судно, намереваясь пройти на север, к неизвестному озеру. С ним пошли сорок два человека: четыре европейца, тридцать шесть макололо и два местных проводника. В таком количестве людей не было необходимости, но Ливингстон не знал, как примут его здешние жители, и хотел, чтобы его отряд выглядел достаточно сильным.
На возвышенностях, простиравшихся вдоль реки, по утрам чувствовалась приятная прохлада. Здесь не было москитов, что позволяло спать на открытом воздухе. Местность прелестная: плодородные равнины, зеленые холмы, а за ними величественные горы.
Выше водопадов Мёрчисона экспедиция снова спустилась в долину — плодородную и густо заселенную. Поселения оседлых маньянджа (у Ливингстона — manganja) были хорошо защищены непроходимой живой изгородью ядовитых древовидных молочаев. [154]
Маньянджа — трудолюбивый и искусный народ. Они возделывали хлопчатник, а в деревнях путешественники видели, как они пряли и ткали. На холмах маньянджа добывали железную руду, плавили ее, а из железа мастерили топоры, мотыги, наконечники копий и стрел, иглы, браслеты. Они занимались гончарным ремеслом, из растительного волокна плели корзины, рыболовные сети. Здесь все трудились — мужчины, женщины, дети. Искусные изделия маньянджа были удобны, прочны и долговечны.
Как женщины, так и мужчины носили очень много украшений: на всех пальцах — кольца, на шее, руках и лодыжках — браслеты из латуни, меди и железа. Женщины протыкали верхнюю губу, вставляя в отверстие пелеле — огромное кольцо, которое не только обезображивало их, но и мешало при еде и разговорах; у бедных оно сделано из бамбука, у богатых — из олова или слоновой кости. Женщины маньянджа, кроме того, остро обтачивали резцы. Когда им говорили, что пелеле их уродуют, они отвечали: «Такая мода!» А перед модой разум бессилен и в Африке.
Маньянджа — искусные пивовары и большие любители пива. Путешественникам нередко приходилось видеть целые деревни, охваченные весельем: льется пиво, раздается гром барабанов, люди кружатся в танце. Чуть ли не в каждой деревне их встречали пивом. Это освежающий и очень питательный напиток, и надо немало выпить, чтобы почувствовать опьянение. Он ни в какое сравнение не шел с коварной сивухой, которую продавали европейские купцы. Этот напиток безвреден.
После двадцатидневного перехода экспедиция в полдень 16 сентября 1859 года достигла южной оконечности озера Ньяса.10)
Лишь много времени спустя Ливингстон узнает, что почти одновременно с ним к озеру Ньяса прибыл немецкий путешественник доктор Рошер. Но так и осталось неизвестным то место на берегу озера, куда он прибыл, ибо его вскоре убили. «Даты прибытия — 16 сентября и 19 ноября — показывают, что мы оказались там примерно на два месяца раньше». Этим свидетельствам Ливингстон придавал важное значение. «Регулярная публикация наших писем Королевским географическим обществом была неоценимым плюсом для нас. Она твердо устанавливает дату каждого открытия и увековечивает его». Сам он всегда старался как можно скорее сообщать в Лондон о своих открытиях, чтобы никто не опередил его. При исключительной скромности Ливингстон был очень честолюбив как первооткрыватель.
Путешествуя, экспедиция наткнулась на один из важнейших путей доставки невольников из внутренних областей материка к побережью океана. Другие пути проходили через реку Шире [155] немного ниже, а некоторые из них пересекали даже озеро Ньяса.
Ливингстон, конечно, мог бы освободить встреченных невольников, и макололо даже упрекали его за то, что он не поступил так. Но Ливингстон трезво взвесил все обстоятельства. Как быть тогда с освобожденными? Оставить их при себе он не мог, а если отпустить на волю, то вожди окрестных деревень вскоре переловят их и перепродадут заезжим работорговцам.
Там, где работорговля приобрела широкий размах, маньянджа стали недоверчивы и негостеприимны. В некоторые деревни путешественников просто не пускали и даже не пожелали продать им продукты, не говоря уже о гостеприимстве и подарках.
На соседнем нагорье, западнее озера Ньяса, климат очень благоприятен для жизни людей; здесь европейские поселенцы чувствовали бы себя прекрасно. А с трудолюбивыми маньянджа легко было бы наладить обмен, выгодный обеим сторонам.
Вскоре Ливингстон вернулся на судно, довольный результатами своих исследований. Первое короткое посещение этих мест преследовало прежде всего цель убедить местное население, которое знакомо пока лишь с работорговцами, что есть и другие чужеземцы, имеющие добрые намерения.
Ливингстону не хотелось надолго покидать судно. Его беспокоило, как будут вести себя оставшиеся там люди: любая неосторожность с их стороны подвергнет сомнению добрую славу экспедиции, а от этого зависит успех планов, задуманных на ближайшее будущее. Суть их состояла в следующем.
По наблюдениям англичан, на Занзибар и в прибрежные места почти все рабы, которых погружали на суда в португальских гаванях, поступали из окрестностей озера Ньяса. Если добиться того, чтобы на этом озере постоянно курсировал хотя бы небольшой пароходишко, который мог бы скупать всю накапливавшуюся слоновую кость, добываемую в верхнем течении реки Шире и в районе озера Ньяса, то работорговля лишилась бы своей основы: она оказалась бы нерентабельной. Только слоновая кость, отправлявшаяся к побережью рабами, давала возможность с лихвой покрыть расходы по доставке обоих этих товаров. «Закрыв доступ работорговцам внутрь материка, можно было бы подорвать работорговлю на побережье океана».
Британские морские офицеры, с которыми Ливингстон поделился своими планами, придерживались того же мнения: действительно, небольшой пароход, курсирующий по этой реке и озеру, был бы полезнее для борьбы с работорговцами, чем полдюжины военных судов, патрулирующих в океане. К тому же и расходы были бы меньше. [156]
Но «Ma-Роберт» едва ли был пригоден для этой цели. Когда экспедиция после открытия озера Ньяса плыла вниз по Конгоне, каждую ночь судно оказывалось сидящим на песчаной отмели. Корпус его так пропускал воду, что в глубокой реке оно непременно утонуло бы. В устье Конгоне пришлось вторично вытаскивать его на берег, чтобы кое-как наскоро отремонтировать.
Каждое новое посещение Тете и Шупанги давало возможность Ливингстону все глубже вникать в жизнь португальской колонии. И всякий раз все больше бросалась в глаза косность колонизаторов, царившая всюду, и полное равнодушие ко всему. В самом Тете, как и его окрестностях, прекрасно росли дикий индиго и хлопчатник, однако никто и не подумал их культивировать. В дельте Замбези, несомненно, нетрудно было возделывать сахарный тростник, но португальцы предпочитали продавать в заморские страны ту самую рабочую силу, которая так необходима для этой цели. В окрестностях Тете находились запасы каменного угля, пригодные для добычи; Ливингстон испробовал его в топках «Ма-Роберт», и результаты оказались хорошими. На многих реках и ручьях вблизи Тете можно было бы наладить промывку золота. Но ни золото, ни уголь — ничто не использовалось: без лишнего труда можно ведь получать солидный доход и от работорговли.
Прошло четыре года, как Ливингстон вместе с макололо прибыл в Тете. Теперь он стал готовиться к поездке, чтобы проводить макололо на родину.
Длительное пребывание этих людей в Тете и его окрестностях изрядно изменило их. Некоторые из них приспособились добывать здесь средства существования в качестве лодочников или охотников на слонов.
На родину макололо решили идти пешком. «Ma-Роберт» поставили на якорь у острова, лежащего напротив Тете; охрана его была поручена двум английским матросам. Готовясь к длительному походу, макололо обшили старыми парусами тюки с ситцем, бусами и латунной проволокой; на каждом тюке было написано имя носильщика.
15 мая 1860 года Ливингстон со своим братом, доктором Кёрком и согласившимися возвратиться макололо тронулись в путь. Местами он пролегал вдоль Замбези, иногда приходилось пробираться по холмам, лежавшим в стороне от нее, пересекать долины многочисленных рек и ручьев. Первое время ни одна ночь не обходилась без приключений: всякий раз кого-нибудь не [157] досчитывались. Под покровом ночи «беглецы» возвращались в Тете. Напрасны были слова Ливингстона: если кто желает возвратиться в Тете, нужно просто сказать ему об этом, он никого не задержит. «Когда мы добрались до холмов Кебрабаса, не досчитались уже тридцати человек — это почти одна треть экспедиции. Если так будет продолжаться, мы не сможем дотащить до места назначения грузы, приобретенные мной для Секелету». Однако вскоре побеги прекратились.
Выше этих порогов путники двигались по плодородным равнинам. Здесь прежде обитало и находило пропитание многочисленное население, но теперь в результате войн и охоты за невольниками этот район обезлюдел. Как свидетельство недавней деятельности человека на полях разоренных деревень, среди бурно разросшегося бурьяна все еще сохранялся хлопчатник.
Дни протекали в размеренном однообразии. Вечерами на остановках разбивали лагерь, и в соответствии с установленным самими макололо порядком каждый занимал свое место: англичане в середине, вокруг них располагались макололо... Место для костра выбирали так, чтобы дым не шел в лицо англичанам. Одни в это время срезали сухую траву для ложа англичан, другие расстилали на траве шерстяные одеяла и кожаные пальто, клали у изголовья дорожные сумки, ружья, револьверы и вблизи ног разводили костер. «У нас не было палатки, не было другой крыши, кроме ветвей дерева, но какой чудесный открывается вид, когда смотришь вверх на яркое лунное небо, усеянное мерцающими звездами: на этом фоне четко вырисовывается каждая веточка, каждый листочек».
Макололо пользовались спальными мешками, сшитыми из двух циновок, изготовленных из пальмовых листьев. После ужина люди не сразу ложились спать, они садились вокруг костров и долго еще беседовали или пели.
«Разбив лагерь, один или двое из нас, белых, обычно отправляются на охоту, не столько ради удовольствия, сколько из необходимости: надо добыть побольше мяса. Мы охотно берем с собой одного макололо, который доставил бы дичь в лагерь». Но бывало и так, что никто не изъявлял желания идти — все ссылались на усталость. Тогда Ливингстону приходилось идти одному. В этом случае, если ему удавалось убить крупную дичь, он должен был проделывать двойной путь — воротиться в лагерь и привести людей к месту, где находилась добыча, которую им предстояло забрать. Кто бы еще из европейских исследователей стал проделывать двойной путь только ради того, чтобы лишний раз не побеспокоить своих усталых спутников? «Лишь бескорыстное [158] благодеяние... только оно может убедить людей, что мы руководствуемся благими целями, только так мы добьемся искреннего уважения к себе». Этого уважения, на котором основывался его авторитет, Ливингстон по праву добился еще во время своего путешествия через материк с запада на восток. Теперь это уважение проявлялось повсюду: знакомые принимали его радушно, как хорошего друга. Некоторые вожди, недоверчиво относившиеся к нему прежде, теперь проявляли желание познакомиться с ним и оказывали ему искреннее гостеприимство.
«Встаем мы на рассвете, примерно в пять часов, пьем по чашке чая и съедаем по сухарю. Люди свертывают одеяла и кладут их в дорожные сумки. Другие привязывают свои спальные мешки и котелки к концам палки, которую они перекидывают через плечо. Повар укладывает посуду и продукты. Когда встает солнце, мы уже в пути. Около девяти утра, если попадется подходящее место, делаем привал и завтракаем. Чтобы не терять времени, пища готовится обычно с вечера, и теперь остается только подогреть ее. После завтрака сейчас же продолжаем путь. В полдень немного отдыхаем, затем снова в путь... Мы редко бываем на ногах более пяти-шести часов за день. При столь жарком климате этого вполне достаточно, чтобы чрезмерно не переутомлять себя. Я не прибегал к тому, чтобы какими-либо мерами подгонять своих спутников на марше; торопиться ради тщеславия — вот, дескать, как быстро мы проделали путь — это значит совершать глупость. Напротив, уважение чувств спутников, спокойное наблюдение во время марша за природой и людьми и, наконец, возможность наслаждаться вместе с ними столь необходимым отдыхом — все это делает путешествие в высшей степени приятным».
При впадении в Замбези реки Луангва (Лвангва), текущей с севера как раз на полпути в Линьянти, места пребывания Секелету, находились развалины Зумбо, старой торговой фактории и миссионерской станции иезуитов. «С часовни разрушающегося храма, вблизи которого валяется разбитый церковный колокол, открывается великолепный вид на обе могучие реки, на зеленые луга, на волнами колышущиеся леса, на прелестные холмы и величественные горы, вырисовывающиеся вдали. А на месте поселения видишь лишь руины, всюду царит запустение. Птица, потревоженная непривычным шумом приближающихся шагов, взлетает с пронзительным криком. Все здесь покрылось колючим кустарником, буйно разросшейся травой и ядовитым бурьяном».
Выше Зумбо путники прошли через покинутую деревню из двадцати больших хижин. Какой-то метис-работорговец со своими людьми совершил налет на деревню, мужчин приказал убить, [159] а женщин и детей увел в рабство и разграбил все их имущество. Этот грабитель пришел сюда из другой деревни, где он только что совершил коварное убийство. Тщеславный вождь одной деревни как-то обещал ему десять больших слоновых бивней, если тот убьет их верховного вождя: вождь хотел сам занять это место. Португальский метис согласился на такие условия и в сопровождении вооруженных рабов наведался к верховному вождю. Тот принял его любезно и оказал ему почести и гостеприимство, какое обычно оказывают только почетным чужеземцам, приказал своим женам приготовить праздничный обед. Купец-разбойник охотно принял приглашение к столу, отведал пива, ел сколько душе угодно. Закусив как следует, он попросил хозяина разрешить ему продемонстрировать, как стреляют его ружья. Вождь, сгорая от любопытства услышать ружейные выстрелы, охотно удовлетворил его просьбу. Рабы поднялись, зарядили свои ружья и произвели залп в упор по весело настроенным доверчивым зрителям. Вождь и двадцать его подданных пали мертвыми. Уцелевшие в ужасе разбежались. Рабы этого купца бросились на женщин и детей, чтобы увести их с собой, а деревню разграбили. Такое преступление — отнюдь не единичное, не случайное, — этот купец мог совершать, не боясь преследований и наказаний со стороны колониальных властей. Столь позорные поступки уже давно стали обычными. Иногда, чувствуя опасность, жители берутся за оружие; случается и так, что грабители, боясь, что в открытом вооруженном столкновении они потерпят поражение, не приняв бой, уходят ни с чем.
Чем дальше экспедиция продвигалась вверх по Замбези, тем больше встречалось дичи. Охотились, правда, только на буйволов, зебр и цесарок. К ночному рычанию львов путники так привыкли, что никто теперь уже и не просыпался от него.
Ландшафт все время менялся: то саванна, то колючие кустарники, то лес. Иногда единственной дорогой были тропы диких зверей, которые могли увести в ненужном направлении. Если тропа расходилась, то путники иногда разделялись на группы. Однажды Ливингстон шел впереди колонны носильщиков, один и без оружия, по звериной тропе, петляющей в частом колючем кустарнике. На тропинке он увидел плод и нагнулся, чтобы поднять его. И вдруг перед ним раздалось злое сопение. Он моментально выпрямился: прямо на него двигался носорог. На какой-то момент его охватил ужас. Могучее животное было лишь в нескольких шагах, но тут оно почему-то внезапно остановилось. Ливингстон метнулся назад по тропе. Зацепившая его ветка выдернула из кармана часы. [160] Повернувшись, чтобы схватить их, он увидел, что носорог все еще стоит неподвижно на том же месте, а рядом — детеныш. «Осторожно! Носорог!» — крикнул он издалека своим спутникам. Но тут животное, громко фыркая, свернуло в сторону и стало пробираться сквозь кусты. С тех пор Ливингстон никогда не ходил без ружья.
11 июля путешественники переправились через Кафуэ, широкий северный приток Замбези. Во второй половине июля они шли уже по землям батока, где людей осталось мало.
Из влажной и знойной долины Замбези путники поднялись на обширное плато. По утрам почва и трава покрывались здесь инеем, а гладкая поверхность воды в пруду — тонкой ледяной пленкой. Когда-то здесь паслись стада крупного рогатого скота, а работящие миролюбивые батока обрабатывали плодородные земли. Теперь встречались лишь одичавшие плодовые деревья да изрядно «потрудившиеся» на своем веку ступы — уцелевшие свидетельства прежних поселений. За целую неделю путешественники не встретили ни одного человека.
Но вот наконец донеслись пение петуха, крики детей и звуки тяжеловесных пестов, ударявших по ступам: путники снова приближались к деревне, жившей полной жизнью.
Ливингстон велел своим переводчикам всюду объявить, что белые желают, чтобы все племена жили в мире друг с другом. «Нам, как поборникам мира, было оказано почтительное гостеприимство, и от Кафуэ до водопада Виктория мы не страдали от недостатка пищи. В наш ночной лагерь жители присылали богатые подарки: белую муку тонкого помола, жирных каплунов, тыкву, бобы, табак, а также огромные кувшины пива».
«Между Кафуэ и Зунгве в течение дня мы проходили через несколько деревень. И вечером в наш лагерь являлись посланники с щедрыми дарами из тех деревень, в которых мы не смогли остановиться. Жители деревень искренне огорчались, если мы, проходя мимо их жилищ, не воспользовались их гостеприимством. Нас приветствовали у каждой хижины и просили немного отдохнуть, выпить хоть глоток пива. Наш поход уподобился триумфальному шествию. В каждую деревню мы входили и покидали ее, сопровождаемые возгласами дружбы... Когда мы останавливались на ночлег, то жители по собственному почину принимались за устройство нашего лагеря. Одни живо своими лопатами брались выравнивать место для нашего ночного ложа, другие таскали сухую траву и расстилали ее по всей площадке, предназначенной для сна. Некоторые несли топоры и быстро сооружали из кустарника ограду для защиты от ветра. А когда вода оказывалась далеко, они спешили [161] избавить нас от этого труда, а вместе с водой не забывали прихватить и дрова для приготовления пищи».
Об истории и культуре народов Центральной Африки тогда почти ничего не знали. Ливингстон уже тогда обратил внимание на социальные явления в африканском обществе, к которым почти все другие исследователи Африки остались равнодушны. «Как и у других народов, у африканцев время от времени появляются очень одаренные люди. Некоторые из них своей мудростью привлекают к себе внимание многих народов Африки и вызывают у них восхищение... Однако полное отсутствие письменности ведет к забвению прошлого опыта, он не передается потомкам. У них были также и свои трубадуры, но их песни не дошли до следующих поколений. Один такой певец, и, очевидно, настоящий природный талант, сопровождал нас много дней и, как только мы делали привал, воздавал нам хвалу, пел жителям деревень... Песни его были плавны и гармоничны... Вначале они были короткими, но с каждым днем, по мере того как он все больше знакомился с нами, в его песни вплетались новые сведения о нас, пока это восхваление не превратилось в длинную оду. Следуя за нами, этот молодой африканец слишком удалился от своей родины, а когда ему нужно было возвращаться, он выразил сожаление, что не может далее сопровождать нас. Конечно, мы воздали ему должное за полезную и приятную похвалу». Среди шедших с Ливингстоном людей батока был такой же певец, хотя и менее одаренный, чем тот. Каждый вечер, когда другие готовили пищу, беседовали или спали, он исполнял свои импровизированные песни и аккомпанировал себе на сансе — деревянном инструменте с девятью железными клавишами, по которым он ударял большим пальцем. В качестве резонатора, усиливавшего звук, использовалась бутылеобразная тыква (калебаса).
Ливингстон приближался к водопаду Виктория. Однажды в пути он узнал такое, что его потрясло больше, чем вся прежде виденная им бесчеловечность в португальских владениях. Оказалось, за ним по пятам следовала партия, состоявшая из рабов того самого португальского метиса, который вблизи Зумбо коварно убил верховного вождя и его приближенных. Они повсюду скупали за бесценок слоновую кость и добыли десять больших лодок, чтобы увезти все это; кроме того, они купили также несколько юных красавиц. Но больше всего возмутило Ливингстона то, что они выдавали себя за его «детей» — его свиту. Для прикрытия грязных делишек они злоупотребляли доброй славой Ливингстона! «Открыв те земли, куда до этого не отважился проникнуть ни один португалец, мы вопреки своим намерениям проложили путь работорговле в «неведомые земли»... С горечью наблюдаем мы, как то [162] добро, к которому стремились, оборачивается невероятным злом». Одновременно в нем крепло убеждение, что его водят за нос не только колониальные власти Мозамбика, но и правгельство Лиссабона. Оно отдало приказание колониальным чинсшикам оказывать его экспедиции всяческое содействие, какое только можно. Однако трудности, с которыми он сталкивался, и повседневные наблюдения открыли ему, что одновременно с этими гласными приказами колониальным чиновникам были направлены и тайные инструкции тщательно следить за его деятельностью и всячески препятствовать осуществлению его планов. Власти Мозамбика истолковали их на свой лад. «Там, где чуть ли не каждый, от губернатора до рядового солдата, — заядлый рабовладелец, такие приказы могут означать не что иное, как: зорко садить за тем, чтобы работорговля следовала за ним по пятам!»
4 августа 1860 года путешественники достигли первых деревень батока, подвластных Секелету. И вот уже вдали видны столбы водяной пыли, вздымающейся над водопадом Виктория.
В ближайший день Ливингстон показал своим английским спутникам этот величественный водопад. В челноке они преодолели опасные пороги и подплыли к тому краю острова, где когда-то Ливингстон «заложил» сад, а позже его вытоптали бегемоты. Чарлз Ливингстон, видевший до этого Ниагарский водопад, заявил, что водопад Виктория — более величественное зрелище, хотя в то время была низкая вода.
Во время своего первого посещения водопада Ливингстон, чтобы не задерживать Секелету с его свитой из двухсот человек, находился здесь лишь два дня. На этот раз он остается здесь дольше, чтобы иметь возможность исследовать своеобразное течение реки ниже водопада, где бурлящая и клокочущая масса воды устремляется в длинную, тесную и глубокую расселину, зажатую между вертикальными базальтовыми стенами. На сколько хватает глаз, эта расселина тянулась многочисленными зигзагами.
Наконец путешественники вступили в Сешеке. За последние годы здесь многое изменилось. Сешеке — это уже говый город. Старый город жители покинули, после того как Секелету велел казнить управителя города, так как тот — и в это твердо верит Секелету — наслал на него ужасную болезнь — проказу. Больной Секелету жил не в городе, а на противоположном берегу Замбези, где стояло несколько хижин. На народе он больше не показывался, свои приказы передавал через посланников. Они-то и сообщили ему о прибытии белых и возвращении его подданных. [163]
Англичанам сразу же отвели опрятную хижину и передали жирного быка в качестве подарка вождя. Секелету был щедр к своим гостям, как и прежде. Но то, что рассказывали о нем, не радовало их. Болезнь и суеверие оказали дурное воздействие на Секелету, и это плохо повлияло как на него, так и на окружавших. Будучи убежден, что его заколдовали, он подозревал в том многих видных представителей своей свиты, а кое-кого из них приказал казнить вместе с семьями. Некоторые из них бежали к отдаленным дружественным племенам и жили там в изгнании. Один из наиболее мудрых его советников умер — для Секелету это лишнее доказательство могущества колдовской силы тех, кто ненавидел его и всех благосклонных к нему. Некоторые из подвластных вождей отдаленных мест не обращали уже внимания на его приказы и поступали как им заблагорассудится. Группа молодых бароце покинула его и переселилась на север под покровительство другого вождя. То могучее царство, которое создал храбрый и мудрый Себитуане, оказалось под угрозой распада. Секелету, конечно, отнюдь не глуп, но он так и не постиг мудрости той политики, которой руководствовался его отец. Себитуане обращался с покоренными им племенами не хуже, чем с макололо: все подданные считались «детьми» вождя и для всех них был одинаково открыт доступ к высокому сану. Секелету же на все важнейшие посты назначал только «истинных» макололо и выбирал себе жен лишь в этом племени. Тем самым он утратил уважение и любовь тех племен, которых его отец сперва покорил и расположение которых он затем завоевал своей мудростью и справедливостью. Родная сестра Секелету, муж которой также был казнен по его приказу, говорила, что ее отец лично знал всех подвластных ему не только вождей или младших вождей, но и старейшин деревень. Ему было известно все, что происходило в его царстве, и во всех случаях он имел свое мнение и принимал необходимое решение. «Секелету же, по ее словам, не знает, чем заняты его подданные, а они в свою очередь не проявляют беспокойства и заботы о нем. Могущество макололо идет к упадку», — писал Ливингстон.
Четыре года спустя это предсказание оправдалось. Секелету умер в начале 1864 года, и вокруг его трона разгорелась борьба. Большая часть макололо, забрав все свои пожитки и скот, переселилась в район озера Нгами, и затем все они были уничтожены коварным Лечулатебе, который не доверял этим бездомным беглецам.
Царство макололо в среднем течении Замбези и на Чобе (Квандо) распалось. Покоренные ранее народы поднялись против своих угнетателей и перерезали всех мужчин макололо, которые [164] когда-то внушали им страх и почтение. Жены, пожитки и скот убитых достались победителям. Когда Ливингстон узнал об ужасной судьбе старых друзей, его охватило глубокое огорчение: «Ибо каковы бы ни были недостатки макололо, достоинства их несомненны; они не принадлежали к тем, кто был готов продавать в рабство другого, как те племена, которые стали их преемниками».
Местные эскулапы отказались лечить Секелету, и лишь одна пожилая знахарка, привезенная издалека, пыталась еще что-то сделать. Она никому не разрешала видеться с больным: в противном случае она не сможет, мол, вылечить его. И все же Секелету велел позвать к себе братьев Ливингстон и доктора Керка.
Опухшее лицо Секелету было обезображено струпьями. На пальцах рук выросли длинные ногти; у макололо это считается признаком высокого достоинства — показателем того, что их владелец избавлен от физического труда. Своим глубоким приятным голосом он просил Ливингстона дать нужное лекарство и оказать врачебную помощь. Его советники уговаривали знахарку на время прервать лечение, но Ливингстон настаивал на том, чтобы она оставалась около больного и получала положенную ей плату.
Лечение Секелету было довольно щекотливым делом для Ливингстона, так как ни он, ни доктор Кёрк не имели необходимого опыта, ни соответствующих лекарств для лечения проказы. Они пробовали лечить его ляписом. К счастью, это подействовало благотворно, настроение больного улучшилось.
Семь лет назад Ливингстон оставил свой фургон в Линьянти, где проживали жены Секелету. Теперь ему очень хотелось пополнить свою аптечку из того запаса лекарств, который оставался в фургоне. Секелету предоставил ему верховую лошадь и нескольких людей для сопровождения. Через три дня Ливингстон был уже в Линьянти. Его фургон был почти в целости и сохранности, так что он мог воспользоваться им для ночлега; только верх фургона довольно обветшал, а одно колесо было изрядно объедено термитами. Наиболее ценное содержимое фургона — ящики с медикаментами, «волшебный фонарь», инструменты, книги и записи Секелету передал своим женам на хранение. Все это оказалось нетронутым. Ливингстону не пришлось просить жен Секелету, они сами взялись варить и печь для него. Они мягко его упрекали, что он не привез с собой Ma-Роберт — свою жену, любили повторять многое из того, что она говорила о своих детях, и спрашивали: «Узнаем ли мы о них что-нибудь еще, кроме их имен?»
Описывая это путешествие, Ливингстон в большинстве случаев говорит о себе в третьем лице. Рассказывая о сердечном приеме в Линьянти, он добавлял: «Этими мелочами выражается чувство [165] благодарности за то полное и неизменное дружелюбие, которым во многих случаях пользовался доктор в течение многих лет. Но нельзя думать, что доверие, о котором свидетельствует это дружественное отношение, будет оказано при первой же встрече любому новичку. Не следует забывать, что только постоянной добротой можно добиться влияния на язычников; проявление приличия среди «варваров» так же необходимо, как и среди белых». «Наше прибытие в Сешеке нарушило монотонность их повседневной жизни; у нас постоянно были гости, как мужчины, так и женщины, особенно во время обеда, ибо тогда они получали большое удовольствие понаблюдать, как едят европейцы, и иметь возможность принять участие в трапезе вместе с ними». Когда европейцы едят сливочное масло с хлебом, это особенно удивляет женщин: «Смотри-ка, они едят сырое масло!» Иногда какая-нибудь добродушная хозяйка проявляла сострадание к плохо воспитанным европейцам: «Дайте-ка сюда масло, я растоплю его вам, тогда вы сможете макать в него хлеб, как это принято!» Масло макололо применяют для смазывания тела, что делает кожу гладкой и блестящей; ну а уж если они едят масло, то только в вареной пище или в растопленном виде.
Когда Ливингстон и его спутники покидали Сешеке, состояние Секелету значительно улучшилось. Однако вождь отказался нарушить уединение и появиться открыто, пока не излечится полностью и не примет нормальный вид. Он опасался также, что его тайные враги снова могут наслать на него болезнь и добиться, чтобы лечение белого доктора оказалось безуспешным.
Ливингстон не мог больше оставаться в Сешеке: в ноябре ожидалось прибытие на Конгоне нового парохода. 17 сентября 1860 года он вместе с европейскими спутниками и почетным эскортом макололо покинул город Сешеке. Для питания в пути Секелету выделил им шесть волов. Их пригнали к берегам Замбези, в то время как путешественники десять дней плыли в челноках к водопаду Виктория и, как прежде, пошли в обход его.
Пороги Кебрабаса попытались преодолеть на лодках, и первые несколько миль все шло благополучно. Но когда путники добрались до теснины, то обнаружили, что с понижением уровня воды в последние месяцы многие ранее скрытые скалы и пороги в русле реки выступили над водой. Перед отвесным утесом, торчащим посреди русла, поток разделялся и образовывал мощный водоворот, глубокую воронку, которая то открывалась, то [166] закрывалась. Двум челнокам удалось проскользнуть над опасным местом, но на пути третьего, в котором находился доктор Кёрк, воронка снова разверзлась. Гребцы напрягали все силы; казалось, еще мгновение — и лодка непременно будет затянута в бушующую пучину. Однако водоворот выбросил ее на каменный выступ. Доктору Кёрку удалось уцепиться за край скалы и подтянуться вверх. Его рулевой крепко схватился за край скалы и сумел удержать лодку. Но все содержимое вылетело за борт и было унесено потоком. К сожалению, при этом пропали очень важные вещи: хронометр, барометр, но невосполнимой потерей были дневники доктора Кёрка и его ботанические зарисовки.
После этого печального случая путешественники продолжали свой путь пешком — как говорят, вы закрываете конюшни, когда у вас украли лошадь. Теперь уже было бесполезно терзаться тем, что не было сделано раньше. Страх перед опасной поездкой по реке приводил макололо в трепет. Они предпочитали тащить на себе все грузы, чем отдать себя во власть коварных порогов. Но уже к вечеру их настроение изменилось. Испытав пышущие жаром скалы и раскаленный песок под ногами, они утратили страх перед рекой. Теперь участники экспедиции уже жалели, что бросили лодки: на опасных местах их можно было бы тащить в обход, а затем снова идти водным путем.
На пути к Тете путники встретили две большие партии рабов, направлявшихся в Зумбо. Тут были одни женщины из племени маньянджа. Торговцы намеревались обменять их на слоновую кость.
После шестимесячного отсутствия Ливингстон вернулся в Тете. Отсюда он намеревался вторично плыть на «Ma-Роберт» к устью Конгоне.
Два матроса, оставленные для охраны парохода, полгода «штопали» его, как могли, замазывали бесчисленные мелкие дыры. Но как только началось плавание, судно снова дало течь; каждый день появлялись новые и новые щели. Команда беспрерывно откачивала воду, работали все насосы, но вода в трюмах прибывала. Наконец пароход прочно сел на песчаную отмель и начал быстро заполняться водой. В спешке пришлось все, что можно еще спасти, перетаскивать на остров. Следующей ночью начался подъем воды в реке, а наутро над водой торчали лишь мачты «Ма-Роберт».
Итак, рождество 1860 года участникам экспедиции пришлось провести на острове. Тем временем люди были посланы в Сену, чтобы пригнать лодки. И лишь 27 декабря вся экспедиция прибыла в Сену, а неделю спустя — к устью Конгоне. Теперь там уже была создана португальская таможня, а рядом стояла хижина для [167] четырех солдат-африканцев. С разрешения унтер-офицера, под начальством которого находились солдаты, братья Ливингстон и доктор Кёрк расположились в помещении таможни в ожидании нового судна, которое должно было прибыть из Англии.
Наконец-то у них было время почитать английские газеты и журналы полугодовой давности, переданные им в Тете. Кроме того, неутомимые исследователи занялись изучением животных и растений. Однако с нетерпением ждали они прибытия судна, ибо оставаться здесь было небезопасно: из мангровых болот поднимались целые тучи москитов, повсюду свирепствовала лихорадка, от которой страдали даже проводники, жители болотистой местности.
В последний день января пришло наконец долгожданное экспедиционное судно с многообещающим названием «Пионер».
Одновременно с «Пионером» на двух английских крейсерах прибыла группа миссионеров, руководимая епископом Макензи. Эта христианская миссия, сформированная в Оксфордском и Кембриджском университетах, намеревалась обосноваться среди племен, проживавших по берегам реки Шире и озера Ньяса. Кроме самого епископа в нее входили еще пятеро англичан и четверо африканцев из Капской области. Епископ производил впечатление энергичного человека; он решил сразу же отправиться на «Пионере» вверх по реке Шире, чтобы не задерживаясь приступить к делу. Однако получилось иначе. Во-первых, португальские власти не разрешали тогда судам других государств плавать по Замбези, поэтому «Пионер» получил указание исследовать Рувуму, впадающую в Индийский океан немного севернее, у мыса Делгаду. Во-вторых, это было начало самого неблагоприятного для здоровья сезона. А низовья реки Шире — нездоровая местность. Не имея ни опыта лечения лихорадки, ни соответствующих лекарств, при неблагоприятных обстоятельствах миссия вынуждена была бы вернуться на побережье. У Ливингстона еще свежа была в памяти несчастная судьба тех миссионеров, которые когда-то отправились из Курумана в Линьянти к макололо и там погибли от лихорадки. Епископ Макензи вынужден был согласиться временно отправить своих миссионеров на остров Джоханна (Анжуан) в группе Коморских островов и передать их там на попечение британского консула. Сам же он на некоторое время присоединился к экспедиции Ливингстона, чтобы присмотреть подходящее место для миссионерской станции в верхнем течении реки Рувумы. [168]
Пока университетская миссия переправлялась на английском военном судне на остров Джоханна, Ливингстон на своем «Пионере» добрался до устья Рувумы, погрузил там дрова и стал ждать возвращения епископа, который прибыл только через двенадцать дней.
11 марта 1861 года «Пионер» отправился в плавание вверх по реке Рувуме, хотя начинать такое путешествие было уже поздно. Благоприятное время для плавания, когда уровень воды в здешних реках достаточно высокий, было упущено. «Пионер» прибыл в Африку с двухмесячным опозданием. Даже пока Ливингстон ожидал епископа в устье Рувумы, уровень воды упал на четыре-пять футов. Осадка «Пионера» составляла как-никак пять футов, да и Рувума была менее полноводной, чем Замбези, поэтому приходилось считать каждый дюйм. Местами вода под килем едва достигала ширины ладони. К тому же вода продолжала падать, подъема ее в это время года ожидать не приходилось. Так создавалась опасность, что судно все же сядет где-нибудь на мель и сможет всплыть только в следующий сезон дождей. При таких обстоятельствах Ливингстон не отваживался двигаться вверх. Если бы он был один со своей экспедицией, то оставил бы здесь судно и пробирался бы вверх по течению в шлюпках или пешком, чтобы исследовать верхний участок реки или ее истоки, — предполагалось, что Рувума вытекает из озера Ньяса. Но Ливингстон не хотел оставлять неопытных миссионеров одних, хотя в отношении их не имел каких-либо юридических обязательств. И он решил взять их с острова Джоханна, доставить к месту назначения и потом уже исследовать реку Рувума с ее верховьев.
Так как судовая команда страдала от лихорадки, Ливингстон сам становится на капитанский мостик и держит курс от устья Рувумы на остров Джоханна. Это удалось ему довольно легко. «На море никто за тобой не следит, чтобы обнаружить твои ошибки, — замечает он с суховатым шотландским юмором. — И уж если судно не врежется прямо в берег, то все другие промахи можно списать за счет не изученных еще морских течений».
Взяв на борт миссионеров, «Пионер» через неделю прибыл к устью Конгоне. Плавание вверх по рекам — из Конгоне в Замбези, а оттуда в Шире прошло без всяких приключений.
«Пионер» оказался прочно слаженным судном, хотя к плаванию по рекам он не приспособлен: велика осадка. Слишком много драгоценного времени приходилось тратить, чтобы стащить его с песчаных отмелей, на которые он частенько садился. Один раз провозились целых две недели: сдвинуть судно с мелководья удалось лишь тогда, когда под килем оказалась пара дюймов воды. [169]
Епископ Макензи и миссионеры Скъюдамор и Хорэс Уоллер усердно трудились, когда приходилось волочить судно через мелководье. Ливингстон только вздыхал о вынужденной потере времени: будь осадка судна на два фута меньше, можно было бы без труда плавать тут вверх и вниз по реке в любое время года! Вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам «Пионер» сумел добраться до деревни вождя Чибисы, лежащей примерно на полпути между устьем Шире и ее выходом из озера Ньяса. Здесь англичанам удалось войти в доверие местного населения. «Если университетская христианская миссия будет иметь хоть какой-то успех, для маньянджа на Шире откроется новая эпоха: торговля с Англией и принятие христианства означали бы для них начало эры цивилизации» — так по крайней мере думает Ливингстон. Про англичанина когда-то говорили, что он произносит слово «бог», а имеет в виду «хлопок», но, разумеется, к Ливингстону это не относится. Он искренне говорил и о том и о другом: о боге и ситце, религии и торговле.
Прибыв в деревню вождя Чибисы, Ливингстон узнал, что в стране маньянджа идет война. Чибиса в то время находился в одной из отдаленных деревень, и Ливингстону не удалось с ним встретиться. Однако его заместитель разрешил англичанам вербовать людей для переноса багажа университетской миссии на соседнее нагорье, где по совету Ливингстона епископ Макензи намеревался обосноваться. Экспедиция и миссионерская группа отправились в путь.
На следующий день путешественники узнали, что через деревню, в которой они остановились для отдыха, должен пройти караван рабов, направлявшийся в Тете. Перед Ливингстоном встал вопрос: следует ли ввязываться? Для участников экспедиции проще и удобнее было бы беспрепятственно пропустить караван; можно было даже сделать вид, что им ничего не известно. Однако такое поведение лишь ободрило бы работорговцев, для которых не осталось бы незамеченным присутствие иностранцев; кроме того, такой поступок они могли бы объяснить трусостью англичан. С одной стороны, вмешательство могло вызвать гнев португальских властей, которые являлись соучастниками работорговли. Португальцы могли, например, конфисковать хранившийся в Тете личный багаж англичан или уничтожить его. В Тете хранилось также кое-какое имущество экспедиции, собственность государства. Если бы виновником этих потерь оказался Ливингстон, то у него могли бы быть неприятности. С другой стороны, если бы охотники за невольниками и дальше следовали за экспедицией и выдавали себя [170] за «детей» (подданных. — Пер.) англичан, то все старания университетской христианской миссии и экспедиции Ливингстона были бы обречены на неудачу.
Ливингстон никогда не вмешивался во внутренние дела посещаемых им племен: по его мнению, ни один европеец не в состоянии столь глубоко вникнуть в сложившиеся отношения между племенами, чтобы с полным сознанием правоты и ответственности принять чью-либо сторону. Он высказывал свое мнение только тогда, когда был уверен, что будет добрым посредником в установлении мира между племенами. Но в данном случае Ливингстону было важно, чтобы местное население доверяло ему и миссионерам, и это был как раз случай высказать свое отношение к работорговле.
И Ливингстон решил вмешаться. Ничто уже не могло остановить его: ни возможное возмущение португальских и английских властей, ни их сожаления по поводу такого вмешательства. Ливингстон знал, что его поступок станет известен за сотни миль вокруг, а его деятельность — во всех отношениях — не окажется без последствий.
И вот наконец показался караван рабов — вытянутая цепь закованных мужчин, женщин и детей; огибая холм, он, извиваясь как змея, вползает в долину, где как раз расположена деревня. В середине и в конце каравана идут погонщики-африканцы, вооруженные мушкетами; впереди музыканты весело дуют в длинные оловянные трубы. И вдруг звуки музыки оборвались: погонщики увидели европейцев. В следующий момент погонщики метнулись в сторону от дороги, в кусты. На месте остался лишь предводитель. Макололо бросились на него, схватили. Оказалось, что это их старый знакомый — раб бывшего коменданта в Тете! Когда Ливингстон останавливался там, этот парень был приставлен к нему в качестве слуги. На вопрос, как он добыл своих пленников, тот ответил: купил. Однако сами невольники заявили, что были захвачены во время набега. Пока Ливингстон опрашивал рабов, предводитель сумел сбежать. Пленники опустились на колени и громко захлопали в ладоши — так они выражали свою благодарность.
Бывшие пленники захотели остаться с англичанами, которые сразу же принялись разрезать веревки, связывавшие женщин и детей. Труднее оказалось освободить мужчин. Шея каждого была втиснута в развилку толстого суковатого куска дерева длиною в шесть-семь футов. Перед горлом в качестве задвижки вставлен железный стержень, заклепанный с обеих сторон. К счастью, в поклаже епископа оказалась пила, и с ее помощью одного за другим освободили всех пленников. Ливингстон сказал женщинам, чтобы [171] они приготовили какую-нибудь еду для себя и своих детей. Те колебались, не осмеливались. Перемена в их судьбе произошла так внезапно! Но вскоре они бодро принялись за дело. Все путы рабов идут в огонь, над которым вскоре кипят котелки. Один юноша обратился к англичанам: «Нас заковали чужие люди и заставили голодать. Вы же разрезали эти путы и дали нам пищу. Скажите, что вы за люди? Откуда вы?»
Несколько дней назад надсмотрщики застрелили двух невольниц, пытавшихся освободиться: они хотели запугать других, чтобы те не вздумали бежать.
Было освобождено восемьдесят четыре человека, большинство из них женщины и дети. Какая судьба ждала их? Ливингстон предоставил недавним рабам возможность идти, куда они пожелают. Однако оставить их свободными, но беззащитными было бы опасно: недолго они наслаждались бы обретенной свободой. Епископ одобрил решение Ливингстона, а освобожденных принял в свою миссию, чтобы они постигли христианскую веру. Так была устранена основная трудность на пути миссии: обычно нужны годы, прежде чем местные жители окажут должное доверие чужеземцам.
На следующее утро все отправились дальше. Недавние пленники с радостью несли багаж миссии. В пути они задержали двух работорговцев и целую ночь не выпускали их, чтобы те не смогли предупредить других погонщиков. Работорговцы сообщили, что предводители других караванов были слугами губернатора. «Они предлагали проводить нас к личному агенту его превосходительства, но мы отказались от их услуг».
На следующий день отряд Ливингстона освободил еще партию из пятидесяти рабов. Все они были совершенно голыми, но у англичан было достаточно ситца, чтобы одеть их. Предводитель этих караванов, в котором Ливингстон признал одного из первых купцов Тете, поклялся, что все делалось с разрешения губернатора. «Разумеется, в этом мы уже были полностью убеждены и до его показаний. Совершенно немыслимо предпринимать что-либо без ведома и благословения губернатора», — писал Ливингстон.
Но оставался вопрос: как отнесутся португальские власти и купцы к такому вмешательству в их дела? Позже, когда экспедиция прибыла в Тете, Ливингстон ожидал, что пострадавшие по крайней мере словесно выразят свой гнев. Однако этого не последовало: никто не жаловался и не обвинял его. Возможно, что эти господа стыдились открыто признавать свое участие в торговле невольниками. Лишь один посмеиваясь заметил: «Вы отбираете у губернатора рабов, не правда ли?» Ливингстон не знал, принадлежали [172] ли эти пленники губернатору. Он мог лишь ответить: «Да, мы освободили немало партий, встретившихся нам в стране маньянджа».
Часть пленников обычно предназначалась для внутреннего рынка. Женщин отправляли в больших лодках вверх по Замбези и там меняли на слоновую кость. Мужчин и подростков использовали в качестве носильщиков при транспортировке слоновой кости из внутренних областей материка в Тете и на побережье океана. Там их временно занимали на полевых работах до отправки какого-либо судна, перевозившего невольников на острова, находящиеся во владении Франции.
Год спустя, когда доктор Кёрк и Чарлз Ливингстон побывали в Тете, чтобы забрать хранившееся там экспедиционное имущество, они Снова встретились с губернатором, рабам которого они помогли освободиться. Губернатор вопреки всем ожиданиям и на сей раз обошелся с ними дружелюбно. Лишь однажды намекнул на те события: от своего брата генерал-губернатора он получил, мол, сообщение, что вооруженная охрана невольничьих караванов, подвергшихся нападению, впредь вынуждена будет отвечать силой на силу. Иными словами, если англичане вновь попытаются освобождать попавших в неволю людей племени маньянджа, то им придется приготовиться к сражению. Этими словами губернатор Тете сам открыл истинное лицо высшего чиновника колонии Мозамбик, который на хорошем английском языке обычно заверял офицеров английского крейсера, что он охвачен глубоким желанием искоренить работорговлю.
Вождь, во владениях которого епископ облюбовал место для миссионерской станции, пригласил его обосноваться у себя в Магомеро. Столь неожиданная любезность обрадовала епископа, и он согласился. Разумеется, делая это предложение, вождь руководствовался отнюдь не сердечной добротой: он надеялся, что присутствие миссионеров спасет его народ от нападения ваяо. Ливингстон и Макензи намеревались пойти даже дальше: чтобы воспрепятствовать истреблению людей этой страны, они решили посетить вождя ваяо, чтобы уговорить его отказаться от охоты за невольниками и вместе со своим народом заняться мирным трудом.
Но однажды утром Ливингстону сообщили, что отряд ваяо только что сжег невдалеке деревню. Со своими спутниками и миссионерами он отправился туда, чтобы попытаться встретиться с воинами этого племени. Навстречу им, спасаясь бегством, торопились маньянджа, которым удалось сохранить лишь то, что можно было унести с собой. Европейцы проходили через опустевшие [173] деревни, от одной из которых остались лишь обуглившиеся столбы. Кругом валялось рассыпанное зерно: ни грабители, ни пострадавшие не смогли взять его с собой. Впереди был виден дым горящих хижин и слышны ликующие крики радости грабителей, перемежающиеся с воплями несчастных женщин.
Наконец показалась деревня ваяо, куда только что с длинной колонной пленников вернулись «победители». Женщины радостно приветствовали своих «героев». Заметив приближение чужеземцев, вождь быстро поднялся на термитник, чтобы разглядеть, много ли их. Ливингстон сказал вождю, что хотел бы поговорить с ним. Но пришедшие вслед за англичанами маньянджа, чувствуя себя в безопасности в присутствии европейцев, начали угрожать вождю. Это привело к тому, что ваяо с криками «Война! Война!» бросились бежать в деревню. Воспользовавшись замешательством, их пленники разбежались. Вскоре из деревни выбежали воины; они окружили англичан, прячась за выступы скал и в высокой траве. Напрасно взывал к ним Ливингстон, убеждая их в том, что не собирается воевать. В ответ полетели отравленные стрелы. Легкая победа над жителями многих деревень маньянджа и сознание того, что перед ними жалкая кучка противников, воодушевили их.
Тем временем англичане отошли на возвышенность, чтобы улучшить свои позиции. Этот их отход ваяо, однако, оценили как начало бегства и устремились вслед за англичанами; осмелев, они начали подступать все ближе. Некоторые из них были вооружены мушкетами. Вскоре раздались и выстрелы. Англичане вынуждены были открыть огонь. Увидев вспышки выстрелов и услышав свист пуль, нападающие были ошеломлены и тут же бежали. «Но, остановившись на холме, они подбадривали себя задорными выкриками, что будут преследовать и уничтожать нас». Голодные, усталые, недовольные, возвращались англичане в деревню маньянджа.
Ливингстон был очень огорчен. Ни себя, ни своих спутников он не мог упрекнуть в чем-либо: все они вынуждены были действовать так ради самообороны. Впервые ему не удалось избежать стычки. Он не раз попадал в ситуацию, когда схватка казалась неизбежной, и тем не менее всякий раз ему удавалось уладить дело. «Если бы мы правильно оценили влияние работорговли на этих кровожадных грабителей, то, прежде чем приблизиться к ним, мы попытались бы сначала послать к ним своих посланников с подарками».
Находясь под впечатлением нападения, ставившего под угрозу жизнь его и его товарищей, Ливингстон искал причину прежде всего в самом себе. О, если бы только знали мы все последствия [174] работорговли!.. Но даже перенесенная опасность не могла изменить его убеждение в том, что только работорговля сделала ваяо такими!
На следующий день к епископу пришел пожилой вождь соседнего племени и пригласил поселиться у него, а не в Магомеро, надеясь тем самым обезопасить прежде всего себя от нападений. Больше того, он просил англичан для восстановления мира изгнать отсюда ваяо. Во время разговора прибежали два человека и задыхаясь сообщили, что ваяо совсем близко. Но Ливингстон разгадал хитрость, задуманную этим стариком, чтобы подкрепить свою просьбу. И прежде чем епископ, не знающий еще местного языка, смог вымолвить слово, Ливингстон отклонил как приглашение, так и просьбу старика: он и его соотечественники вступают, мол, в борьбу только в том случае, если подвергаются нападению; они пришли сюда, чтобы утвердить мир. Разгневанный вождь ушел, не добившись ничего.
Но епископ не согласился с решением Ливингстона. Он уже чувствовал себя пастырем племени маньянджа и поэтому, казалось ему, не вправе был изо дня в день безучастно смотреть, как охотники за невольниками угоняли доверившихся ему людей. Разве не прав этот старик вождь? Почему бы не изгнать отсюда ваяо, которые не желают идти на переговоры? Только так можно добиться мира. Он говорил искренне и проникновенно, от всей души. Но Ливингстон все это время молчал. Затем заговорил: «Португальские агенты из Тете открыто подстрекают ваяо к этому. Отсутствие единства между племенами дает возможность противнику разделаться с ними поодиночке. Однако, несмотря на это, следует попытаться уговорить ваяо отказаться от таких занятий. Они, правда, уже привыкли к роли поставщиков товара на рынок невольников в Келимане, поэтому, естественно, отговорить их будет нелегко».
«Как же я должен поступать, по вашему мнению, если маньянджа снова обратятся за помощью при нападении ваяо? — вопрошает епископ. — Разве не мой долг исполнить их просьбу?»
«Нет! — решительно возражает Ливингстон. — В таком случае мальянджа завалят вас такими просьбами. Поэтому лучше не вмешивайтесь во внутреннюю борьбу туземцев».
Племенам маньянджа Ливингстон советовал объединиться для борьбы с общим врагом, заявив, что англичане не станут вмешиваться в их войны.
К сожалению, епископ в дальнейшем не стал придерживаться совета Ливингстона, что привело к печальным последствиям для него и всей университетской миссии. [175]
Для миссионерской станции было облюбовано хорошее место — на возвышенности над речушкой Магомеро, со всех сторон укрытой высокими тенистыми деревьями. Погода в это время года здесь похожа на английское лето. Продуктов из окрестных мест поступало достаточно, и они были дешевы. Епископ и другие миссионеры немедля принялись за строительство; одновременно они учили язык маньянджа. Царила полная уверенность в успехе.
Ливингстон также надеялся, что миссионерская станция в Магомеро добьется успеха. Сам он со своими спутниками возвратился на «Пионер», готовясь к дальнейшему плаванию к озеру Ньяса.
Спустя несколько дней по возвращении на пароход братья Ливингстон, доктор Кёрк, один английский матрос и двадцать африканцев отправились к озеру Ньяса. Англичане и несколько африканцев плыли в шлюпке с четырьмя гребцами. Обходя пороги Мёрчисона, они тащили на себе шлюпку. А вдоль правого берега Шире, вверх по течению, двигался отряд макололо. На пути им то и дело попадались хижины, вытянувшиеся вдоль берега; в них обитали тысячи маньянджа, изгнанных воинами ваяо с противоположной стороны реки. Их продовольственные запасы захватили или сожгли охотники за невольниками, и все они были обречены на гибель от голода.
Через четыре недели после отплытия экспедиция вошла под парусом в озеро Ньяса. Лодка, подгоняемая свежим ветром, скользит по озеру, придерживаясь западного берега. Прибрежная местность кое-где заболочена. Многочисленные бухты с песчаными и галечными пляжами отделены одна от другой скалистыми высотами.
Берега густо заселены. На южной оконечности озера деревни вытянулись почти непрерывной цепью. У бухточек группами толпились люди, удивленно глядя на этот странный вид транспорта: они никогда еще не видели парусной лодки. Как только участники экспедиции сходили на берег, их окружали сотни африканцев и с изумлением рассматривали. Наиболее сложная ситуация возникала при приеме пищи: тогда вокруг обедавших теснились плотной стеной африканцы, следившие за каждым их движением. Но никто не смел переступить линию, прочерченную на песке англичанами вокруг себя для того, чтобы иметь возможность спокойно поесть: суеверный страх сдерживал любопытных от этого шага. «Дважды они все же отваживались поднимать краешки нашего паруса, [176] использовавшегося в качестве палатки, как это делают у нас на родине дети с занавесом на подмостках бродячего цирка. Они называли нас чиромбо — так же, как и употребляемых ими в пищу диких животных; но они не догадывались, что мы понимаем значение этого слова».
Поверхностный наблюдатель легко мог принять местных жителей за лентяев, ибо они целый день спали под тенистыми деревьями на берегу озера. Но это впечатление обманчиво. Во второй половине дня они начинали проверять рыболовные сети, чинить и прилаживать их, перетаскивать в лодки. Вечером отплывали к местам ловли, а ночью забрасывали свои сети в воды озера.
Охотники за невольниками сюда не проникали, и поэтому местные жители сохранили гостеприимство и щедрость. Когда кто-либо из путешественников подходил к возвратившимся с ловли рыбакам, чтобы взглянуть на улов, ему обязательно предлагали рыбу. Однажды экспедиция прибыла в маленькую деревушку на берегу озера. В это время к берегу подплыли рыбаки в двух челнах, они вытянули свои сети и подарили англичанам весь улов. В другом месте без всяких поводов их кормили и угощали пивом, приносили для них продукты.
Если на юго-западном берегу озера Ньяса царил мир и покой, то северные окрестности его то и дело подвергались набегам мазиту — одного из зулусских племен, обитающего на нагорье. Сожженные и разлагавшиеся трупы — таковы следы, оставленные грабителями. Макололо не хотели идти одни по берегу; они просили, чтобы с ними шел кто-нибудь из европейцев, так как здесь все еще рыскали мазиту. Поэтому Ливингстон покинул лодку и отправился с ними. Он намеревался поддерживать постоянную связь с лодкой, но это оказалось нелегко: кое-где мешали скалистые берега, и, обходя их, приходилось удаляться от берега; в результате по нескольку дней он не видел лодку.
Каждый день Ливингстон озабоченно смотрел, не покажется ли лодка. И лишь на четвертый день увидел ее, возвращавшуюся с севера: лодка продвигалась вдвое быстрее, чем Ливингстон со своей партией, поэтому ей пришлось возвращаться назад. Плывшие в ней пережили весьма опасное приключение: разбойничий флот из быстроходных челнов совершил нападение на них. И, лишь воспользовавшись благоприятным ветром, поставив парус, они сумели избежать столкновения.
При каждом удобном случае Ливингстон пытался узнать от местных людей что-либо о северном и восточном побережье озера Ньяса, но из этого ничего не получилось:
«Многие очень недоверчивы к чужеземцам и осторожны в [177] ответах, другие же, напротив, давая волю своей фантазии, рассказывали о разных чудесах, подобных сказочным историям путешественников старинных времен. Нередко бывало и так: они говорили то, что, по их мнению, спрашивающему хотелось бы услышать.
«Далеко ли до противоположного конца озера?» — спрашивали мы человека, встреченного нами на южном берегу озера. «До другого конца озера?» — восклицал он с искренним или же хорошо наигранным изумлением. «Кто же знает это?! Если кто отправится в путь ребенком, до другого конца озера дойдет уже седовласым старцем. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-либо пытался это сделать». О Рувуме нам здесь сказали, что эта река вытекает из озера; еще на юге озера заверили нас, что из Ньясы на лодке можно проплыть прямо в Рувуму. Однако когда мы оказались севернее, сведения были прямо противоположными: одни утверждали, что Рувума берет свое начало вблизи озера, но не связана с ним; другие с той же определенностью заверяли, что она далеко от Ньясы, в нескольких днях пути».
Исследовать истоки Рувумы Ливингстону так и не удалось: для этого надо было пересечь озеро с запада на восток, но он не мог отважиться на это в легкой шлюпке из-за частых и внезапных штормов. Однажды им все же пришлось попасть в такой шторм. Они выбросили якорь и стойко держались шесть часов среди бушующих волн. Если бы они только попытались высадиться на берег, то шлюпку неизбежно разбило бы в щепки бушующим прибоем. Шедший вдоль берега отряд Ливингстона и прибежавшие сюда жители ближайшей деревни взобрались на высокий прибрежный утес и, полные страха, смотрели, как бушующие волны едва не поглотили шлюпку.
Исследование озера Ньяса в этот раз продолжалось восемь недель — со 2 сентября по 27 октября 1861 года. Экспедиция выполнила свою задачу, насколько можно было это сделать с ломощью лодки, и Ливингстон снова возвратился на «Пионер».
Неделю спустя после возвращения Ливингстона на судно его навестил епископ Макензи, прибывший из Магомеро. Будущее миссионерской станции рисовалось ему в радужном свете. Пока Ливингстон исследовал озеро, здесь произошло важное событие: ваяо потерпели поражение и были изгнаны; теперь они уже выражали желание жить в мире с англичанами. В окрестностях Магомеро под покровительством миссии поселились многие маньянджа. Макензи верил, что на этом нагорье работорговле скоро [178] придет конец и в недалеком будущем миссионерская станция сможет обеспечивать себя продовольствием: его люди усердно взялись за возделывание полей и разбивку садов. В январе, примерно через два месяца, из Англии должны были приехать сестра епископа и жена миссионера Бэррупа. Побеседовав, епископ Макензи простился с Ливингстоном и ушел в хорошем настроении, но Ливингстону больше не пришлось его увидеть.
Экспедиция вскоре отправилась на «Пионере» вниз по реке Шире, а затем по Замбези, но на сей раз добралась до побережья по другому рукаву Замбези, где дрова для парохода было легче добывать, чем на Конгоне.
30 января из Англии прибыл ожидавшийся пароход «Горгона». Он привел на буксире бриг, на борту которого оказались не только сестра епископа и жена Бэррупа, но и Мэри Ливингстон, решившая сопровождать своего мужа в будущей экспедиции.
Бриг доставил части и детали изготовленного по желанию Ливингстона разборного металлического парохода. Он был предназначен для плавания по озеру Ньяса. Для покупки парохода Ливингстон ассигновал две тысячи фунтов. Однако фактические расходы на его приобретение достигали свыше шести тысяч фунтов, что поглотило большую часть гонорара, полученного им за книгу о путешествиях. Этот пароходишко получил название «Леди Ньяса». На «Пионер» погрузили столько, сколько он мог принять за один раз; остальные детали парохода уложили в две шлюпки с «Горгоны». Затем три до отказа нагруженных транспорта поплыли вверх по Замбези.
Новый год начался для Ливингстона хорошо: его жена снова вместе с ним; прибыл ожидавшийся пароход, предназначенный для изучения озера Ньяса. Его радовало также, что в Магомеро все шло благополучно. Ничто, казалось, не предвещало, что 1862 год станет черным годом для него и для университетской миссии.
Вверх по реке они двигались очень медленно: на Замбези был паводок, вызвавший очень мощный встречный поток, да и машины «Пионера» давно нуждались в осмотре и кое-каком ремонте. Ливингстон решил сделать остановку около Шупанги — как раз на полпути между дельтой и Сеной, — чтобы выгрузить детали судна «Леди Ньяса», собрать его и буксировать до порогов Мёрчисона на реке Шире. Это, естественно, сильно задержало экспедицию, и для преодоления пути, который она первоначально надеялась пройти за шесть дней, потребовалось теперь целых шесть месяцев.
За несколько дней до прибытия «Пионера» в Шупангу капитан Уилсон и доктор Керк выехали вперед на двух судовых шлюпках, чтобы доставить барышню Макензи и госпожу Бэрруп в Магомеро: [179] им незачем было долго оставаться здесь, ибо на миссионерской станции, конечно, их ждали.
В Шупанге «Пионер» причалил к берегу. Ливингстон и его жена остановились в доме, где находилась штаб-квартира португальского губернатора во время похода против Марианну. Не теряя времени, экспедиция приступила к сборке парохода «Леди Ньяса».
Прошло лишь несколько недель, а обе судовые шлюпки с капитаном Уилсоном и доктором Кёрком неожиданно вернулись. С ними были и обе дамы. Они не доехали до Магомеро, так как уже в деревне вождя Чибисы в верхнем течении Шире узнали, что епископа Макензи и миссионера Бэррупа нет в живых.
Их неосмотрительность обернулась трагедией. В ожидании прибытия дам оба миссионера отправились им навстречу. Их не остановили ни сильные дожди, ни могучий паводок на реке Шире. Оба они вскоре заболели, так как постоянно были мокрые, но продолжали свой путь. Маньянджа из-за сильного течения отказались везти их в лодках. Тогда вызвались три макололо, и все сели в одну лодку. Вечером они решили устроить стоянку на берегу реки, но москиты их так донимали, что пришлось вернуться в лодку и плыть дальше. В темноте лодка попала в водоворот и перевернулась. Люди, правда, остались живы и даже лодку сумели спасти, но все вещи — одежда, продовольствие, медикаменты — пропали. Насквозь промокшие, усталые, искусанные москитами, путники всю ночь провели в лодке, вытянутой на берег. Утром они продолжили путь, и в тот же день епископа свалил тяжелый приступ лихорадки. Больного пришлось перенести в ближайшую деревню, находившуюся под властью недружелюбного вождя. Там епископа положили в хижину на циновку, где он пролежал три недели без всякого присмотра, без лечения, почти без пищи и умер. Бэрруп, у которого началась дизентерия, тоже едва держался на ногах; предчувствуя кончину, он велел похоронить его на берегу Шире. Тогда макололо решили везти миссионера в лодке обратно в Магомеро. Когда лодка прибыла туда, ослабевший Бэрруп совсем не мог идти — макололо сделали носилки из веток и принесли его в Магомеро. Там он вскоре и умер.
Спустя несколько дней после возвращения капитана Уилсона, доктора Кёрка и обеих дам приплыли на лодках из Магомеро миссионер Уоллер и еще несколько участников миссии. Дела там шли все хуже и хуже, наступил голод; от нехватки пищи страдали как миссионеры, так и жители окрестных деревень. Миссионеры, в том числе и покойный епископ, были также повинны в случившемся. Вопреки совету Ливингстона не вмешиваться в споры между африканцами они вступили в борьбу с ваяо, охотившимися за [180] невольниками, сожгли одну деревню и даже забрали у них овец и коз. Ваяо же, поддержанные португальцами, поставлявшими им боеприпасы и ситец, в отместку уничтожили весь довольно богатый урожай маньянджа. Затем в довершение всех бед наступила засуха. Ища спасения от голода, Уоллер раздобыл взаимообразно несколько лодок и отправился вниз по реке, чтобы достать там продукты.
Позже Ливингстону стало известно, что Уоллер достал продовольствие и повез его вверх по Замбези и Шире, но, не доходя до порогов Мёрчисона, узнал, что его коллеги сбежали из Магоме-ро и отправились вниз по реке Шире. Во время перехода по жаркой низменности умерли еще два миссионера.
Ливингстон не мог оставить Шупангу, пока «Пионер» не доставил остальные детали «Леди Ньяса». Но ему очень хотелось как можно скорее покинуть эту вредную для здоровья местность, где непрерывно свирепствовала лихорадка. В середине апреля заболела лихорадкой и госпожа Ливингстон. Несмотря на лечение и заботливый уход, здоровье ее быстро ухудшалось. Хинин вызывал у нее лишь рвоту и оказался бесполезным. Больная лежала без сознания, и 27 апреля с заходом солнца Мэри Ливингстон навсегда покинула мужа и своих детей.
Перенеся тяжелый удар, самый тяжелый в его жизни, Ливингстон продолжал работу в Шупанге. В июне «Пионер» доставил последнюю партию деталей судна «Леди Ньяса». После этого члены экспедиции приступили к выравниванию берега Замбези для спуска судна, рубили и обтесывали стволы пальм для стапелей, и 23 июня состоялся наконец спуск на воду «Леди Ньяса». Но пока грузили экспедиционное имущество, наступило сухое время года, и уровень воды в Замбези и Шире настолько упал, что нельзя уже было буксировать новое судно до самых порогов Мёрчисона, как предполагалось. К тому же португальцы стали требовать пошлину за проезд по Замбези.
Встретившись с таким препятствием, Ливингстон решил направиться на «Пионере» к реке Рувума, на которую у португальцев не было претензий. Но прежде надо было починить машины и руль «Пионера», и поэтому к устью Конгоне удалось отплыть только в начале сентября.
Непредвиденные дефекты судна, постоянно менявшийся уровень воды, быстрины и мелководье реки — все это привело к задержке экспедиции на многие месяцы. Пересекая несколько лет назад весь материк, Ливингстон собрал гораздо больше сведений, чем сейчас, хотя на этот раз в его распоряжении было намного больше денег и транспортных средств, чем тогда. Но, имея все это, он оказался в большой зависимости от многих внешних факторов, [181] на которые при всей своей энергии и решительности он не мог оказать какое-либо влияние.
На «Пионере», имевшем слишком глубокую осадку, Ливингстон продвинулся еще меньше, чем два года назад. Правда, он предвидел это и решил плыть вверх по реке на двух судовых шлюпках. Но и это оказалось нелегко: при столь низкой воде река изобиловала песчаными отмелями. К тому же во многих местах образовались запруды из деревьев, принесенных в половодье.
Но Ливингстону не терпелось решить вопрос, соединяется ли Рувума в своем верхнем течении с озером Ньяса или нет, и если да, то можно ли использовать ее для прохода судов от океана до озера хотя бы на короткий период, во время высокой воды. Если это так, то тем самым для английских купцов и миссионеров был бы открыт доступ к озеру Ньяса, не контролируемый португальцами.
В первую неделю плавания почти никто не встретился путешественникам. Деревень здесь не было видно: они прятались в густых джунглях, что в какой-то мере спасало жителей от охотников за невольниками и грабителей. Да и в тех деревнях, где побывали путешественники в последующие недели, жители выглядели столь напуганными, что Ливингстону трудно было купить даже продукты, пока одна женщина не осмелилась продать им курицу. С ее легкой руки все стали предлагать кур, муку.
На левом берегу Рувумы, на плодородной равнине, стояли покинутые деревни. Обитатели же их ютились во временных хижинах на прибрежных низинах. Почти все свои пожитки и продовольственные запасы они оставили в деревнях: им было не до того, чтобы спасать вещи, хотя бы самим спастись. Невольничья дорога тянулась от озера Ньяса до гавани Килва, пересекая эту местность. В определенный сезон, когда по ней проходили работорговцы, опасно было оставаться в деревнях.
Однажды путешественники заметили, что за ними вдоль берега следует группа воинов, вооруженных луками и кремневыми ружьями. Они явно намеревались напасть на экспедицию, ибо на изгибе реки обогнали ее лодки. Вдруг над головами путешественников прожужжала стрела. Ливингстон приказал отойти как можно дальше от того берега, на котором находились воины, а одному из своих африканских спутников велел по мелководью выйти навстречу им и, как обычно, объяснить, что чужеземцы пришли сюда не ради войны, а лишь для того, чтобы исследовать реку и наладить торговлю хлопком и слоновой костью.
В то время как переводчик обращался к воинам, несколько их [182] прыгнули с берега в воду, направляясь к лодкам; на ходу они натягивали тетиву и целились в сидящих в лодке. Стоявшие на берегу также держали наготове кремневые ружья и стрелы. Заросли за их спиной образовали хорошее прикрытие: выстрелив, они одним прыжком могли оказаться в укрытии и, будучи невидимыми, вновь зарядить ружья или вытащить новую стрелу из колчана. Так как смелость нападающих всегда возрастает, если им покажется, что противник плохо вооружен, Ливингстон велел переводчику сказать им, что он и его спутники вооружены лучше и боеприпасов у них достаточно. «Но мы, — продолжал Ливингстон, — не хотим проливать кровь детей того же «великого отца», которому принадлежим и мы, и, если вы вынудите нас драться, то вся вина падет на вас». Такое увещевание не являлось чем-то необычным: вступая в войну друг с другом, африканские племена, как правило, прибегали к таким словам. После длительных переговоров предводитель и его воины сложили оружие и ждали прибытия посланника. пропуск?
Проплыв свыше полутораста миль, экспедиция встретила препятствие — каменистые пороги с узким проходом, через который можно было пройти только на пироге. До исходного пункта работорговцев на восточном берегу озера Ньяса оставалось еще около пятнадцати дней пути. На западе, в направлении озера, над равниной возвышалась голубая цепь гор. Совершенно не верилось, чтобы мелкая Рувума выше стала более удобной, чем здесь для прохода шлюпок или даже для пароходов. Местные жители предупреждали еще об одном трудном участке в верхнем ее течении, где, говорят, однажды разбилась лодка с рабами. Многие жители и здесь утверждали, что Рувума вытекает из озера Ньяса, правда, в своем истоке она, мол, очень узкая. И все же, несмотря на пороги Мёрчисона, добраться до озера, по-видимому, легче по реке Шире, чем по Рувуме.
Ливингстон все же был доволен достигнутыми результатами и решил возвратиться, сожалея, правда, что ему так и не удалось найти истоки Рувумы. После месячного плавания на «Пионере» он со своими спутниками возвратился в Шупангу.
В январе 1863 года Ливингстон отправился в путь к озеру Ньяса. А до этого он предпринял поездку на остров Джоханна и в Келимане. На Замбези, у Шупанги, его ожидала уже готовая «Леди Ньяса». «Пионер» взял ее на буксир и, пользуясь благоприятным уровнем воды, направился вверх по Замбези, а затем по Шире к порогам Мёрчисона. [183]
Перед первым порогом Мёрчисона судно вытащили на берег и разобрали на части. Ливингстон решил проложить дорогу длиной около сорока миль на участке, по которому намеревался перевезти судно в разобранном виде в обход порогов.
Когда участники экспедиции в первый раз тащили свое судно в обход порогов, жители толпами следовали за ними. Женщины предлагали купить муку, овощи, кур; молодые парни выполняли вспомогательные работы. Теперь в этой местности господствовала удручающая тишина. «Португальцы из Тете основательно поубавили наших помощников, нельзя было достать свежих продуктов, кроме дичи, даже для наших местных участников экспедиции продукты приходилось привозить с Замбези, за сто пятьдесят миль отсюда».
Скудное питание — соленое мясо без овощей, непривычные климатические условия, подавленное настроение способствовали заболеваниям. Доктор Кёрк и Чарлз Ливингстон так тяжело болели дизентерией, что руководитель экспедиции решил отправить их в Англию. Но и его самого дизентерия свалила на целый месяц. Когда он снова поднялся на ноги, то был таким худым, что напоминал скорее тень.
19 мая его брат и доктор Кёрк покинули экспедицию.
В начале июля, когда Ливингстон вернулся на «Пионер» из рекогносцировочного похода к верхним порогам, его ожидала депеша из Англии: на основе его отчетов британское правительство пришло к выводу о необходимости прекратить работу экспедиции и отозвать ее.
В его путевых записках нет ни слова разочарования или критики этой меры правительства, хотя она застигла его в такой момент, когда он решил нанести удар по работорговле. Он писал даже о «мудрости» правительственного решения, неизбежность которого подготовил своими отчетами. Решение правительства показалось ему обоснованным: впереди, между порогами Мёрчисона и озером Ньяса, неистовствовали ваяо; позади него Марианну сеял смерть и опустошение, а за спиной охотников за невольниками как зачинщики и подстрекатели стояли купцы, чиновники и офицеры, вплоть до самого губернатора. Пока сохранялись такие порядки, все попытки искоренить работорговлю в этой колонии и в прилегавших к ней местах были обречены на провал. И Ливингстон вынужден был признать это.
До декабря, когда должно было начаться половодье, плыть на «Пионере» к побережью было невозможно. К тому же нужно было время, чтобы вновь собрать «Леди Ньяса». До возвращения в его [184] распоряжении оставалось полгода. Стремясь лучше использовать это время, Ливингстон намеревался волочить лодку в обход порогов Мёрчисона, затем плыть вверх по реке Шире до озера, а дальше, используя парус, добраться до северной оконечности озера, но на этот раз вдоль его восточного берега. Четыре года назад он исследовал лишь западный берег и из-за опасных штормов не отважился перебраться к восточному. Теперь он планировал ответить на все еще не решенный вопрос об истоках Рувумы.
Ливингстон подобрал себе двадцать сопровождающих: макололо и пять выходцев с нижнего течения Замбези. К ним присоединилось еще несколько человек, приехавших с острова Джоханна; на них возлагалась забота о повозке с погруженной на нее лодкой. Достигнув конца проложенной дороги, эти островитяне отправились домой вместе с повозкой, а дальше подданные вождя Чибисы понесли лодку на плечах. Выше порогов макололо и замбезийцы спустили ее на воду и погнали навстречу течению.
У скалы, выступавшей среди реки, вода, с силой ударяясь о нее, образует водоворот; из осторожности макололо хотели вытащить лодку из воды и перенести ее в обход препятствия. Но замбезийцам очень хотелось показать, что они более искусны в этом деле. Трое из них прыгнули в лодку, а двое других, напрягаясь изо всех сил, тащили ее навстречу течению. Вдруг раздался крик ужаса: сильный поток вырвал бечеву из рук этих незадачливых бурлаков, и шлюпка мгновенно повернулась носом в противоположном направлении. Затем она опрокинулась, еще раза два перевернулась в водовороте и помчалась как стрела навстречу порогам. Трое сидевших в лодке бросились вплавь и тем спаслись. Ливингстон, макололо и замбезийцы кинулись было вдогонку за лодкой; они бежали, сколько хватило сил, но все было напрасно.
Пятеро виновных робко подступили к Ливингстону, склонившись, коснулись обеими руками его ступней — так принято у них просить прощения. От охватившего его волнения Ливингстон не мог вымолвить ни слова. Но когда он увидел их полные раскаяния глаза, ему казалось, что они походят на того «ребенка, который по собственной инициативе взялся принести папе чашку чая, но, уронив ее, со страху разревелся». Он выносит приговор: вернуться к судну и принести на себе продукты, ситец, бусы, а далее тащить столько груза, сколько они осилят, чтобы как-то искупить вину. «Ужасно досадно потерять припасы и лишиться средств передвижения, необходимых для исследования восточного и северного побережий озера. Однако огорчаться по этому поводу было бы все равно что плакать над пролитым молоком. Единственное, что нам оставалось, — это приналечь на собственные ноги». [185]
Лишившись лодки, Ливингстон вынужден был изменить свой план. Он отказался от намерения исследовать восточный берег озера Ньяса, надеясь сделать это в следующий раз. Вместо этого он направился на север вдоль западного берега озера — параллельно тому пути, который он проделал в лодке два года назад. Затем он намеревался направиться в глубь материка, чтобы разыскать там другое большое озеро. Оно якобы находилось западнее озера Ньяса, в глубине материка; там еще не бывали европейцы. Времени, казалось, для этого хватит, но в ожидании пятерых замбезийцев ему пришлось терять столь драгоценные для него дни.
Наконец они прибыли в сопровождении механика Рея и интенданта судна «Пионер» Байнеса. Рей принес приятные вести: сборка судна «Леди Ньяса» идет без задержки, работают он и три английских матроса. Ливингстон дал ему указание подготовить судно к плаванию, чтобы в октябре доставить его на побережье. Интенданта же, который в последнее время стал прихварывать, он взял с собой, надеясь, что перемена климата благоприятно скажется на его здоровье, а в походе у него будет заместитель. Помощниками носильщиков он пригласил бежавших из своих мест маньянджа.
И снова путь пролегал по обезлюдевшей местности; оставшиеся в живых влачили жалкое существование. Ливингстон удивлен: так густо прежде была заселена эта местность, и не только вблизи реки, но и вдали от нее, и с каким радением обрабатывались здесь поля. Теперь же деревни опустели, в запущенных садах паслись слоны и буйволы. Иногда попадались деревни, сумевшие создать надежную защиту от налетов ваяо. Неожиданное появление чужеземцев вызвало тревогу у здешних жителей: они сочли их за врагов. Позже Ливингстон предпринял некоторые меры: в каждой деревне он просил послать кого-нибудь в ближайшее попутное селение, чтобы заранее сообщить об их прибытии и рассказать жителям о пришельцах. Однако люди относились к чужестранцам недоверчиво.
Однажды Ливингстон со своими людьми прибыл в укрепленную деревню. Участок перед палисадом был очищен от деревьев и кустарников, чтобы нападавшие не имели укрытия. Из-за палисада доносилась барабанная дробь. Люди праздновали победу над мазиту, пытавшимися ворваться в деревню с целью грабежа. Защитить деревню жителям помогли кстати оказавшиеся здесь бродячие торговцы — бабиса, вооруженные мушкетами. Англичан, оказывается, они уже видели, видели их суда, кое-кто из них побывал даже в Келимане и на Мозамбике. «В то время как маньянджа рассматривали нас с благоговением, так как для них мы были людьми непохожими на всех тех, которых они до этого видели, [186] бабиса входили в наши хижины и садились с видом людей, которые привыкли к приличному обществу». Когда они собирались уезжать, Ливингстон обстоятельно расспросил их о неизвестной для него стране, лежащей к западу от озера Ньяса.
10 сентября он со своими спутниками достиг северного перевалочного пункта работорговцев на озере Ньяса. Он был расположен в бухте западного берега. Ливингстон встретил здесь Джуму бен-Саиди, одного из двух арабов, которые проживали тут постоянно, второй в это время находился в отъезде. После прибытия Ливингстона Джума в сопровождении пятидесяти своих подданных пришел приветствовать его и любезно предложил ему жилье в своей деревне.
Отсюда Ливингстон направился на запад, в глубь материка, по невольничьей дороге. Из огромного грабена, в котором находится озеро Ньяса, экспедиция поднялась на нагорье.
Жители деревень вблизи невольничьей дороги были сдержанны и осторожны. Хлопчатник они не возделывали. При их скромной потребности им хватало той ткани, которую они выменивали на продукты, правда отнюдь не дешево, у проходивших торговцев невольниками.
Когда заболевал кто-либо из африканских участников экспедиции, его груз брали на себя Ливингстон и интендант Байнес: здесь было трудно достать носильщиков. Местные жители отказывались: их земляки, отважившиеся идти с торговцами невольниками, не возвращались.
В подходящих случаях Ливингстон старался разузнать об этих еще не исследованных местах у всюду бывавших бабиса и арабов. Причем нередко они говорили о каком-то озере, называвшемся ими Бемба. Ливингстон со своей партией достиг истоков неведомой реки, которая якобы впадала как раз в это озеро. Но особенно насторожило его сообщение о том, что в озере Бемба берет начало большая река, называемая Луапула, которая затем поворачивает на запад и протекает через озеро Мверу, а дальше еще через одно — третье озеро. Там река сворачивает на север и соединяется с широкой рекой Луалаба. Дальнейший ее путь никто не ведает. Чтобы проверить эти сведения, Ливингстон «всерьез» утверждал, что все реки западного края текут, мол, в Замбези. А они, посмеиваясь, замечали: «Он считает, что и Луапула течет в Замбези! И надо же такое сказать!» Да, они уверены в своих знаниях.11)
«Нагорье, лежащее западнее озера Ньяса, несомненно, представляет собой крупный водораздел, — думал Ливингстон. — Оно постепенно понижается вовнутрь материка, и туда устремляется весь сток. Но вливаются ли эти воды в конце концов в Конго или [187] Нил — это пока никем не установлено. Ясно одно: кто смело пройдет вдоль этих рек, несущих свои воды на запад от водораздела, тот сможет дать ответ на вопрос об истоках Нила, а быть может, и Конго». Эта задача подогревала честолюбие исследователя. Но разумеется, главной его целью была борьба с работорговлей, ради которой он оставил там, в далекой Англии, своих детей. Новая цель увлекла первопроходца и давала ему глубокое моральное удовлетворение. Если ему удастся третий раз прибыть в Африку, эта цель действительно станет главной и оттеснит все другие.
Но пришло время, когда надо было подумать о возвращении, если он не желал проявить неповиновение министерству иностранных дел, приказавшему свернуть экспедицию и доставить судно «Пионер» к побережью океана. Приказание, собственно говоря, он должен был выполнить еще в апреле, но тогда помешал спад воды.
Местные жители заверяли его, что до озера Бемба осталось не больше десяти дней пути. Но они говорили и о том, что вот-вот наступит период дождей, когда реки выйдут из берегов и широко разольются, превратив всю местность в непроходимые топи. Если же он не сумеет вернуться вовремя, то застрянет на многие недели, а то и месяцы и тем самым упустит половодье на реке Шире, без чего «Пионер» вряд ли сможет добраться до побережья.
В депеше министерства иностранных дел указывалось также, что выплата содержания судовому экипажу «будет прекращена в любом случае с 31 декабря 1863 года», и люди знали об этом, так как португальцы доставили депешу в открытом виде. Если «Пионер» не воспользуется очередным половодьем, то следующего придется ждать целый год, до будущего декабря. В таком случае судовой экипаж потребовал бы от Ливингстона вознаграждения за этот период и к тому же по его вине возвратился бы домой на год позже. Макололо, во всяком случае, желали как можно скорее вернуться домой.
Ливингстон стоял перед очень трудной проблемой. Надо же! Будучи второй раз у самой цели, повернуть назад! «Достаточно было бы от четырех до шести недель для того, чтобы совершить большое дело для географии», — с глубоким сожалением писал он в путевых заметках. Однако он не мог взять на себя ответственность за несоблюдение приказа и в конце концов отправился в обратный путь по той же дороге. Но даже за столь короткое время здесь произошли трагические перемены. Многие деревни, которые путники видели оживленными, когда шли сюда, теперь опустели.
8 октября Ливингстон прибыл к озеру Ньяса. Далее он шел на юг вдоль побережья. Густые камыши по-прежнему были полны беженцев. Свирепствовал голод. Женщины и дети искали коренья: [188] никакой другой еды не было. Купить где-либо продукты тут и думать было нечего. Даже когда улов бывал удачным, рыбаки уступали рыбу лишь в обмен на другие продукты. Всюду встречались свежие могилы, а оставшиеся в живых выглядели как ходячие скелеты. Это зрелище ужасной нищеты, вызванной «бесчеловечным обращением одного с другим», а также невозможность облегчить страдания тысяч и тысяч людей удручающе действовали на Ливингстона.
11 ноября он со своими спутниками прибыл на «Пионер». К счастью, оказалось, что здесь все были здоровы. Даже интендант за время похода избавился от своих недугов.
Первые две недели после похода участники решили основательно отдохнуть, ведь они находились четверть года в условиях знойного климата, имели скудное питание и почти без отдыха проделали такой огромный путь, что на их теле, кажется, и жиринки не осталось.
Начались дожди, холмы и горы покрылись свежей зеленью. Но ожидаемое половодье так и не наступило. Шли неделя за неделей, а вода в Шире не прибывала. Наступил 1864 год, а Ливингстон со своей экспедицией так и не сдвинулся с места.
Если бы знать заранее! Он не прервал бы столь много обещавший прошлогодний поход, не отказался бы от попытки разведать новые крупные озера в Центральной Африке. Но Ливингстон не из тех, кто способен долго сожалеть! Больше всего он досадует на то, что прибывший в начале 1863 года преемник умершего епископа Макензи, не удосужившись даже как следует ознакомиться со страной и ее народом, расформировал миссионерскую станцию, переведенную до этого из Магомеро в долину реки Шире.
После двухмесячного ожидания 19 января река Шире наконец начала вздыматься, и на «Пионере» немедля подняли якорь. У деревни вождя Чибисы Ливингстон решил остановиться на короткое время, чтобы попрощаться с теми из своих спутников макололо, которые обосновались там. Он сделал остановку также и у миссионерской станции, хотя она уже была расформирована. Новый епископ уехал, не проявив никакой заботы о дальнейшей судьбе маньянджа, спасенных когда-то Ливингстоном и Макензи от рабства, как и о других жителях, искавших защиты у миссионерской станции. Взрослым, которые сами могли защищаться, миссионеры советовали оставаться на месте, создав самостоятельную общину. Но что станет с сиротами и беспомощными стариками, [189] которым Макензи подготовил жилище? Новый епископ покинул их на произвол судьбы. Оставшиеся упрекали Ливингстона. Тогда он поступил, как подсказывала ему совесть: всех сирот — детей до двенадцати лет — и стариков взял с собой на борт «Пионера». Участники университетской миссии также уехали вместе с ним.
От устья Замбези «Пионер» и прибывшая ранее «Леди Ньяса» были отбуксированы двумя британскими военными судами в гавань Мозамбик. В пути их настиг ураган, и «Леди Ньяса», на которой плыл Ливингстон, попала в тяжелое положение. Канат, тянувший «Леди Ньяса», намотался на ходовой винт буксировавшего ее «Ариэля», в результате чего застопорилась машина. И тут порывистый ветер внезапно повернул «Ариэля» и погнал прямо на «Леди Ньяса». Люди на борту этого судна уже думали, что настали их последние минуты: сейчас «Ариэль» врежется в них, но «Ариэль» только случайно пронесся мимо. «Леди Ньяса» прекрасно выдержала такой шторм, который разорвал два буксирных каната и раздробил в щепки бот на «Ариэле».
«Пионер» на буксире был доставлен затем из Мозамбика в Кейптаун. Он переправил туда миссионера Уоллера и детей-сирот, привезенных Ливингстоном с берегов Шире. А «Леди Ньяса» отправилась из Мозамбика на Занзибар.
Какова будет ее дальнейшая судьба? Может, судно продать? На Занзибаре нашлись и покупатели, но предлагаемая ими цена Ливингстону казалась низкой. В действительности же у него просто сердце не лежало к тому, чтобы расстаться со своим судном, на которое он возлагал так много надежд. И он нашел выход: доставить судно в Бомбей и оставить там, пока не появится возможность как-то использовать его, или в случае нужды продать.
Англичане, находившиеся на Занзибаре, предостерегали его от поездки в Бомбей. Они выражали сомнение, что ему удастся достигнуть Индии до наступления муссонов. Сейчас ветер дует от Африки, но в конце мая — начале июня он обычно меняет направление на обратное. Что тогда? Доктор Ливингстон в конце концов ведь не моряк. Кроме него на «Леди Ньяса» находились лишь три англичанина: один матрос, кочегар и плотник — и девять африканцев, которые, правда, знали уже матросскую службу, но никогда не плавали в открытом море.
Однако, если Ливингстон решился на что-либо, нелегко было отговорить его. В бункер погрузили четырнадцать тонн угля, и «Леди Ньяса» отправилась в путь. До десятого градуса северной широты Ливингстон, используя благоприятное течение, шел вдоль берегов, затем повернул в открытый океан.
В полосе штиля судно было захвачено обратным течением, так [190] что пришлось поднять пары: делали это, правда, экономно, ибо уголь мог пригодиться еще и на подходе к Индии. Много дней было потеряно из-за этого. Но приходилось выжидать, наблюдая за дельфинами, летающими рыбами и акулами, резвившимися вокруг судна. Неотвратимо приближался опасный период муссонов. В конце мая появились первые его вестники. «В середине дня на востоке и северо-востоке спустилось густое облако, подул яростный ветер и разорвал парус. Судно дало, как обычно, бортовой крен и чуть не опрокинулось. То и дело его швыряло из стороны в сторону. Так продолжалось полчаса, пока не началось нечто подобное дождю. В тот момент было страшно. Но затем наступило затишье и небо прояснилось». Не раз еще «Леди Ньяса» приходилось выдерживать свирепые порывы ветра, в клочья рвущие паруса, и пробиваться через могучие волны. «Подчас у нас возникали думы, что наш некролог будет звучать так: «Они покинули Занзибар 30 апреля 1864 года, и с тех пор о них не было никаких известий». Переход через океан занял отнюдь не восемнадцать дней, как рассчитывал Ливингстон, а в два с половиной раза больше — сорок пять дней; из них двадцать пять дней судно потеряло из-за штиля. Но вот наступил и долгожданный момент: судно приближалось к берегам Индии. Африканцы, не видя еще берегов, верили этому, поскольку так утверждал Ливингстон. Но радость прорвалась у них, только когда они воочию убедились в этом: мимо судна проплывали островки морской травы и змеи. Африканцы начали пританцовывать. Следующим утром Ливингстон воскликнул: «Видна земля!», и к полудню действительно впереди показался берег.
«Капитан» Ливингстон с честью выполнил свою роль: вскоре заметили плавучий маяк, а в тумане, окутывавшем берег, вырисовывался лес мачт в Бомбейской гавани. «Мы проплыли на паруснике две с половиной тысячи миль. Но суденышко наше столь маленькое, что его прибытия никто и не заметил».
В Бомбее Ливингстон мог бы удачно продать судно. «Но при одной мысли расстаться с ним во мне просыпался дух противоречия: нет, нельзя оставить восточное побережье Африки на произвол судьбы, отдать этих людей в руки работорговцев. И я решил, прежде чем выпустить судно из своих рук, побывать на родине и посоветоваться со своими друзьями».
Перед отъездом Ливингстон позаботился о судьбе остававшихся здесь семерых замбезийцев и двух ваяо, Чума и Викатани, входивших в судовую команду «Леди Ньяса», а затем вместе с тремя англичанами, своими спутниками, отправился в Англию и 20 июня 1864 года прибыл в Лондон.
 | Пройденное и новые планы |
В Лондоне Ливингстон остановился в одном из отелей. Сразу же по прибытии он нанес визит сэру Родерику и леди Мёрчисон. «Сэр Родерик, не дав как следует приготовиться, взял меня с собой на прием к леди Пальмерстон. Миледи была очень любезна — сама подала мне чай. Лорд Пальмерстон выглядит прекрасно. Дважды беседовал я с ним о работорговле».
Пальмерстону не стоило большого труда представить знаменитому путешественнику-исследователю колониальную политику Великобритании в выгодном свете.
Пальмерстон, в то время премьер-министр Великобритании, на словах выступал как защитник свободы других стран и народов, но на деле проводил экспансионистскую и агрессивную политику. При его правлении велась вторая опиумная война, было жестоко подавлено народное восстание в Индии в 1857—1859 гг. (так называемое сипайское), а в Юго-Восточной Африке были уничтожены племена коса, защищавшие свою независимость.
В последующие недели визиты, званые обеды, приемы сменяли друг друга. На раздумья у Ливингстона оставалось еще меньше времени, чем восемь лет назад, когда он в первый раз возвратился на родину. Его дневник пестрел самыми блистательными именами тогдашней Англии: «Беседовал с герцогом и герцогиней Сомерсет. В беседах все держались очень вежливо и предупредительно... Нанес визит в министерство иностранных дел... Купил себе парадный костюм в магазине Николя и обедал с лордом и леди Данмор... Оттуда на прием к герцогине Веллингтон. Великолепное общество... Леди очень красивы — на них были дорогие и редкие брильянты... Получил приглашение лорда-мэра отобедать с министрами ее величества... Посетил господина Гладстона;l) он был [192] очень приветлив... Обедал с лордом и леди Пальмерстон; там были леди Шафтсбери и леди Эшли, а также португальский министр... очень приятное общество...»
В августе 1864 года Ливингстон уехал на один из шотландских островов, известный своими базальтовыми колоннами, а затем на яхте друга отправился на соседний остров Алва — родину своих предков.
Еще будучи в Бомбее, Ливингстон получил приглашение от Уэбба, одного богатого знакомого, погостить у него в Ньюстедском аббатстве, если он попадет в Англию. С Уэббом он познакомился в Колобенге, когда тот охотился в Африке. Так как у Ливингстона не было своего дома в Англии и не было намерения обзаводиться им, он принял приглашение — тем более, что Уэбб теперь повторил его — и переехал туда со своей дочерью Эгнис. Здесь Ливингстон оставался до апреля 1865 года. «Роскошный старинный господский дом со многими весьма забавными вещицами внутри и великолепным ландшафтом в округе. Когда-то здесь жил лорд Байрон, и в его личных комнатах обстановка сохранилась такой, какой она была при нем».
Здесь Ливингстон, прежде чем отправиться в дальнейший путь, намеревался писать книгу о своей шестилетней экспедиции. Хотя Ливингстоцу было уже пятьдесят три года, ему была чужда сама мысль удалиться на покой. Ведь цель, которую он себе поставил, пока еще им не была достигнута.
Брат Ливингстона Чарлз предоставил ему свои записки, и на основе этих путевых дневников получился отчет о втором путешествии в Африку. Книга заканчивалась кратким резюме:
«Один из главных результатов — открытие гавани, которую можно было бы использовать для торговли, а также изучение Замбези в качестве возможного пути к глубинным нагорьям, которые со временем, весьма вероятно, станут важным районом предпринимательской деятельности европейцев».
Эти слова не могут не вызвать удивления: разве искоренение работорговли не было для Ливингстона прежде всего предпосылкой распространения цивилизации и христианства среди африканцев? А тут вдруг на первое место выступила подготовка условий для европейских колонистов в Африке! Но для Ливингстона тут не было противоречий, ибо поселение европейцев, как он себе это представлял, «будет рассматриваться туземцами как неоценимое благодеяние», хотя он должен был бы уже знать из наблюдений в Капской колонии, в бурских республиках, в Анголе и Мозамбике, что несут с собой эти колонии и колонисты для африканцев. [193] Это, полагал исследователь, всего лишь ошибочное отклонение в деятельности европейцев среди местного населения. Его соотечественники, англичане, не станут так плохо поступать — в этом он был уверен. «У меня горячее желание взяться за дело колонизации Африки добропорядочными бедняками; для этой цели я готов выделить две или три тысячи фунтов» — так гласила запись в его африканском дневнике.
На нагорьях Замбези и реки Шире, по мнению Ливингстона, надо поселить трудолюбивых, верующих крестьян и ремесленников: там много пустующих необрабатываемых плодородных земель. Поселенцы положат конец вечной племенной розни африканцев и принесут здешним народам желанный мир.
Удивительно, что этот острый наблюдатель, столь трезво вникавший во все стороны жизни бурских поселений и португальских колоний, так легко поддался заманчивой утопии. В сущности он остался тем же мечтателем, каким был в юношеские годы, когда в разговоре с отцом грезил, что настанет время и богатые не станут больше тратить деньги на предметы роскоши, а предпочтут отдать их на создание новых миссионерских станций. С тех пор прошло двадцать два года, и почти все эти годы он провел в саваннах, джунглях, вдали от родины и от своих соотечественников. Среди родных и близких Ливингстон появлялся лишь на короткое время как прославленный человек и желанный гость. И они всегда проявляли к нему исключительное внимание. Англичанам пришлось по сердцу то доброе впечатление о них и об Англии, которое сложилось у Ливингстона. Ведь он искренен и честен, когда говорит, что «Англия делает доброе дело своим проявлением человеколюбия, которое признают и одобрят будущие поколения». При этом он имел в виду те британские крейсеры у западных берегов Африки, которые мешали отправке невольников в Америку, а также университетскую миссию, таких охотников на зверей, как Осуэлл и Уэбб, своего тестя Моффата и епископа Макензи, миссионеров Уоллера, Стюарта и многих, многих других. В этом по-детски кротком, добром человеке англичане усматривали воплощение своего собственного лучшего Я. По сути дела, никто не пожелал бы занять его место, но иные чувствовали, что и им надо бы быть такими. При нем многие стремились показать себя ревностными сторонниками идеи братства людей и любви к ближнему и тем самым еще больше подкрепляли его иллюзию. Только это своеобразное взаимодействие может объяснить, с одной стороны, то уважение к Ливингстону и популярность, которой он пользовался в Англии, и с другой — его безграничную веру в благородство и доброту своих соотечественников. [194]
Ливингстон внес большой вклад в развитие географической науки. Так, его экспедицией были открыты озера Ширва и Ньяса, а также исследована Замбези от устья до водопада Виктория. Об этом он писал в своей книге.
Находясь в Англии в Ньюстедском аббатстве, он всей душой стремился в Африку, мысленно переносился в знойные долины, непроходимые леса, залитые солнечным светом саванны, к великим восточноафриканским озерам. Но его светлые мысли омрачали воспоминания о работорговле. «Красоты природы неотделимы там от человеческих страданий и забот». Правда, Ливингстон сознавал, что он не может многое сделать для искоренения работорговли. «Ведь наша экспедиция первая, которая познакомилась с рабовладением у самых его истоков и во всех его аспектах».
В последней главе своей книги Ливингстон снова вернулся к этому вопросу и кратко описал все виденные им способы охоты за невольниками. Работорговля вела к опустошению континента. Невольники, которые экспортировались в заморские страны или использовались внутри Африки, — лишь незначительная часть захваченных в рабство людей. Основная масса пленников погибала в процессе захвата и их транспортировки. Из каждых пяти захваченных или купленных невольников к заморским рабовладельцам попадало не более одного. К этим потерям при захватах и транспортировке внутри Африки или по морю добавлялось немало жертв среди родственников, убитых грабителями или позже умерших от голода. За три столетия торговли невольниками в Африке, по оценке Ливингстона, было захвачено в рабство примерно сто миллионов человек. Особый гнев у Ливингстона вызывали его духовные собратья — христиане, подвизавшиеся на этом грязном поприще. Среди них были не только португальцы, но и французы, восполнявшие недостаток рабочей силы в своих колониях так называемой «вербовкой добровольных переселенцев из Африки». Такую систему вербовки Ливингстон именовал не иначе как «жестокость работорговли, достойной лишь проклятия». Он видел таких закованных в цепи «добровольных переселенцев» из племени маньянджа в до отказа наполненных лодках, спускавшихся вниз по Замбези.
Ливингстон, по-видимому, не знал, что в южных морях его соотечественники также занимаются этой «достойной проклятия» торговлей под благовидным наименованием «free labour trade» (поставки свободной рабочей силы). Он и представления не имел о тех способах обеспечения дешевой рабочей силой, которые некогда применяли английские железнодорожные и горнорудные [195] компании в Южной Африке, и о там, как бесчеловечно обращались они с коренным населением.
Он искренне верил, что только неприкрытая работорговля «является неодолимым препятствием для духовного и экономического прогресса». «Искорените работорговлю — и путь к прогрессу будет открыт!» Снова и снова он обращается с этим призывом к своим соотечественникам. Британские политические деятели очень скоро поняли выгоду этого лозунга и начертали его на своем знамени, под которым они, применяя силу или хитрость, смотря по обстоятельствам, вели борьбу против колониальных народов, укрепляя свое господство в Африке. Тем самым старое примитивное рабовладение они заменяли «свободной» эксплуатацией.
Ливингстон никогда не одобрял политику эксплуатации африканских народов — тут он вне подозрений, — даже когда призывал англичан к поселению в Африке. Однако, не желая того, он непреднамеренно все же прокладывал путь британскому империализму в Восточной и Центральной Африке даже своими благородными поступками — его исследования и воспитание чувства безграничного доверия к европейцам у африканских народов занимали не последнее место.
Ливингстон знал и любил африканцев, нетерпимо относился к любому проявлению расового презрения и неуважения к этим народам. В заключительной главе второй книги о своих путешествиях и исследованиях он выступал также против всячески завуалированных попыток относиться к африканцам как к низшей расе. «Что касается места африканцев среди других народов мира, можно лишь указать: ничто виденное нами не может оправдать ту точку зрения, что они принадлежат к какому-то «особому виду людей», отличающемуся от цивилизованных народов. Африканец — такой же человек, обладающий всеми признаками, свойственными роду людскому... Физически он крепок почти так же, как и европеец, это удивительно выносливая раса. Ни болезни, ни алкоголь, оказавшие столь роковое влияние на североамериканских индейцев, на островитян южной части Тихого океана и на австралийцев, не смогут, по-видимому, одолеть африканцев. Природа одарила их большой физической силой, способностью выносить суровые лишения, жизнерадостностью, которая, как бы компенсируя многие трудности, помогает им в самых тяжелых условиях не терять присутствия духа».
Ливингстон не забывал упомянуть о чувстве гордости и свободолюбии африканцев и говорил, что в книгах европейских путешественников нередко дается искаженное представление о вождях африканских племен: «В результате длительного общения [196] с властителями африканских народов мы так и не смогли понять, зачем сенсационным писакам выставлять африканских вождей в смешном виде. Поскольку соприкосновение с цивилизацией ведет к порче нравов африканского населения, и прежде всего старост деревень, то якобы бессмысленнные зверства на западном побережье, описанные этими авторами, вероятно, представляют собой лишь реакцию на действия торговцев и работорговцев, с которыми многие из них имели дело». Дружелюбие, «деликатное, сердечное обращение с ними и достойное поведение» встретят почти всегда доброжелательность со стороны африканцев. Это — утверждение человека, прожившего много лет среди различных племен и народов Африки, человека, понимавшего их языки и говорившего на них. Оно основано на большом личном опыте.
Закончив книгу, Ливингстон решил, что задача, ради которой он задержался в Англии, выполнена. Для него стало совершенно ясно, что он снова отправится в Африку, чтобы довести до конца свои замыслы, если это будет ему суждено.
«Леди Ньяса» все еще ждала его в Бомбее. Он мог бы переправиться на этом судне в Африку и снова взяться за дело, которое вынужден был прервать из-за правительственного распоряжения. Но время не благоприятствовало переезду на Занзибар: муссон дул со стороны Африки в направлении Индии, а его судно не смогло бы одолеть встречные ветры. К тому же Ливингстона, видимо, отпугивало воспоминание о порогах и мелях восточноафриканеких рек. Во всяком случае он решил продать «Леди Ньяса» и дальнейшее путешествие продолжать в основном пешком. Тем самым Ливингстон отказался от широко задуманной им акции по искоренению работорговли в окрестностях озера Ньяса, ради чего он трудился с таким усердием.
Тому, что он вынужден был продать судно якобы из-за муссона, нельзя целиком поверить, хотя он сам указывал именно на эту причину. В действительности же для отказа от экспедиции на судне имелись и другие причины, притом не менее важные.
5 января 1865 года президент Географического общества Родерик Мёрчисон направил Ливингстону письмо, начинавшееся следующими словами: «Дорогой Ливингстон! Мне хотелось бы знать Ваши ближайшие планы, каковы Ваши намерения о дальнейших исследованиях в Африке». Но само письмо было заполнено описанием пожеланий и предложений прежде всего самого Мёрчисона. По его мнению, «огромный географический интерес представляло решение задачи о водоразделах Центральной Африки», а также ответ на вопрос об истоках Конго и Нила. Как раз эти же [197] вопросы возникли у Ливингстона во время его последнего путешествия на запад от озера Ньяса.
Открытие истоков Нила Джоном Спиком еще не получило тогда всеобщего признания..А сам Спик не мог уже защитить честь своего открытия и убедить тех, кто еще сомневался в этом, так как он погиб во время охоты в результате какого-то загадочного выстрела. Намеченная встреча его с Ливингстоном так и не состоялась. На собрании в Географическом обществе Ливингстон как-то слушал Ричарда Бертона. Но как человек тот был очень непривлекателен, поэтому у Ливингстона не возникло желания обратиться к нему. Спик установил, что Белый Нил вытекает из озера Виктория, и тем самым далеко продвинулся в решении давнишней загадки об его истоках. Но Бертон упорно утверждал, что Белый Нил вытекает из озера Танганьика.
В своем письме Мёрчисон ловко играл на честолюбии исследователя и бывшего миссионера: «Если Вы сможете проникнуть на запад и выйти там к противоположному берегу или достичь Белого Нила (!), Вы составите себе имя, с которым никто не сможет равняться, и при этом решите назревшие спорные проблемы». Итак, письмо Мёрчисона побудило Ливингстона еще раз попытаться пересечь Африку, теперь, правда, севернее и в противоположном направлении — с востока на запад, а намек президента Географического общества на славу, которую принесет установление истоков Белого Нила, был чрезвычайно привлекателен для исследователя.
Мёрчисон обещал Ливингстону полную поддержку, как Географического общества, так и свою личную, в этом исследовательском путешествии. Он, разумеется, желал, чтобы в это время Ливингстон «был свободен от всех других поручений, кроме географических». По его мнению, миссионерская деятельность Ливингстона мешала географическим исследованиям. Ливингстон, правда, уже давно был скорее исследователем, чем миссионером, но Мёрчисону он ответил: «Я не соглашусь путешествовать только как географ, скорее отправлюсь туда как миссионер, а попутно буду вести географические исследования, так как считаю своим долгом делать добро для африканцев: просвещать этот бедный народ или способствовать тому, чтобы его родине открылась законная торговля». Однако отказ Ливингстона посвятить себя лишь исследовательской работе привел к тому, что для предстоящей экспедиции Географическое общество выделило лишь пятьсот фунтов стерлингов — не столь уж щедрый дар. Тем самым эта экспедиция с самого начала приняла скромные размеры; Ливингстон, разумеется, не мог внести что-либо заметное и в дело борьбы с рабовладением. [198]
В письме к сыну Томасу от 24 сентября 1869 года он прямо писал: «Целью моего путешествия является открытие истоков Нила». Это полностью отвечало желаниям Мёрчисона.
Правительство, благожелательно относившееся к предыдущей его экспедиции, на этот раз не было столь щедрым — отпустило лишь пятьсот фунтов на пропитание. Таким образом, всего тысяча фунтов из общественных фондов — пятая часть того, что было предоставлено ему на предыдущую экспедицию. О предоставлении в распоряжение путешественников какой-либо вспомогательной группы офицеров и специалистов на сей раз и речи не было. Такая сдержанность британского правительства объяснялась главным образом недовольством Португалии. Суровая критика португальской колониальной системы, содержавшаяся в докладах и книге Ливингстона, вызвала еще более резкие возражения в официальных португальских газетах. Министерство иностранных дел Португалии собрало эти злобные статьи и издало их в английскомm) переводе. Авторы статей не постеснялись прибегнуть к клевете, чтобы очернить Ливингстона и его деятельность: «Нет никакого сомнения, что под предлогом распространения слова божьего — чем он меньше всего занимался — и проведения географических и естественнонаучных исследований Ливингстон свои действия и стремления подчинил лишь одному помыслу... нанести вред торговым выгодам Португалии, а при подходящих обстоятельствах — и территориальным ее владениям». Авторы высказывали требования, чтобы в это дело вмешалось английское правительство, так как «такие люди, как Ливингстон, особенно когда они пребывают в наших африканских владениях в качестве официальных лиц, могут нанести большой ущерб интересам Португалии, если выпустить их из поля зрения и не пресекать их дерзкие выпады, наносящие нам вред». Англия поддерживала тогда дружественные отношения с Португалией и не хотела осложнять или даже ставить их под угрозу ради поддержания гуманных идей и намерений Ливингстона.
Однако министерство иностранных дел все же сделало ему предложение: принять «полномочия», которые дали бы ему возможность выступать в качестве официального лица перед вождями племен Центральной Африки; однако это не давало ему права на жалованье или пенсию. Такая оговорка глубоко оскорбила Ливингстона. Он ведь никогда не строил свои отношения с высшими слоями общества или правительственными учреждениями таким образом, чтобы лично для себя извлекать выгоды. А теперь, пользуясь его знаниями Африки, они не желают потратиться даже на такое вознаграждение, какое получает у них самый малозначащий [199] чиновник! Но, несмотря на унизительность этого предложения, официально его по-прежнему всячески обхаживали: все еще приглашали на званые обеды к министрам ее величества, архиепископам Йорка и Кентербери, к герцогам, лордам и епископам.
Скудность средств вынудила Ливингстона продать «Леди Ньяса». Выручку от продажи, как и наличные деньги, он не задумываясь истратил бы на предстоявшую экспедицию. Но это была не единственная причина продажи судна. Путешествуя пешком или в челноке, он к тому же чувствовал бы себя свободнее. Вдобавок ему было бы лучше без европейских спутников.
Поэтому в новой экспедиции не участвовал ни один англичанин, кроме Ливингстона, — так было проще. В предыдущей экспедиции это подтвердилось: вначале ее морской офицер, которому вверено было командовать судном «Ma-Роберт», не поладил с Ливингстоном и покинул свой пост; затем, когда были уволены два человека из племени кру, тут же покинули экспедицию еще двое англичан. Ливингстон отстранил их, так как, по его мнению, они не заслуживали того жалованья, которое им платило государство. После этих случаев распространились слухи, что он в общении с другими показал себя властолюбивым, самонадеянным и неуступчивым. Нередко это проскальзывало не только в разговорах, письмах, но и в газетах. Сам Ливингстон этот упрек считал незаслуженным.
Но как же объяснить натянутость и довольно резкие споры, возникавшие иногда в экспедиции между Ливингстоном и некоторыми из ее участников?
Среди причин, вызывавших эти расхождения, биограф Ливингстона Блэйки кроме климата, лихорадки, всяческих неудобств в пути особое место отводит высокому чувству долга: «Он был настолько добросовестным, к делу подходил столь серьезно и трудился с таким усердием, что терпеть не мог, когда на обязанности смотрели как на какую-то игру или забаву». Как и все те, кто в высшей степени требователен к себе, он требовал и от других участников экспедиции полного напряжения сил. В условиях же расслабляюще действующего тропического климата, оказывается, многим это требование не под силу, и в таких случаях они были просто бездеятельны. По выдержке и упорству Ливингстону среди участников экспедиции не было равных, разве что доктор Кёрк. Он был убежден, что, не имея европейцев среди своих спутников, он сможет быстро проделать путь и добиться больших результатов. Чем больше европейцев в экспедиции, тем больше задержек в пути еще и из-за различных заболеваний и тем, естественно, медленнее продвижение. А встретившись с опасностью в пути, руководитель экспедиции не может подвергать риску жизнь других в такой же [200] степени, как свою. Одним словом, он постоянно должен был думать об осторожности и внимании, а это мешало работе.
Но это не единственная причина, побудившая его на сей раз отказаться от общества англичан в пути. Он ведь давно отвык от него. Многолетнее одиночество сделало его молчаливым, своенравным, впечатлительным. Его раздражало все, что мешало его планам, и тогда он становился угрюмым и придирчивым.
Доктор Кёрк говорил о нем: «Если погода ухудшается или что-либо не ладится, то предпочтительнее обойти его, особенно если он что-то напевает про себя».
В своем путевом дневнике доктор Кёрк утверждает, что виновником пререканий в экспедиции чаще всего был Чарлз Ливингстон. Он обычно не ладил с другими участниками и за их спинами наговаривал на них брату. А Давид, всегда очень доверчивый и легко поддающийся влиянию, верил этим нашептываниям и выражал затем недоверие своим спутникам. Они в свою очередь обижались на несправедливость. В результате с некоторыми из них у него доходило до открытого разрыва.
В середине августа 1865 года Ливингстон покинул Англию в третий и последний раз.
Сопроводив в Париж свою дочь для продолжения образования, он через Марсель и Каир, а затем через Красное море направился в Бомбей.
 | В поисках рекНеудачный выбор |
28 января 1866 года у Занзибара стала на якорь яхта, доставившая из Бомбея в Африку Ливингстона и участников его экспедиции. Судно это Ливингстон передал султану Занзибара как подарок от британского губернатора Бомбея, который рассчитывал, что этот владыка окажет поддержку исследователю. Действительно, султан дает Ливингстону сопроводительное письмо, повелевающее арабским торговцам внутренних областей Африки, его подданным, оказывать экспедиции защиту и всяческую поддержку.
К скромным средствам, выделенным Географическим обществом и британским правительством на экспедицию, прибавились частные пожертвования, собранные в Великобритании в сумме около тысячи фунтов, да, кроме того, купцы Бомбея почти столько же собрали по подписке. За «Леди Ньяса» он получил лишь две тысячи триста фунтов; при этом банк, в который Ливингстон вложил эти деньги, через несколько лет оказался некредитоспособным, и по сути дела все шесть тысяч фунтов, израсходованные им на постройку судна, пропали.
Семь недель Ливингстон ждал на Занзибаре судно, которое должно было доставить его к устью реки Рувума. За это время он исколесил весь город и его окрестности. Довелось побывать ему и на рынке невольников, действовавшем совершенно открыто. «Там было около трехсот рабов, выставленных на продажу; большинство из них доставлены из районов озера Ньяса и реки Шире... Взрослых, по-видимому, мучило чувство стыда, вызванное тем, что они выставлены для продажи, как скот. Покупатели проверяют зубы, поднимают одежду, чтобы осмотреть ноги, бросают свою палку, заставляя раба принести ее, чтобы проверить его расторопность. Иные, таща раба за руку сквозь толпу, все время выкрикивают требуемую цену».
С одной индийской торговой фирмой на Занзибаре Ливингстон заключил соглашение. Фирма обязалась доставить в Уджиджи, на [202] восточном берегу озера Танганьика, необходимые продукты и другие товары и создать там достаточные запасы стеклянных бус, тканей, муки, чая, кофе и сахара. Она брала на себя заботу об охране товаров, пока путешественники не прибудут туда. В Уджиджи заканчивался торговый путь, шедший от Багамойо, порта на материке против острова Занзибар, через арабскую торговую колонию Уньяньембе к озеру Танганьика. Ливингстон избрал Уджиджи для базы снабжения из-за удобства местоположения. Туда он в любое время мог бы сравнительно легко добраться из глубинных мест материка, чтобы пополнить свои запасы. На доктора Керка возлагалась обязанность через определенные промежутки времени отправлять из Занзибара в Уджиджи караваны с товарами.
Участники предстоявшей экспедиции приехали с Ливингстоном из Бомбея. Это была удивительно разношерстная группа. Большую ее часть составляли сипаиn) — двенадцать индийских военных моряков под начальством хавилдара, своего рода унтер-офицера. Они сами просили взять их в экспедицию и для этого получили отпуск на службе. Кроме того, в экспедицию входили девять африканских юношей, еще детьми привезенных в качестве рабов в Британскую Индию, — так называемые «парни из Насика»: по британским законам они получили свободу и воспитывались в правительственном училище в городе Насик. Из всего училища только этим девяти представилась возможность вместе с Ливингстоном вернуться на родину. В экспедицию входили также два молодых парня из племени ваяо — Чума и Викатани, которых Ливингстон в 1861 году освободил от цепей работорговцев; тогда они были еще детьми. Много лет после этого они жили на миссионерской станции и уехали вместе с Ливингстоном в Бомбей, где он оставлял их на время под опекой шотландской христианской миссии.
На Занзибаре экспедиция пополнилась и стала еще более пестрой. Тут Ливингстон принял еще десять человек с острова Джоханна. Эти люди находились в подчинении некоего Мусы, которого Ливингстон немного знал: Муса какое-то время служил на «Леди Ньяса». Тогда он прослыл лживым и вороватым. У Ливингстона сохранились о нем неприятные воспоминания. Во время поездки вверх по реке Шире свояк Мусы однажды утром спрыгнул с судна в воду, чтобы вплавь перебраться в лодку, но крокодил схватил его и утащил вглубь. Хотя тот просил о помощи, Муса не тронулся с места, как и другие люди с Джоханны. Когда Ливингстон беседовал с ним по этому вопросу, Муса равнодушно [203] возразил: «Никто его не заставлял прыгать в воду. Он сам виноват в своей гибели». Совсем иначе поступили когда-то его макололо при подобных обстоятельствах: когда вблизи Сены крокодил схватил рабыню, четыре макололо мгновенно бросились в воду и спасли ее, хотя для них она была чужим человеком.
И еще двух старых знакомых он взял с собой: Суси и Амоду, родом из окрестностей Шупанги. Они уже плавали с ним по Замбези и Шире, в их задачу тогда входили валка леса и заготовка дров для «Пионера».
Для экспедиции были отобраны шесть верблюдов, три индийские буйволицы, четыре осла и два мула. Итак, азиатские животные пустынных и горных мест в центральноафриканских кустарниках? Ливингстон преследовал, правда, весьма определенную цель: испробовать, смогут ли эти животные противостоять укусам мухи цеце.
Приготовления наконец были закончены. Теперь Ливингстон со своими людьми мог отправиться к устью Рувумы. Верховые и вьючные животные, погруженные на дау (лодку), следовали за ними. Однако устье реки оказалось болотистым, покрытым густыми мангровыми зарослями; выгрузиться здесь не удалось, и поэтому пришлось плыть в бухту, расположенную несколько севернее. Там экспедиция остановилась. В беспрерывно качающейся дау животных кидало из стороны в сторону.
По прибытии на материк личный состав экспедиции пополнился еще двадцатью четырьмя носильщиками. Теперь у Ливингстона было уже шестьдесят человек. Ему предстояло руководить неопытными людьми. Лишь он один был опытным человеком. Но даже для столь опытного, знающего Африку путешественника, как он, все расчеты и планы на сей раз содержали много неизвестного и рискованного. В пути он не раз вспоминал о своих макололо, этих честных и верных товарищах, которые были готовы идти с ним сквозь огонь и воду. Однако на первых порах у него все же было приподнятое настроение:
«Сейчас, когда я намереваюсь начать новое путешествие в глубь Африки, снова чувствую подъем духа... Путешествовать по неизведанной стране — это уже само по себе очень большое удовольствие. Совершая напряженный марш в местности, поднятой на тысячи футов, укрепляешь свои мускулы; свежая, здоровая кровь мощным потоком вливается в мозг, чувствуешь огромный душевный подъем; глаз становится зорким, шаг твердым, а дневное напряжение делает вечерний отдых истинным наслаждением.
Чаще всего у нас было такое чувство, что где-то там, вдали, нас подстерегает опасность. Общность наших интересов и всюду [204] подстерегавшая опасность делали всех нас друзьями. Лишь жалкое детское недомыслие может побудить человека смотреть сверху вниз на этих скромных людей, своих спутников».
Эти слова были записаны им еще тогда, когда он думал о своих макололо. Но вскоре оптимизм его угас. Нынешние спутники не то что макололо. Да и с животными на этот раз не повезло.
Привезенные верблюды не оправдали возлагавшихся на них надежд. Они были не пригодны для походов не только в заболоченных местах, но и в дремучих лесах, где деревья опутаны вьющимися растениями. Человек на худой конец может пробраться, петляя среди деревьев, но для крупных животных с громоздкими, неуклюжими вьюками приходится топором прокладывать путь. Для этой работы то и дело надо вербовать лесорубов в деревнях. Люди из племени маконде ловко владели топорами, и работа у них спорилась, но она отнимала немало времени.
«В непроходимом лесу, пропитанном влагой с Индийского океана, душная, насыщенная испарениями атмосфера и буйно разросшаяся растительность вызывали во мне такое чувство, будто и сам я включился в борьбу за существование. Ориентироваться в этой местности я мог бы с таким же успехом, как если бы сидел в бочке и наблюдал за окружающим через небольшое отверстие».
Поднимаясь вверх по Рувуме, в середине апреля экспедиция достигла того места, откуда пять лет назад вынужден был вернуться «Пионер». В приречной низменности были разбросаны рисовые поля, и Ливингстон купил здесь большую партию риса для сипаев — привычную для них пищу.
На марше Ливингстону нужно было везде поспевать, чтобы колонна не сбилась с пути или не завернула к какой-либо подруге Бена Али, взятого в качестве проводника.
Временами путь каравана проходил через местность, пораженную мухой цеце. Чаще всего мухи нападали на верблюдов. Буйволам тоже доставалось, но животные не гибли. Ослам и мулам цеце не докучали. Правда, у некоторых животных еще не зажили и гноились ушибы и раны, полученные ими во время плавания на дау.
В начале мая леса кончились. Теперь уже не было нужды пробираться через заросли с топором. Низкорослая, скудная трава, покрывавшая равнину, усеянную колючим кустарником, поблекла и пожелтела: наступило засушливое время. У местных жителей не осталось никаких продовольственных запасов, поэтому ничего нельзя было достать. Ливингстон высылал в разных направлениях партии для поисков продовольствия. Но они нередко возвращались с пустыми руками. И лишь кое-где, и то за [205] непомерную плату, удавалось достать что-то. А про запас уже не оставалось ничего.
Не прошло и двух месяцев, как экспедиция начала свой путь, а сипаи уже отказываются идти дальше, ссылаясь на усталость. Ливингстон пообещал, что скоро отправит их домой.
В один июньский день все двадцать четыре носильщика, завербованные на побережье, вдруг сложили свой груз и отказались идти дальше: они опасались, что на обратном пути попадут в руки работорговцев. Их страх, к сожалению, не был лишен основания. Ливингстону не оставалось ничего другого, как выплатить носильщикам положенное и отпустить их. С их уходом отряд потерял более трети состава экспедиции. Кроме того, он лишился и нескольких вьючных животных. Теперь экспедиция целиком зависела от постоянно сменявшихся местных носильщиков, но они опасались слишком удаляться от своей деревни из-за страха перед охотниками за невольниками. Ливингстону часто приходилось вести длительные переговоры, чтобы получить новых носильщиков.
Ливингстон намеревался идти вверх по долине Рувумы к самой середине озера Ньяса, там переправиться через него и затем следовать тем путем, которым шел в 1863 году. Вскоре он заметил, что вышел на тропу работорговцев.
Однажды ночью Ливингстон увидел, как у двери хижины, предоставленной ему для ночлега вождем деревни, проходил факельщик, а за ним следовали две женщины, закованные в цепи. Сзади шел мужчина с ружьем. Безмолвно, как привидения, прошли четыре фигуры и также беззвучно исчезли во мраке ночи. Вождь деревни, которого Ливингстон стал расспрашивать на следующий день об этом ночном происшествии, немного смутился и увильнул от ответа. Однако путешественник понял, что вождь терпимо относится к тому, что его люди продают своих же собратьев, и, конечно, имеет от этого какую-то выгоду.
Путникам нередко встречались брошенные колодки рабов. Их снимали с этих несчастных лишь тогда, когда убеждались, что они потеряли всякую надежду на побег из плена.
Однажды они увидели у дерева мертвую женщину, закованную в цепи и привязанную за шею к стволу. Местный житель рассказал: эта женщина уже не могла поспевать за остальными рабами, но владелец не хотел оставлять ее, так как, отдохнув, она набралась бы сил и тогда, возможно, досталась бы другому работорговцу, его конкуренту. [206] Вскоре они натолкнулись на труп женщины, заколотой или застреленной; она лежала в луже крови. Подобные картины встречались нередко.
Земли, по которым двигалась экспедиция, были заселены довольно плотно, поля хорошо обработаны. Иногда на целые мили тянулись огороженные сады. Но там, где похозяйничали охотники за невольниками, хижины были заброшены, плоды в садах остались неубранными. Трупы, так и оставшиеся в оковах, валялись на дорогах или висели на деревьях. В одном месте брошенных колодок для рабов оказалось очень много, и Ливингстон попытался объяснить это тем, что какие-то африканцы, вероятно, тайно следовали за караваном и освободили рабов. Однажды им попалась группа закованных в цепи рабов, лежавших на дороге; в них еще теплилась жизнь, но они так ослабли, что даже не могли говорить. Из-за нехватки продуктов владелец просто бросил их здесь, не удосужившись снять оковы.
Местным жителям Ливингстон старался объяснить, что в гибели многих людей повинны также и те из них, кто продает людей в неволю.
Вожди, которым Ливингстон делал такой упрек, в большинстве случаев старались переложить вину на других вождей, которые оказывают, мол, содействие работорговле. Но как ни был доверчив Ливингстон, его все же не удовлетворяли эти отговорки: «Для вас было бы лучше, чтобы ваши соплеменники оставались здесь и обрабатывали побольше земли. Если вы и дальше будете так поступать, то вскоре настанет время, когда некого будет продавать, ваши земли опустеют».
Цены на продовольствие здесь возросли. Торговцы в обмен на продукты давали ружья, боеприпасы, ситец и красивые бусы. А то, что Ливингстон вез с собой, тут не ценилось и лишь с трудом можно было обменять на продукты. Одно время участники экспедиции в качестве дневного рациона получали лишь одну-две горсти зерна. Кроме диких голубей, которых удавалось подстрелить в пути, неделями у них не бывало мяса. Столь скудный рацион, конечно, не доставлял удовольствия. А людям ведь то и дело приходилось подниматься в гору или спускаться вниз, и дорога была такой твердой, что у некоторых появились раны на ступнях.
Однажды экспедиции попалась навстречу партия рабов, направлявшаяся к побережью. Вел ее работорговец, прослышавший, что туда прибыл какой-то англичанин с индийскими солдатами. Он, по-видимому, полагал, что этот отряд намерен бороться с работорговлей, и, чтобы расположить к себе англичанина, послал ему вола, [207] мешок муки и вареное мясо. Ливингстон попросил его помочь продуктами также сипаям, тянувшимся далеко позади. Работорговец обещал это и сдержал свое слово. «Если бы он видел наш жалкий эскорт, то все его страхи сразу же прошли бы», — размышляет Ливингстон.
Впервые Ливингстон был вынужден принять помощь от работорговца, который видел в нем своего смертельного врага, и не только принять, но даже просить его об этом. Во время путешествия нужда еще не раз заставляла его взывать к великодушию тех, против кого он вел борьбу.
В последующее время Ливингстону редко уже приходилось встречаться с работорговцами. Они, очевидно, уклонялись от встречи с ним.
В середине июля экспедиция добралась до резиденции вождя племени ваяо — поселения, где было около тысячи домов, окруженных деревьями. Здесь жил Матака — вождь племени, человек примерно шестидесяти лет. У него большие стада крупного рогатого скота и овец. Европейцев он пока еще не видел. Матака предоставил Ливингстону жилище и ежедневно в избытке присылал всякую еду.
Вскоре после прибытия Ливингстона отряд ваяо вернулся из района озера Ньяса, ведя богатую добычу: людей и животных. Но Матака приказал все это вернуть. Ливингстон искренне похвалил его. «Он, очевидно, очень рад был моему одобрению и обратился к своим людям с вопросом, слышали ли они мои слова... Затем Матака как следует выбранил их». Но едва ли его подданные предпринимали эти грабительские походы без его ведома и даже одобрения. Эту ловко разыгранную комедию Ливингстон, по-видимому, все же не раскусил. Истинное лицо Матаки раскрылось лишь два дня спустя, когда тот открыл ему свое заветное желание побывать в Бомбее, чтобы приобрести там золото. «Что лучше всего прихватить с собой для обмена?» — спросил он у Ливингстона. И когда тот посоветовал ему взять слоновую кость, Матака без зазрения совести спросил: «А от продажи рабов разве нельзя получить хорошую прибыль?» — и он был крайне удивлен, услышав, что за торговлю рабами там его могут приговорить к тюремному заключению.
Прошло десять дней, как он покинул город вождя Матаки, и вот вдали показалось сверкающее голубизной озеро Ньяса, а через два дня он уже стоит на его берегу. «У меня было такое чувство, будто я вернулся на давно покинутую родину, которую уже и не чаял увидеть. Какая благодать купаться в его чудесных водах, слышать шум прибоя и бросаться в его пенящиеся волны». [208]
Ливингстон охотно пересек бы озеро немедленно, но две дау, курсировавшие на озере, были заняты перевозкой рабов. И он вынужден был обогнуть озеро с юга. Пять недель спустя Ливингстон находился уже у южной оконечности озера, там, где начинает свой бег Шире.
Это родные места молодого ваяо Викатани, которого он когда-то вызволил из цепей рабовладельца. Случайно Викатани встретил одного из своих братьев и от него узнал, что невдалеке живут еще несколько его братьев и сестер. Он обратился с просьбой к Ливингстону отпустить его, и тот, разумеется, дал согласие.
В пути вдоль западного берега озера Ньяса островитяне Джоханны услышали от одного из арабов, что разбойники из племени мазиту терроризировали, мол, всю местность к западу от озера. Этот рассказ так испугал островитян, что они отказались идти дальше. Ливингстон поговорил с одним из спутников, Мусой, и заверил его, что не пойдет по той дороге, где хозяйничают мазиту. Но Муса и слушать не хотел, он все твердил: «Нет, нет, я не идем. Надо повидать своего отца, мать, ребенка. Не хочу, чтобы меня убили мазиту!» И 26 сентября, когда Ливингстон отдал приказ отправляться в путь, островитяне не пошли с ним. Он был вроде даже рад, что отделался от этих вечно роптавших парней. Его отряд совсем растаял. В нем оставались лишь парни из Насика, а также Чума, Суси и Амода, не считая тех носильщиков, которых он время от времени набирал по деревням.
Многие поселения к западу от озера Ньяса он знал еще по первому путешествию в эти края вместе со своим братом Чарлзом и доктором Кёрком, когда он открыл озеро. Некоторые старосты деревень рады были вновь видеть его и щедро угощали пивом, мясом, маслом и кукурузой. Всюду он осуждал торговлю людьми как чудовищную несправедливость и призывал всех к единству: маньянджа должны сплотиться и жить как одна семья, чтобы дать отпор общему врагу. «Но они подобны песчинкам: нет у них внутренней связи, солидарности, каждая деревня живет своей жизнью...» Если враги нападали на какую-либо деревню, то жители соседней деревни, вместо того чтобы прийти на помощь пострадавшим, предпочитали спасаться бегством.
Весь ноябрь маленькая группа идет по землям, опустошенным налетами мазиту. Не раз встречались им беженцы, жилища которых подверглись только несколько часов назад нападению; вдали еще виднелся дым, поднимавшийся от горящих хижин. Поэтому было почти невозможно подыскать носильщиков и проводников. Негде было достать и продукты: мазиту разграбили все запасы.
Голод и плохая пища отнимали у Ливингстона, болевшего [209] дизентерией во время путешествия через материк, а также в экспедиции на пароходе, последние силы; прежний недуг снова возобновился. 6 декабря в дневнике, по-видимому впервые, появилась короткая запись об этом: «Слишком болен для похода». Но он умудряется вести борьбу с болезнью лекарствами: многолетний опыт подсказывал ему, что помогает.
11 декабря наступил период дождей. Отныне дожди повторялись каждый день. Когда они приближались к Луангве, притоку Замбези, дороги развезло, а реки вздулись. Все труднее и труднее было переходить вброд наполненные водами притоки Луангвы.
Запись от 31 декабря в его дневнике гласит: «Сегодня кончается 1866 год. Он не оправдал моих ожиданий. Постараюсь сделать все, чтобы 1867 год был плодотворнее, лучше и спокойнее».
Дожди шли все чаще и чаще. У экспедиции уже не осталось сахара и соли — продуктов, которые могли бы размокнуть; от сырости надо было хранить лишь тюки тканей и ружейный порох.
«Меня не покидает чувство голода, а во сне то и дело кажется, что передо мной лежит вкусная еда. Любимые в прошлом блюда красочно вырисовываются в моем воображении даже наяву».
Весь январь идут путники к озеру Танганьика с пустыми желудками, часто в непогоду, к тому же и по бездорожью. Хлюпая по мокрой траве, пересекают чудесные долины, подобные паркам, пробираются через влажные леса, осторожно ступают по илистым топям. Вблизи рек многие мили приходилось пробираться вброд по затопленным долинам.
20 января 1867 года стало роковым днем в жизни Ливингстона. Снова у него не оказалось проводника, и утром он продолжал свой марш, руководствуясь лишь компасом. В пути обнаружилось, что не хватает двух человек — оба ваяо, вызвавшиеся участвовать в экспедиции семь недель назад. Это были бежавшие рабы, владелец которых, по их словам, был убит мазиту. За это время они проявили себя как верные друзья и старательные люди. А их знание местных языков было весьма полезно для экспедиции. Никто и предположить не мог, что они тайно сбегут: ведь они добровольно примкнули к экспедиции. Естественно, их поклажа исчезла вместе с ними.
Пока Ливингстон пытался подавить свой гнев и смириться с потерей багажа, подошел один из его людей, считавшийся очень надежным, и вполголоса сообщил, что утром перед отправкой он обменялся ношей с одним из беглецов. Тот ваяо выразил желание [210] взять у него тяжелый ящик, который он нес, и тащить его до следующей остановки. В этом ящике находились все лекарства и, главное, весь запас хинина!
Ливингстон невольно вспомнил епископа Макензи, который, когда опрокинулась лодка, лишился хинина и из-за этого потом погиб. «У меня было такое состояние, как будто мне прочли смертный приговор», — писал он 20 января 1867 года в своем дневнике. И предчувствие не обмануло его: это и был смертный приговор, если даже приведение его в исполнение и оттянулось на несколько лет. Малярия и дизентерия могли теперь беспрепятственно делать свое черное дело, постепенно подтачивать его здоровье. И в конце концов оно оказалось так подорвано, что даже, получив затем лекарства, он смог окрепнуть лишь на время. Здравый рассудок должен был бы подсказать ему: надо прервать дальнейший поход и вернуться на побережье. Но как мог Ливингстон это сделать! Ведь он шел уже более девяти месяцев. Позади уже около восьмисот миль, и не исключено, что через несколько недель он будет у цели: пересечет крупный водораздел Центральной Африки, найдет истоки Нила. Нет, Ливингстону назад пути заказаны.
Потеря была так велика, что он отправил двух человек, чтобы догнать и вернуть беглецов, но это было почти безнадежно: сильный ливень смыл, конечно, их следы. Впрочем, преступники даже и не догадывались, какое несчастье они причинили Ливингстону. И как только они проверят содержимое украденного багажа, тут же, конечно, выбросят ящик с лекарствами, так как не знают, что с ними делать.
В последнюю неделю января, когда снова появилась возможность купить зерно и мясо, им повезло: у Ливингстона оказались стеклянные бусы, которые можно было обменять, ибо они тут в моде. Если путешественник не знает утвердившиеся вкусы тех мест, куда он собирается ехать, то может случиться, что его бусы и ткани окажутся бесполезным грузом: он нигде не сможет сбыть их. Но Ливингстон, закупая предметы для обмена, советовался с Суси и Чумой и подобрал то, что надо.
В одной деревне он встретил группу работорговцев и вручил их главарю письма для пересылки через Занзибар в Англию. Кроме того, через них он попросил дополнительно доставить с Занзибара в Уджиджи все необходимое для экспедиции: ткани и бусы для обмена и подношения подарков, свечи и мыло, бумагу, чернила, перья, мясные консервы, сыр, кофе, сахар, портвейн, лекарства, и прежде всего хинин. От присылки этих вещей зависела теперь сама жизнь его. Работорговцы обещали выполнить поручение, и год спустя Ливингстон узнал, что они сдержали слово. [211]
В конце февраля у Ливингстона возобновились приступы лихорадки. С каждым днем он становился все слабее и уже через силу мог продолжать свой путь. Весь март не прекращалась лихорадка, и ему ничем нельзя было помочь.
Первого апреля Ливингстон был настолько слаб, что не мог идти и выслал вперед парней из Насика. Когда те перевалили через цепь холмов, он неожиданно услышал выстрелы. Собравшись с силами, Ливингстон поспешил за передним отрядом и, когда достиг вершины гребня, увидел далеко-далеко внизу между облесенными крутыми склонами и красными скалистыми стенами мерцающую гладь озера Танганьика — люди стреляли от радости.
Экспедиция находилась у южной оконечности озера. На узкой прибрежной полоске паслись буйволы, слоны, антилопы. Ползали огромные крокодилы. Слышался рев львов и фырканье бегемотов.
Но Ливингстона уже ничто не радовало. «Я чувствую себя очень слабым, не могу ходить, шатаюсь, в голове постоянный шум». И тем не менее он собрал всю свою волю, заставил себя определить географическую широту и долготу места, а также высоту озера над уровнем моря.
«Пробыв здесь несколько дней, я вдруг почувствовал себя совсем плохо. Как же может измотать лихорадка, если нет хинина! Я потерял сознание и упал навзничь возле своей хижины и уже не в состоянии был забраться в нее; я пытался подтянуться, цепляясь за входные опоры, но, приподнявшись, пошатнулся и снова свалился, ударившись головой об ящик. Ребята заметили мое состояние, помогли мне забраться в хижину и повесили одеяло перед входом, чтобы никто из посторонних не видел мою беспомощность. Прошло много часов, прежде чем я пришел в себя».
Минули недели, пока Ливингстон поправился и смог продолжать путь; но он все еще был очень слаб. Физическая слабость сказалась и на его духовном состоянии: это был уже не тот решительный исследователь, преодолевавший все трудности, каким он был прежде. Он медлил, колебался при принятии решений, выжидал, вместо того чтобы энергично действовать, легко поддавался влиянию других и отступал от своих первоначальных намерений. Его твердая вера в бога доходит теперь до фанатизма, заставляющего человека мириться с окружающей несправедливостью. Душевная энергия иссякла.
Ливингстон был намерен идти на запад, чтобы отыскать неизвестное европейцам озеро, называемое Мверу, и установить наконец, [212] куда направляется большая река Луалаба, вытекающая из этого озера, — в Нил или в Конго. Если она относится к бассейну Нила, тогда не правы те, кого до сих пор считали первооткрывателями истоков Нила.
На нагорье продвижение замедлилось: здесь шла война. Владея огнестрельным оружием, арабы нанесли поражение могущественному вождю Нсаме. Многих из этих арабов Ливингстон встретил в деревне. Они приняли его любезно, а когда он предъявил им рекомендательное письмо султана Занзибара, правителя их страны, расщедрились и в подарок дали ему продукты и немного товаров для обмена: бусы и ткани. Но путь к озеру Мверу все же оставался закрытым: он шел через владения Нсамы, а тот стремился отомстить за нанесенное ему поражение — совершал налеты, убивал всех попадавшихся ему чужеземцев. Арабы настоятельно советовали Ливингстону подождать. Они добивались переговоров с Нсамой: в их торговых интересах было заключить с ним мир.
Ливингстон согласился: действительно, было бы неразумно подвергать опасности стольких людей. Но прошли недели, прежде чем арабы отважились послать своего представителя к Нсаме. И снова тянулись многие недели, пока шли переговоры, а война продолжалась на глазах у Ливингстона.
Мир с Нсамой был заключен только в конце августа, и Ливингстон мог продолжить свой путь. Задержка длилась три месяца и десять дней. Ливингстон и его группа шли теперь по землям Нсамы, сопровождаемые работорговцами с их большими караванами рабов.
Далеко растянулась цепочка гуськом шедших рабов и носильщиков — всего четыреста пятьдесят человек. Колонна, руководимая арабами, шла тремя отрядами, возглавляемыми знаменосцами. Как только ставили знамя на землю, отряд останавливался; знамя поднимали — раздавались звуки барабанов и рожка, и отряд двигался дальше. Каждый отряд сопровождала примерно дюжина охранников, носивших причудливые головные уборы, украшенные перьями и бусами, и накидки, нарядно подбитые полосками меха. Резкие удары барабана и пронзительные звуки рожка некоторыми спутниками Ливингстона, бывшими когда-то рабами, инстинктивно воспринимались как сигнал к движению: они вскакивали, торопились, и Ливингстон едва поспевал за ними.
В начале ноября Ливингстон отклонился от начального маршрута, и через несколько дней первый европеец любовался водной гладью озера Мверу. К песчаным пляжам озера полого спускались склоны его котловины, покрытые девственными лесами. У подножия склонов лепились рыбацкие хижины. [213]
Мверу, как говорят, среднее из трех озер, которые питают ту загадочную реку, о которой Ливингстону уже рассказывали вездесущие бабиса и арабы четыре года назад. Во время нынешнего путешествия Ливингстон продолжает сбор сведений. Снова и снова он возвращается к мысли, что река Луалаба, пройдя по неведомым путям в северном направлении, возможно, изменяет свое название и становится Белым Нилом. Следовательно, тогда Спик и Грант ошибались, а он нашел истинный исток Нила.
Ливингстон подошел к северной оконечности озера Мверу, как раз к тому месту, откуда вытекала эта загадочная река; далее он направился на юг, к озеру Бангвеоло ".
По пути Ливингстон посетил резиденцию казембе — это не имя, а титул правителя.o) Царствовавший тогда казембе был известен своей жестокостью.
На пути к большой хижине, где проживал казембе, Ливингстона встретил «красивый, статный темнокожий араб с приятно улыбавшимся лицом, окаймленным белоснежной бородой», поприветствовал его и повел к своему дому, где приказал подчиненным произвести салют. Об этом человеке Ливингстон наслышался еще в районе озера Танганьика.
Целый месяц провел Ливингстон у казембе, который обходился с ним весьма любезно. Тем временем, получив у правителя проводников, Ливингстон предпринял несколько вылазок в окрестности озера Мверу, чтобы составить представление о его размерах и форме.
Хотя до озера Бангвеоло (Бангвеулу) оставалось не более десяти дней пути, Ливингстон пока не собирался туда. «Уже целых два года я не получаю ни от кото весточки, а от исследований так устал, что, прежде чем начать новое путешествие, хочу сходить к озеру Танганьика, в Уджиджи, узнать, не пришли ли на мое имя письма. Берега и все окрестности Бангвеоло, говорят, очень болотистые и нездоровые». Кроме желания получить после столь длительного перерыва какую-либо весточку с родины, идти в Уджиджи побуждала его и необходимость пополнить припасы; прибывший оттуда араб сообщил ему, что заказ, сделанный Ливингстоном при отъезде из Занзибара, уже доставлен в Уджиджи.
Мохаммед бин-Салех настоятельно уговаривал Ливингстона не ходить сейчас к озеру Бангвеоло, а отправиться лучше в Уджиджи. Через месяц он сможет быть уже там. Мохаммед знал здесь все [214] места, и его совет решил дело. Лишь позже Ливингстон узнал, что побудило Мохаммеда дать такой совет.
Мохаммед бин-Салех также покинул город, управляемый казембе, и отправился вместе с Ливингстоном. Под холодным затяжным дождем шли они сначала до озера Мверу, а затем на северо-восток, в направлении Танганьики. «Переход туда займет тринадцать дней», — заявил Мохаммед.
С трудом брели путники по грязи, перебирались через бушующие ручьи, заполненные илом долины. Тринадцать дней до Танганьики? Но прошло уже более трех недель, а они добрались только до деревни Кабуабуата, где Мохаммеда бин-Салеха с нетерпением ожидал сын. Ливингстон был немало озадачен, когда Мохаммед вкрадчиво сообщил ему, что намерен здесь немного задержаться; к тому же время дождливое, никуда не денешься. Ливингстон не скрывал своего недовольства и жаждал отправиться в путь: ведь до этого Мохаммед утверждал, что за месяц можно добраться до Уджиджи! «Да, это так, но не в период дождей», — успокаивал его этот человек с огромной, внушающей почтение белой бородой и неизменно подкупающей доброй улыбкой. И нетерпеливый англичанин волей-неволей вынужден был взять себя в руки и ждать окончания дождей.
У Ливингстона уже не осталось ничего, что можно было бы обменять на продукты Чем дольше торчал он в Кабуабуата, тем большей становилась его зависимость от Мохаммеда бин-Салеха. Теперь он уже сожалел, что не пошел к озеру Бангвеоло: на худой конец там можно было бы и рыбой прожить.
Прошли февраль, март, наступил апрель, а он все в Кабуабуата ждет погоды. Наконец его терпение лопнуло. 13 апреля он решил повернуть в сторону Бангвеоло, хотя Мохаммед по-прежнему отговаривает его. Но тут произошло неожиданное: в то утро, когда он намеревался отправиться в путь, исчезло несколько его людей
Разумеется, Мохаммеду бин-Салеху нетрудно было подбить к побегу людей Ливингстона: они стремились в Уджиджи и не имели ни малейшего желания снова месить болота озера Бангвеоло. И все же пять человек на следующий день пошли с Ливингстоном. Один из них, правда, на другое утро тайком возвратился в Кабуабуата.
В пути всякое бывало: проявляя силу воли и невероятную выносливость, шлепали они по черным вязким болотам, пробира лись по высокой спутанной траве, преодолевали вздувшиеся реки, иногда шли вброд по грудь в воде. Но все оказалось напрасным: жители деревень, подданных казембе, воспрепятствовали дальнейшему походу и вынудили их вернуться. [215]
На обратном пути в Кабуабуата Ливингстон оставался в городе казембе более месяца, где его задерживали под разными предлогами.
В мае кончились дожди. Неожиданно появилась возможность добраться до озера Бангвеоло: один араб, Мохаммед Богхариб, намеревался в той местности обменять на слоновую кость медь, привезенную из Катанги. Ливингстон со своими спутниками решил идти с ним.
С трудом пробирались они по заболоченным местам, где не было ни деревца, ни кустика; шли лесами, и наконец, преодолев открытую равнину, 18 июля 1868 года Ливингстон добрался до северного берега Бангвеоло. Так было открыто еще одно большое неизвестное европейцам озеро Центральной Африки.
На лодке перебирался он с одного острова на другой. К сожалению, не измерил глубину озера: один из беглецов унес в своей поклаже лот. Все время тщательно наблюдает он за течениями речушек, одни из которых направляются на восток, к озеру Танганьика, другие — на запад, к реке Луапула.
Многочисленные ручьи и речушки, берущие свое начало на возвышенностях в окрестностях озера Бангвеоло и направляющиеся в глубь материка, являются, как он полагал, истоками всех крупнейших рек Африки: Замбези, Конго и Нила. Окрестности Бангвеоло он принимал за крупный водораздел в центре континента и полагал, что где-то вблизи находится и неуловимый Caput Nili — «голова», исток Нила, безуспешно разыскиваемый уже тысячелетия. Во всяком случае ему предстоит доказать, что Луапула сливается с Луалабой и затем становится Нилом. Если только ему удастся, то он опровергнет утверждения Спика, считавшего истоком Нила озеро Виктория.
Ему очень хотелось отправиться вниз по течению Луапулы на север, но... одному. Однако Мохаммед Богхариб предостерегал его: места здесь неспокойные.
В конце июля 1868 года Ливингстон вместе с Мохаммедом Богхарибом покинул озеро Бангвеоло, а в конце сентября, примкнув к объединенным караванам Мохаммеда бин-Салеха и Мохаммеда Богхариба, оставил владения казембе.
Не раз Ливингстон собирался лишь со своими людьми продолжать путь. Впрочем, тех людей, которых когда-то переманил у него Мохаммед бин-Салех, Ливингстон снова по их просьбе взял к себе. И все же он не мог обойтись без арабов, которые его самого и его людей целый год спасали от голода, а может быть, и от голодной смерти, да и сейчас он не отказывался принимать их услуги. И если ему вздумается перебраться через Танганьику, чтобы попасть [216] в Уджиджи, то успех опять же будет зависеть от их доброй воли.
В Кабуабуата на караван напал большой отряд воинов племени бабемба. Это был акт возмездия: в одной деревне Мохаммед Богхариб захватил и увел четырех молодых женщин взамен четырех сбежавших рабов. Ливингстон не вмешался в эту стычку. На следующий день бабемба повторили свой налет, но также были отбиты.
Теперь у арабов было одно желание — как можно скорее уйти отсюда. Они высылали вперед разведчиков, но те возвращались с неизменным ответом: «Мы натолкнулись на воинов бабемба и были встречены стрелами». Если пробиваться на север, то там многие рабы наверняка сумели бы сбежать. Арабы вынуждены были торчать в этой деревне, как в западне, и Ливингстон с ними. Наступил декабрь, но, к своему огорчению, исследователь все еще оставался на месте.
Не видя выхода, арабы наконец обратились к нему за советом. Он предложил Мохаммеду Богхарибу отпустить четырех женщин из племени бабемба, захваченных в соседней деревне, чтобы тем самым подготовить путь для мирных переговоров. Но Мохаммед, не желая расставаться со своей добычей, находил всяческие отговорки.
Вопреки всем опасениям арабы все же тронулись в путь. Пришла в движение огромная вытянутая, как змея, колонна: работорговцы, командиры подразделений и рядовые охранники, длинная цепь рабов, скованных по два, далее люди племени вань-ямвези и в конце Ливингстон со своим маленьким отрядом. Некоторые рабы тащили тяжелую ношу — слоновую кость, медь и продукты. И хотя они оставались закованными и на привале, а их держали в охраняемом загоне, не проходило ни одной ночи, чтобы не досчитывались двоих, троих, а то и восьмерых. Среди рабынь вскоре не осталось ни одной красавицы: проявив благосклонность к охранникам, они обретали свободу. Среди охранников всегда находились люди, готовые пойти на риск. Разумеется, освободитель также убегал. Отряд, посылаемый на поиск беглецов, как правило, возвращался ни с чем.
Новый 1869 год начинался для Ливингстона нерадостно: одолевала болезнь, порой он чувствовал такую слабость, какой раньше не испытывал. Он кашлял с кровью, болели легкие, а ноги распухли и покрылись ранами. 3 января, обессиленный, он вынужден был прервать марш уже через час после начала. Впервые в его дневнике [217] не появилось схемы маршрута. Целыми днями, а то и неделями оставались чистыми листки записной книжки.
Мохаммед Богхариб велел готовить еду для больного; он пытался оказать ему помощь лекарствами, применяемыми арабами, и проявлял о нем заботу, как близкий друг. Кто знает, выжил бы Ливингстон без его помощи?
Ливингстон всегда отказывался, не позволял, чтобы его несли на носилках. Но теперь, боясь, что задержит продвижение, он сдался. Продержаться бы до Уджиджи! В основном лагере его ожидают необходимые запасы, заказанные им в Занзибаре. Выдержать до Уджиджи — значит спастись!
Его закаленное тело и железная воля уже подорваны болезнью. Но по мере того как путешественники приближались к Танганьике, утихали боль в груди и кашель. Ливингстон сильно исхудал.
Наконец путники у самого озера переправились на другой берег и в середине марта прибыли в Уджиджи. Там Ливингстон тотчас же разыскал торгового агента, под присмотром которого находился склад. Рассказ агента был ошеломляющим: большинство товаров, а среди них и лекарства, осталось в Уньяньембе (Табора), в тринадцати днях пути от Уджиджи, на караванной дороге к побережью. Но сейчас путь туда был закрыт: там шла война. Товары же, доставленные в Уджиджи, большей частью разворованы: пропало шестьдесят два тюка тканей из восьмидесяти, а также самые ходовые стеклянные бусы.
Он спросил, уцелели ли хотя бы письма. Он был уверен, что письма есть. Почти три года не получал он ни одной весточки из Англии. К сожалению, не было ни газет, ни писем, ни даже привета от кого-нибудь. Это глубоко огорчило его. Правда, родственникам и друзьям его на родине, как и на Занзибаре, достоверно не было известно, где он, но они ведь знали, что при случае он может оказаться в Уджиджи, где находится его основной склад.
Сам он, находясь в пути, написал сорок два письма и хранил их пока в своем багаже. Теперь ему хотелось переслать их на побережье с каким-либо попутным караваном. Но арабы не изъявили готовности доставить их туда. Наконец ему удалось передать письма каким-то людям. Но, к сожалению, побережья достигло лишь одно-единственное из этих писем. Возможно, что также утаивалась или просто уничтожалась и почта, отправляемая ему. К тому же в последнее время прекратилась всякая торговля и почтовая связь с побережьем из-за войны, распространившейся повсюду к востоку от Уджиджи.
При таких обстоятельствах Ливингстону действительно ничего не оставалось, как отправиться на Занзибар, привести в порядок [218] свое здоровье, отдохнуть немного, а затем со свежими силами, с новыми людьми и обновленным снаряжением приступить к за вершению своих географических открытий. Однако в его дневнике нет даже и намека, что у него возникали такие мысли. Будучи в Уджиджи, Ливингстон почувствовал, что немного окреп. И хотя у него по-прежнему не было лекарств, он решил идти на северо-запад от Танганьики, в земли народа маниема, чтобы продолжить там исследования рек.
На первый взгляд это решение казалось не только непостижимым, но и чуть ли не самоубийством. Но Ливингстон все обдумал трезво. Поездка на побережье отняла бы у него время и силы. С тех пор как умерла его жена, у него нередко возникали мысли о смерти. Он чувствовал, что силы сдают и жизнь клонится к закату. Сама смерть не страшит его, угнетает лишь сознание того, что это может случиться раньше, чем он сумеет достичь заветной цели Будучи здесь, в Уджиджи, а не в Багамойо или на Занзибаре, он и по времени и по расстоянию намного ближе к своей цели. Путешествие в земли племени маниема не займет много времени — четыре-пять месяцев, пожалуй. Надо лишь переплыть Танганьику, а оттуда через неизведанные земли до реки Луалабы. Далее, если окажется возможным, он будет следовать на север вниз по этой реке, которая, по его представлениям, является западной ветвью верхнего Нила — «если это только действительно Нил, а не Конго» Эта мысль начинает все больше беспокоить его. Если Луалаба окажется не Нилом, а Конго, значит, вся его теория об их истоках неверна; следовательно, все последние годы жизни и последние силы он принес в жертву великому заблуждению.
В письме к доктору Кёрку Ливингстон просил прислать в Уджиджи новых носильщиков, товары для обмена и продукты. После похода в земли маниема он был намерен возвратиться сюда, чтобы забрать новых людей и все необходимое для дальнейшего пути. Это было то единственное письмо, которое достигло своего назначения.
Прошли недели, прежде чем Ливингстону удалось добыть носильщиков и лодки. Теперь лишь дожди и переполненные реки задерживали его в Уджиджи. Удивительно, что, готовясь к походу, он не пытается использовать время, чтобы доставить лекарства, находившиеся в Уньяньембе. В дневнике нет даже упоминания о них. Ливингстон восстановил здесь здоровье и полагал, что выдержит и без лекарств длительное путешествие.
Так же как и в 1863 году, когда исследованиями Ливингстона нагорий Шире воспользовались работорговцы, следовавшие за ним по пятам, новое его путешествие к Луалабе совпало с началом [219] вторжения работорговцев в земли маниема. Одновременно с ним отправился Мохаммед Богхариб, который из всех его арабских друзей казался ему пока наиболее приемлемым; ему он обязан даже своей жизнью. Мохаммед надеялся добыть там дешевую слоновую кость.
12 июля 1869 года Ливингстон сел в большую лодку и пересек Танганьику. Далее неделями шел он на северо-запад со своими верными спутниками — Суси, Чума и Гарднером — и группой носильщиков. Путь лежал по редколесью, кругом мирные селения и обширные поля. То тут, то там удавалось подстрелить слона или буйвола.
В середине сентября Ливингстон встретил купца Дугумбе, везшего с собой не менее восемнадцати тысяч фунтов слоновой кости из той местности, которую до этого не посещал еще ни один араб. Купил он ее там очень дешево.
Люди, у которых Дугумбе по дешевке купил слоновую кость, новых пришельцев приняли враждебно. Невозможно было достать лодки, чтобы перебраться через широкий и глубокий приток Луалабы. Ливингстон вынужден был повернуть на север, чтобы попытаться достичь Луалабы в каком-либо другом месте.
И снова наступили дожди. Возобновилась лихорадка. А как кстати был бы сейчас хинин, который лежит на складе в Уньяньембе!
«1 января 1870 года. Да поможет мне всевышний завершить начатое дело». Еще до истечения года надо вернуться в Уджиджи, а еще лучше добраться до Занзибара. Он еще был бодр духом, но силы его заметно сдали.
С каждым днем путь становился труднее и труднее. На тропе, проделанной слонами и буйволами, нога уходила глубоко в грязь. «Три часа ходьбы в таких дебрях измотают даже крепкого... Здесь задыхаешься от буйно разросшейся растительности», — записывает в свой дневник Ливингстон. Эта местность годится только для слонов, кстати, их здесь множество.
От маниема трудно получить сколько-нибудь достоверные сведения о Луалабе: к путникам они относятся либо недоверчиво, либо явно враждебно, а то и просто «ничего не знают».
Беспрерывно лившие дожди вынудили Ливингстона повернуть на юг. Обессиленный, измученный сыростью и лихорадкой, он разбил зимний лагерь в поселении Мамохела — сборном пункте торговцев слоновой костью.
Ливингстон пробыл здесь четыре с половиной месяца и отсюда отправился на северо-запад искать Луалабу. Носильщики покинули его, остались лишь Чума, Суси и Гарднер. Всюду вязкая грязь, [220]
Ежедневно приходилось переходить вброд многочисленные ручьи и реки.
Мохаммед Богхариб утверждал, что Луалаба совсем не там, где Ливингстон ее ищет; она здесь сильно отклонилась на запад. Итак, бессмысленно продолжать марш в принятом направлении. Но Ливингстон и без того был не в состоянии продолжать путь. На ступнях у него образовались нарывы, которые гноились. Прихрамывая, он еле-еле двигался.
Это вынудило Ливингстона остановиться на длительный отдых в поселении Бамбаре, примерно на пять градусов южнее экватора. Окруженный здесь враждебными ему людьми, так как в их представлении он стремился расстроить им выгодный бизнес, мучимый болезненными нарывами, против которых у него не было никаких средств, обреченный на бездеятельность, он без пользы тратил драгоценные для него недели и месяцы.
Лежа в хижине, ожидая, что нарывы в конце концов пройдут сами, он часто размышлял о своей жизни. «Во время этого похода я старался неизменно следовать своему долгу. Я перенес многое: трудности, лишения, голод, болезни — в твердом убеждении, что стою на верном пути к цели — во что бы то ни стало довести до конца исследование истоков Нила. Полный надежд, спокойно стремился я к тому, чтобы исполнить этот нелегкий труд, выпавший на мою долю, не заботясь о том, выйду ли победителем в этой борьбе или погибну... В первые три года меня угнетало неприятное предчувствие, что мне не удастся осуществить мои планы, что я не доживу до этого, но это чувство, по мере того как путешествие мое шло к концу, постепенно угасало».
Лишь восемьдесят дней спустя смог он покинуть свою хижину, хотя был еще очень слаб, чтобы сразу же начать новый поход. Болезнь он, правда, воспринял как серьезное для себя предупреждение, однако, как только почувствовал прилив сил, принял решение продолжать путь, вместо того чтобы возвратиться в Уджиджи или даже на Занзибар.
От арабских торговцев он узнал, что западнее Луалабы, берущей свое начало якобы из озера Мверу, течет еще одна столь же мощная река, называемая, как говорят, Ломами и сливающаяся где-то на севере с Луалабой. Ему хотелось непременно исследовать и ее. Он страстно желал проплыть вниз по Луалабе до слияния ее с Ломами, а затем проделать путь вверх по Ломами до Катанги, где она якобы берет свое начало. Но для этого ему нужны были люди и лодка. И то и другое он надеялся получить от арабов-торговцев, направлявшихся сюда, в Бамбаре, и намеревавшихся далее идти к Луалабе. У них около семисот ружей и большие запасы [221] товаров, предназначенных для обмена. Ливингстон, полный нетерпения, ждал их. Выделить ему, разумеется, они могли только рабов: других людей у них не было, и ему пришлось мириться с этим. С таким же нетерпением ждал Ливингстон писем и лекарств. Он послал Мохаммеду бин-Салеху, находящемуся в Уджиджи, письмо с такой просьбой. Покинуть Бамбаре он теперь сможет, только когда прибудут товары и его экспедиция пополнится новыми людьми. Сам он уже не отправлял писем и записей, считая это бесполезным: они все равно не доходили.
И снова начались дожди. Одна за другой проходили недели, а ожидаемого каравана все не было. Кончился и 1870 год. Уже более пяти месяцев сидел Ливингстон в бездействии в Бамбаре, продолжая ждать...
Наконец в конце января пришел караван из Уджиджи, но того, что он так ждал, в нем не оказалось: ни писем с родины, ни лекарств; было лишь сообщение, что в Уджиджи прибыли новые люди, которых он просил в своем письме к доктору Кёрку. Неделю спустя в Бамбаре действительно появились десять из них; но и они не принесли с собой ни лекарств, ни писем. Все они были рабами индийских купцов в Занзибаре. Вскоре Ливингстон пришел к выводу, что ему мало пользы от них.
«Все десять присланных отказываются идти со мной на север... Они и не собираются помогать мне, а в оправдание заявляют, что английский консул в Занзибаре якобы поручил им передать, чтобы я не шел далее, а вернулся вместе с ними».
Но вопреки всему 16 февраля 1871 года Ливингстон покинул Бамбаре. С ним пошли трое верных и неизменных его спутников и только что прибывшие люди.
Они идут по равнине, покрытой высокой жесткой и влажной травой. Одежда на них всегда мокрая. Через многочисленные маленькие речушки Ливингстона переносили на руках, а через реки перевозили в лодке. Иногда делали мосточки из плетеных матов.
Ливингстону прежде всего хотелось отыскать изгиб Луалабы к западу. «Не следует делать поспешных выводов об открытии истоков Конго». Никто не мог ничего толком сказать ему, кроме того, что за изгибом на запад Луалаба снова поворачивает как будто бы на север.
Во многих деревнях уже стало известно, что появившийся белый человек — не охотник за рабами, и здешние жители принимали его с радостными возгласами: «Дружба! Дружба!» Но попадались и опустевшие деревни: при приближении его отряда жители убегали, опасаясь, что их подстерегает такое же злодеяние, [222] какое только что учинили работорговцы. Ему то и дело сообщали, что окрестные деревни подвергались налетам.
Иногда маниема решительно брались за оружие, но много ли они могли сделать со своими копьями, ведя борьбу с противником, имевшим огнестрельное оружие? Они ведь даже не видели такого оружия и представления не имели о его действии. Когда в них целились из ружья, они и не пытались бежать — смотрели удивленно на эту диковинную «палку». И начинали соображать лишь тогда, когда видели павших соплеменников. Но это действие они приписывали колдовской силе противника. Да и храбрость их бесполезна: у них, так же как у маньянджа озера Ньяса, нет единства, к тому же обычай кровной мести посеял глубокую вражду между ними. «Никого не заставишь пойти в ближайшую деревню, даже если она находится, скажем, в трех милях от его собственной: там ведь наверняка проживают люди, которые должны отомстить за убийство их отцов, дядей, дедушек и так далее. Ужасное положение!»
В конце марта Ливингстон стоял на берегу Луалабы. Это могучая река — полторы мили шириной, глубоководная, отличающаяся мощным, но медленным течением; на ней есть большие острова. К берегам ее Ливингстон вышел вблизи селения Ньянгве.
«Берега здесь плотно заселены. Какое-то представление о численности здешнего населения можно составить по наблюдению за потоком людей, посещающих рынок. Не менее трех тысяч человек, преимущественно женщин, появляются здесь одновременно».
Ливингстону очень хотелось спуститься вниз по Луалабе, но лодку достать невозможно, к тому же нужно ждать, пока прибудет купец Дугумбе: ему маниема, конечно, продадут или дадут напрокат лодки. Теперь, в начале апреля, уже не отправишься в путь: каждую ночь бушует ливень.
Ливингстону так и не удалось получить из Уджиджи необходимое; у него не оказалось даже бумаги и чернил. Чернила он изготовляет из растительных красителей, а в качестве писчей бумаги пользуется старыми газетами — на них он пишет поперек печатного текста. Эти записи сохранились и дошли до Англии, но прочесть их можно лишь с большим трудом: газетная бумага пожелтела и легко ломалась, а чернила поблекли. Лишь Эгнис Ливингстон, исполнявшая при отце обязанности секретаря во время его пребывания в Ньюстедском аббатстве и знавшая его почерк, умудрялась читать эти записи. Она-то и помогла издателю дневников Ливингстона [223] Уоллеру, бывшему участнику университетской миссии в Африке, расшифровать записи его последнего путешествия.
Один купец в Ньянгве случайно узнал, что десять рабов, обслуживавших Ливингстона, втайне готовят против него заговор: они уже сыты по горло его походами. Если он принудит их идти и дальше, они при первых же неладах с маниема откроют огонь, а затем сбегут. Это не вызвало бы подозрения о неблаговидности их поступка.
Узнав об этом, Ливингстон отобрал у них оружие и прогнал их. Но они покаялись и поклялись, что будут следовать за ним, куда бы он ни пошел. «Так как мне страстно хотелось довести до конца мои географические исследования, то я готов был идти даже на риск, зная, что при случае они могут оставить меня в беде».
Шесть долгих недель прошли в томительном ожидании, но наконец Дугумбе прибыл в Ньянгве с большим отрядом. «Он решил поискать новые места для торговли. Семья его при нем, так как он полагает, что ему придется провести в пути лет шесть-семь; все это время из Уджиджи ему будут регулярно доставлять необходимые вещи».
На фоне той решимости, которую проявляли работорговцы, поразительно неоправданными кажутся выжидания Ливингстона. Вызывает удивление, что в это время он посылает своих людей валить деревья для постройки жилища. Почему бы ему не построить плот из бревен, вместо того чтобы искать лодку? Вряд ли Луалаба непроходима: рабы и местные жители не раз пересекали ее. Все его поведение свидетельствует об усталости и слабости.
Один работорговец целой флотилией лодок попробовал плыть вниз по Луалабе, но уже на четвертый день лодки попали в водоворот и налетели на утесы. Передняя лодка разбилась, пять человек утонуло. Другие лодки перевернулись. Ливингстон, не зная этого, намеревался проделать такой же маршрут, но, на его счастье, ему не удалось достать для этого лодку: иначе его постигла бы такая же судьба. И в этом он усматривает благую волю провидения.
После этого события он изменяет свой план и намеревается вместе с людьми Дугумбе идти на запад, к реке Ломами, затем вверх по ней до ее истоков, находившихся, как полагали, в Катанге, а оттуда через ту же Ньянгве вернуться в Уджиджи.
Десять сопровождавших его рабов уже не пользовались у него доверием. Ему хотелось до похода обменять их у Дугумбе на такое же количество свободных людей, в придачу он предлагал четыреста фунтов стерлингов. Дугумбе просил пару дней на обдумывание. Проходит целая неделя, а ответа все нет. У него явно не было [224] желания облегчать англичанину путь в страны, лежавшие к западу от Луалабы.
Мучимый бесконечными ожиданиями, Ливингстон записывает: «Меня удручают сложившиеся обстоятельства, не знаю, как и поступить, чтобы все же закончить начатое дело, ибо все складывается не в мою пользу».
Записывая эти слова, он и не догадывался, что на следующий день все его намерения и планы рухнут. То, что ему довелось видеть 15 июля 1871 года, по своей бесчеловечности превосходило любую жестокость, невольным свидетелем которой он был ранее. И до конца своих дней он не мог забыть увиденную тогда ужасную картину.
Все утро слышны были ружейные выстрелы, доносившиеся с другого берега Луалабы. Работорговцы, воспользовавшись каким-то ничтожным поводом, «творили суд и расправу».
Хотя там, за рекой, многие деревни были охвачены пламенем, раздавались выстрелы и в ужасе метались люди, тут, как ни в чем не бывало, рынок жил своей жизнью: по-деловому суетилось не менее полутора тысяч человек. Ливингстон тоже пришел сюда; на краю рыночной площади он заметил троих, недавно прибывших с Дугумбе. В руках у них были ружья в нарушение установленных здесь обычаев — вооруженные на рынок не допускались. Один из сопровождавших Ливингстона людей обратил их внимание на это. Поскольку было очень жарко, Ливингстон собрался было уходить.
Вдруг за его спиной затрещали выстрелы. Люди метнулись в разные стороны, многие бросили свои товары; дико крича, большая часть людей бросилась вниз, к берегу, к лодкам. Но торговцы, находившиеся внизу, открыли огонь по убегающим. В спешке достигшие лодок не успевали прихватить даже весла. У лодок создалась толкотня, люди мешали друг другу столкнуть в воду лодки. Раненые мужчины и женщины, боясь попасть в рабство, бросались в реку. Многие пытались вплавь добраться до ближайшего острова, но поток относил их в сторону, и они тонули в реке. Несколько больших лодок, переполненных людьми, отплыло от берега, но почти все без весел, и люди изо всех сил старались грести руками. Обессилев, плывущие в отчаянии цеплялись за лодки, пытались взобраться в них, но все кончалось тем, что, зачерпнув воды, лодки переворачивались и люди тонули.
«Чего ради вся эта ужасная бойня?» — обращался Ливингстон к торговцам. Они же вину за происшедшее сваливали на одного из своих подчиненных. Но это лживое оправдание возмутило даже доверчивого Ливингстона. Главный мотив действий, как он их себе представлял, — «внушить местным жителям глубокое убеждение [225] в неодолимой силе пришельцев...». Он понял, что исследование реки Ломами невозможно, пока страна остается полем деятельности работорговцев.
И как ни тяжело было принять такое решение, он вынужден отказаться от исследования двух рек, до которых уже добрался. Быть рядом с кровавыми псами — об этом не может быть и речи. «Другого выхода у меня нет, кроме как возвратиться в Уджиджи, чтобы набрать новых людей».
20 июля 1871 года Ливингстон со своими людьми отправился в обратный путь в Уджиджи. И вновь пришлось переправляться через многочисленные реки и речушки, проходить иногда по совершенно опустевшим деревням. Там, где жители прослышали о миролюбивом англичанине, их встречают дружелюбно, проявляя готовность оказать какую-либо услугу или помощь. А дальше уже в первые дни августа начали попадаться деревни с заново отстроенными хижинами. Эти деревни, как им сказали, были сожжены в отместку за то, что жители отказались дать даровой приют работорговцам. Они не пожелали дать пристанище бесцеремонным «гостям», которые, как они убедились, рыскали всюду, грабя и разрушая. С тех пор они стали недоверчиво и даже враждебно относиться ко всем чужестранцам. «Эти люди покидали свое жилье, показывались лишь издали и всегда вооруженными; они отказывались приближаться к пришельцам... Спим тревожно, вокруг жители не спускают с нас глаз».
На узкой тропе, окаймленной с обеих сторон непроходимым лесом, колонна натолкнулась на завал, устроенный из сваленных деревьев. Можно было опасаться нападения из засады, однако этого не случилось: видимо, были какие-то основания для отказа от такого плана. Противник нигде не показывается, но если взглянешь вверх, то в густой листве подчас мелькнет вроде бы человеческая тень.
И вдруг Ливингстон, шедший позади колонны, уловил в чаще тихий шорох, а в следующий момент прямо около него просвистело копье и с силой вонзилось в землю. Оглянувшись, он увидел, как две фигуры мелькнули в чаще. Вскоре такой случай повторился.
В августе у Ливингстона снова появились боли в животе — старая его болезнь; он ослаб и вынужден был частенько останавливаться для отдыха. Записи в дневнике сократились до двух-трех строчек в день, а подчас и для строчки не находилось сил или времени. В конце второго месяца пути он сообщает: «Поход от Ньянгве до Уджиджи был страшно изнурителен. К концу его меня [226] уже едва ноги несли. Чуть ли не каждый шаг причинял боль, пропал аппетит, малейший кусочек мяса вызывает жестокий понос. При таких физических страданиях ухудшается душевное состояние, что в свою очередь очень неблагоприятно сказывается на здоровье. Для всех торговцев походы оказались успешными, они добились своего; лишь я так и не достиг того, к чему стремился! Будучи уже у самой цели, вынужден был вернуться, усталый, разочарованный, измотанный всеми превратностями судьбы».
Худой как скелет возвращается Ливингстон в Уджиджи, проведя в походе более четверти года.
В Уджиджи подтвердилось, что агент, на попечении которого находился склад Ливингстона, разбазарил многие товары, менял их на слоновую кость: три тысячи ярдов ситца и семьсот фунтов бус — это в Центральной Африке по тогдашним временам было почти состояние. «Это была ошеломляющая весть. Хотя я, если мне не удастся набрать людей в Уджиджи, намерен был ждать здесь, пока не прибудут люди с побережья, но я и представить себе не мог, что придется ждать, будучи чуть ли не нищим».
Оставшись без средств, Ливингстон вынужден был опять положиться на помощь арабов и к тому же снова оказался обреченным на бездействие. Маячившая было надежда получить новых людей с побережья вскоре исчезла: в окрестностях Уньяньембе африканцы, руководимые умным и храбрым вождем Мирамбо, восстали. Даже если доктор Кёрк и выслал ему новых людей, сумеют ли они добраться в Уджиджи через область военных действий, лежавшую на пути?
Ливингстону шел уже пятьдесят девятый год. Он выдержал все невзгоды африканского климата и сопутствовавшие этому болезни, но это была пиррова победа: каждый успех стоил ему здоровья. Надолго ли его хватит? Он уже не может позволить себе без пользы тратить остаток своей жизни. Его очень тяготит, что складывавшиеся обстоятельства вынуждают к этому. Никогда еще не приходилось ему попадать в столь беспросветно отчаянное положение, и это безмерно удручает его.
«И вот, когда я находился уже в самом удрученном состоянии, добрый самаритянин оказался совсем рядом.
Однажды утром ко мне прибежал Суси и, еле переведя дыхание, закричал: «Какой-то англичанин! Вон он!» — и тут же ринулся ему навстречу. В голове колонны развевался американский флаг, [227] свидетельствовавший о национальной принадлежности чужестранца. Тюки товаров, цинковые сосуды, большие котлы, кастрюли, палатки и многое другое — все это навело меня на мысль: «Это, видимо, роскошно оснащенный путешественник, не как я, зашедший в тупик»».
И это все, что смог Ливингстон записать в свой дневник о той знаменательной встрече 10 ноября 1871 года. Правда, он сбился в счете времени и этот день пришелся у него на 24 октября. Лишь четыре дня спустя он продолжает: «Это был Генри Мортон Стэнли, путешествующий корреспондент газеты «Нью-Йорк геральд», посланный Джеймсом Гордоном Беннетом-младшим, чтобы добыть достоверные сведения о докторе Ливингстоне, если только он еще жив, а в случае смерти доставить останки его на родину. На расходы ему было отпущено свыше четырех тысяч фунтов».
Удивительно трезво и спокойно звучат эти слова. За много лет впервые видит Ливингстон белого человека и говорит с ним! Он, как известно, не любит изливать свои чувства и произносить высокопарные слова. И все же у него прорывается глубокое, хотя и своеобразное чувство: «Безмерная доброта м-ра Беннета, так благородно претворившаяся в действия м-ра Стэнли, просто потрясла меня. Я испытываю чувство безграничной благодарности и в то же время какое-то смущение, как не заслуживший такого великодушия». Безмерная доброта? Великодушие? Думал ли он всерьез, что американский газетный король Гордон Беннет так, без всякого расчета, просто из чувства уважения к Ливингстону подарит четыре тысячи фунтов? И верил ли он, что для Стэнли «благородство» было той побудительной силой, которая заставила его ринуться в неведомые дебри Африки ради проявления «безмерной доброты» своего шефа? Едва ли можно было бы поверить в искренность этих слов, если бы они не были написаны Ливингстоном.
Совсем иначе изображает свой путь и встречу с Ливингстоном Стэнли: тут чувствуется торжество победителя, сумевшего вынести тысячи превратностей и одолеть множество препятствий.
10 ноября стало вершиной его журналистской карьеры. Успех экспедиции определил его будущее.
Целых два года мечтал он о том моменте, который довелось ему пережить в тот ноябрьский день в Уджиджи.
Все началось с телеграммы шефа, полученной им 16 октября 1869 года в десять утра в Мадриде: «Приезжайте немедленно в Париж — важное поручение». Пять часов спустя он сидел уже в поезде, а следующей ночью постучался в дверь мистера Беннета в парижском Гранд-отеле. Мистер Беннет был в [228] постели, но встал, как только услышал голос посетителя, и, накинув халат, впустил гостя.
— Садитесь, пожалуйста. У меня для вас поручение. Где сейчас Ливингстон, как вы полагаете?
Стэнли, которому до этого и в голову не могло прийти то, чего от него хочет босс, не задумываясь, ответил:
— По правде говоря, я не знаю.
— Полагаете ли вы, что он жив?
— И то и другое может быть, — ответил Стэнли.
— Я уверен, что он жив и его можно разыскать. Мне хотелось бы послать вас для выполнения этой задачи.
К тому времени от Ливингстона давно уже не поступало никаких вестей в Европу. Работорговцы, которым он вручал свои письма для передачи, просто уничтожали их. Не раз бывало и так: люди, прибывшие на побережье из глубинных мест Африки, утверждали, что он умер. В декабре 1866 года спутники Ливингстона с острова Джоханна, покинувшие его в трудный момент, явились в британское консульство на Занзибаре и сообщили, что он якобы убит во время нападения мазиту на экспедицию. Это событие для большей правдоподобности они расписали во всех его подробностях: будто бы, обороняясь, Ливингстон убил двух нападавших, но, когда он перезаряжал ружье, ему в затылок попал брошенный топор. Парни из Насика, сопровождавшие его, тоже якобы погибли. То, что все островитяне вернулись невредимыми, оказалось, мол, случайностью: они замыкали колонну и смогли вовремя укрыться. Эта история казалась столь складной, что султан Занзибара, британское консульство и суда, стоявшие в гавани, отдали последние почести погибшему Ливингстону: приспустили флаги. Английские газеты поместили сообщение о его смерти, вся Англия была в трауре по случаю «смерти» человека, который давно уже по праву стал национальным героем. Чтобы рассеять все сомнения, Географическое общество, поддержанное правительством, выслало экспедицию, руководимую морским офицером Э. Д. Янгом. Она добралась до озера Ньяса. Собранные сведения свидетельствовали о том, что Ливингстон жив и где-то путешествует. Всю эту историю люди с острова Джоханна выдумали, боясь наказания за самовольный уход в трудную минуту и потери вознаграждения.
Будучи зарубежным корреспондентом, Стэнли привык к необычным поручениям, но эта задача ошеломила его.
— Как?! Вы всерьез думаете, что я смогу отыскать доктора Ливингстона? И я должен отправиться в Центральную Африку?
— Да. Я полагаю, что вам следует туда поехать и поискать его там, где, по вашему предположению, он может оказаться. Найдя [229] его, вы соберете все интересные сведения, которые сумеете у него получить. Возможно, старик сидит там на мели. Прихватите с собой достаточно припасов, чтобы помочь ему, если он в чем-либо нуждается. Разумеется, вам следует выработать собственный план действия и самостоятельно принимать решения. Словом, поступайте так, как вы считаете нужным, но доктора Ливингстона отыщите!
Стэнли собрался было намекнуть о деньгах, необходимых для столь больших расходов, но...
— Возьмите со счета в банке поначалу тысячу фунтов, — продолжал излагать свои планы Беннет. — Если понадобится — еще тысячу, а истратите это — еще тысячу, не хватит — еще тысячу, и так далее, но Ливингстона все же найдите!
Весьма откровенно говорил он также и о причинах, побудивших его к этому. Разумеется, они были далеки от бескорыстия.
— Мой отец сумел добиться того, что «Нью-Йорк геральд» стала важной газетой, но я не намерен успокоиться на этом... Думаю, что наша газета должна давать читателю все, что его интересует, сколько бы это ни стоило.
— Мне все ясно, — ответил Стэкли. — Однако должен ли я ехать сразу в Африку для поисков Ливингстона?
— Нет. Я хочу, чтобы сначала вы отправились на торжества по случаю открытия Суэцкого канала, а оттуда пробрались вверх по Нилу. Есть сведения, что в Верхний Египет едет Бейкер. Разнюхайте о его экспедиции все, что удастся, а когда будете подниматься вверх по Нилу, опишите как можно подробнее то, что может интересовать туриста. Составьте путеводитель, чисто практический, о Нижнем Египте, в котором бы сообщалось обо всем, что там стоит посмотреть. Затем вы можете отправиться в Иерусалим: капитан Уоррен, говорят, сделал там недавно интересные открытия. Посетите потом Константинополь и сообщите о раздорах между хедивомp) и султаном. Затем езжайте через Кавказ к Каспийскому морю, там русские якобы снаряжают экспедицию в Хиву. Оттуда через Персию вы сможете перебраться в Индию, написав прежде интересный репортаж из Персеполя.q) Багдад также лежит на вашем пути в Индию. Было бы хорошо, если бы вы и там побывали и что-нибудь написали о железной дороге, идущей вдоль долины Евфрата. Когда вы попадете в Индию, можете попытаться узнать там что-либо о Ливингстоне. По всей вероятности, еще до этого вы [230] услышите, что он находится как раз на пути к Занзибару. Если не так, то отправляйтесь в глубь материка и ищите его там. Если он жив, постарайтесь как можно больше выведать у него об открытиях, а если его нет в живых, то узнайте обстоятельства его смерти. Вот и все. Доброй ночи! Да хранит вас господь!
Как видно, мистер Беннет не слишком-то торопился помочь Ливингстону, который, «возможно, сидит на мели».
Стэнли выполняет поручения шефа одно за другим. Наконец отплывает из Бомбея на Занзибар и 26 января 1871 года высаживается там. Никому не открывает он истинных причин, приведших его сюда, даже близким к этому делу: ни американскому консулу, у которого он остановился, ни британскому консулу — доктору Кёрку, у которого он как бы случайно расспрашивает о Ливингстоне. Всем говорит, что намерен открыть истоки реки Руфиджи. Стэнли быстро сколотил отряд: добыл вьючных ослов, запасся товарами для обмена, провиантом, лекарствами, оружием, боеприпасами и сотней других вещей, нужных для экспедиции, рассчитанной на два года. Сопровождали экспедицию полторы сотни носильщиков.
Вначале у Стэнли было такое чувство, как если бы его заставили искать иголку, затерянную в стоге сена. Но после бесед с доктором Кёрком задача оказалась много проще. У Ливингстона в Уджиджи находился своего рода базовый лагерь, и если исследователя вообще можно было разыскать, то скорее всего где-то в окрестностях озера Танганьика. Поэтому добраться до Уджиджи — первая задача Стэнли. Его отряд выступил в феврале и марте пятью партиями. Ливингстон в это время шел еще на запад, к Луалабе.
Стэнли в известной книге «Как я нашел Ливингстона» подробно рассказал о своих приключениях в пути к Уджиджи. Ему пришлось проходить область военных действий между племенем вождя Мирамбо и арабами.
Поход длился семь месяцев, и наконец Стэнли добрался до озера Танганьика, невдалеке от Уджиджи. Один из его спутников, европеец, умер в пути, другого он оставил в Уньяньембе (Таборе). Стэнли неслыханно повезло: Ливингстон только что вернулся из страны маниема и остановился в Уджиджи. Еще в пути Стэнли узнал об этом. Он нашел Ливингстона в такой нужде, что перед ним предстал действительно в образе доброго самаритянина, ниспосланного небесами для его спасения.
Стэнли со своим караваном быстро пересек последнюю цепь холмов, и перед ним открылась наконец гавань Уджиджи. Он велел колонне подтянуться. Над поселением прогремел залп из пятидесяти [231] ружей; рослый знаменосец развернул американский флаг и выступил вперед, а перед арьергардом вздымалось багряное знамя Занзибара. Время от времени повторяя залпы, караван приближался к деревне. Все жители высыпали на улицу приветствовать гостей. И вдруг улыбающийся африканец в длинном белом одеянии с тюрбаном на голове выкрикивает Стэнли по-английски: «Good morning, sir!» (Доброе утро, сэр!). Это был Суси. Сказав это, он тут же метнулся назад, чтобы сообщить доктору о прибытии американского гостя. А в это время гостю представлялся Чума.
Толпа все время росла и почти преградила путь каравану. От волнения дрогнуло сердце Стэнли. Раздвигая толпу, он, преисполненный важности, выпрямившись, как свеча, направился к выстроившимся полукругом арабам и стоявшему перед ними европейцу.
«Медленно подходя к нему, я сразу заметил, что он выглядел бледным и усталым, борода седая, на голове фуражка с выцветшим золотым околышем; одет он был в сюртук с красными рукавами и серые брюки. Мне хотелось подбежать к нему, но меня удерживало от этого присутствие людей. Я охотно бросился бы к нему на шею, но не знал, как он, англичанин, отнесется к этому. Степенно шагая к нему, я поступал так, ведомый моим малодушием и наигранной гордостью, и затем, сняв шляпу, сказал:
— Доктор Ливингстон, полагаю?
— Да, — ответил он, сопровождая слова дружеской улыбкой и приподнимая фуражку.
Я вновь надел свою шляпу, а он фуражку, затем мы сердечно пожали друг другу руки, и я в полный голос уже сказал:
— Благодарение богу, господин доктор, что мне довелось вас увидеть.
Он ответил:
— И я очень рад, что могу приветствовать вас здесь». Стэнли передал Ливингстону сумку с письмами, привезенную с собой. Но Ливингстон, прочитав письма лишь от своих детей, принялся расспрашивать о важнейших событиях, происшедших в последние годы в мире. И Стэнли рассказал ему: об открытии Суэцкого канала, об окончании строительства трансконтинентальной железной дороги в Северной Америке, о прокладке телеграфного кабеля через Атлантику, о поражении Франции в войне с Германией и пленении Наполеона III в Седане, о том, что генерал Грант, полководец северных штатов в Гражданской войне, стал преемником убитого президента Линкольна... Ливингстон внимательно слушал, его глубоко взволновали эти новости, внезапно вырвавшие его из длительной изоляции. Только теперь дошло до его сознания, насколько он был оторван от мира. Стэнли поведал [232] ему отрадную весть: его экспедиции британское правительство отпустило еще тысячу фунтов стерлингов.
Тем временем в знак гостеприимства арабы преподнесли им угощение: мясные пирожки, кур, жареную козлятину с рисом. Стэнли велел достать из багажа бутылку шампанского, припрятанную для такого случая, и серебряные бокалы. И Ливингстон, только что жаловавшийся на отсутствие аппетита, усердно принялся за еду, неоднократно повторяя: «Вы принесли мне новую жизнь!» До самой ночи вели они дружескую беседу.
«Под пальмами Уджиджи дни проходят мирно и счастливо, — писал Стэнли. — Мой друг окреп, настроение у него улучшилось». Стэнли по сути дела оказался хозяином, и довольно гостеприимным. Его повар готовил обеды для обоих; из багажа достали хорошие столовые приборы и посуду: вилки, ножи, блюда, чашки, серебряные ложки, серебряный чайник; пригодился и персидский ковер, на нем сервировал стол хорошо вымуштрованный слуга.
Вскоре к Ливингстону вновь вернулась жажда деятельности. Этого только и ждал Стэнли — его сокровенный план был давно готов. Он как бы невзначай спрашивал, бывал ли доктор на северной оконечности Танганьики. Его интересовало, соединяются ли Танганьика и расположенное севернее озеро Альберта, открытое Бейкером. Ливингстон высказал сомнения по этому поводу, но наверняка он не знал, так как в свое время ему не удалось туда добраться.
— Господин доктор, на вашем месте я попытался бы исследовать эти места еще до того, как я покину Уджиджи. Географическое общество придает большое значение такому исследованию. Там полагают, что вы единственный человек, способный провести его. Если я хоть в малейшей мере могу пригодиться вам, то, пожалуйста, можете располагать мной. Правда, в Африку я прибыл не как исследователь, но охотно согласился бы сопровождать вас. У меня есть все необходимое для этого: гребцы, ружья, ткани, бусы...
Такое путешествие вместе с Ливингстоном для Стэнли было бы великолепным случаем разузнать у доктора все, что хотел Беннет, а заодно в географических исследованиях связать свое имя с именем Ливингстона, пользовавшегося уже мировой известностью.
В тот момент Ливингстона не очень интересовало, соединяются ли Танганьика и озеро Альберта или нет, у него были свои планы. И тем не менее он принял предложение готового к услугам молодого человека, который как бы отдавал себя в распоряжение старшего и более опытного. Но на самом деле Стэнли лишь навязывал [233] ему свою волю. «Жду ваших приказаний, — заверял он. — Вы ведь слышали, даже мои люди называют вас «великим господином», а меня «малым господином». Было бы неприлично, чтобы «малый господин» отдавал приказы». Действительно, приказывал только «большой господин», но, разумеется, то, чего желал «малый господин»! Позже Ливингстон понял, что этот молодой американец отобрал у него поводья руководства. Но он, разумеется, смолчал. Нравилось ли ему это? Возможно. Ведь он был уже не тот человек, которого раньше спутники считали вспыльчивым, настойчивым, неуступчивым, поскольку он всегда подчинял их своей воле. К тому же материально он полностью зависел от Стэнли, и Ливингстону не хотелось оставаться в долгу перед человеком, которого он считал своим спасителем, — надо было хоть чем-то отплатить.
И они поплыли на север по озеру Танганьика в огромном челне, вместившем обоих путешественников, шестнадцать гребцов, двоих проводников, повара Стэнли и молодого араба. На северной оконечности озера оказалась бухта, в которую вливалась река Рузизи; реки, вытекавшей из озера, они нигде не обнаружили. Следовательно, воды Танганьики не вливаются в озеро Альберта и Танганьика не имеет связи с Нилом. Тем самым предположение, что Нил якобы берет свое начало из Танганьики, отпало, задача была выполнена. Спустя месяц путешественники возвратились в Уджиджи
За что примется теперь Ливингстон? У него не было никакого снаряжения для новой экспедиции
Стэнли предлагал ему съездить сначала в Англию, воспользоваться заслуженным и настоятельно необходимым отдыхом, а потом со свежими силами вернуться в Африку, чтобы завершить свои планы. Стэнли приводил всевозможные доводы, чтобы побудить Ливингстона съездить на какое-то время на родину. Ему, разумеется, очень хотелось привезти в Европу не только сообщение, что пропавший исследователь жив, но и показать его там. Знаменитый Ливингстон, национальный герой Англии, рядом со спасителем Генри Стэнли, высоко ценимым своим шефом, но пока еще не признанным миром! Захватывающая перспектива. Правда, прямо этого он не высказывал, но эти мысли ясно сквозили между строк дневника Стэнли. Это было бы венцом его трудов по спасению Ливингстона и вместе с тем началом собственной славы. Только ради этого стоило приложить старания, чтобы уговорить Ливингстона.
Однако сама идея побывать на родине показалась Ливингстону нелепой. Ехать в Англию, чтобы потом опять вернуться сюда? Это [234] же глупо! В глубине души он, вероятно, чувствовал: если уедет на родину, то никогда уже не отважится на такой рискованный шаг. «У меня, правда, есть страстное желание повидать семью. Письма моих детей растрогали меня... Но чувство долга твердит другое: все твои друзья не хотят, чтобы ты возвращался, не завершив своего долга, не закончив исследования истоков Нила». Он ведь обещал Мёрчисону решить эту географическую загадку, и чувство долга неотступно повелевало им. Он, конечно, не сознавался, что у него и у самого было горячее желание в споре об истоках Нила, длившемся тысячелетия, сказать последнее и окончательное слово и тем самым обеспечить себе не только бессмертие, во что он верил, но и земную славу. Ну а если бы он стремился вернуться на родину, разве он, британец до мозга костей, позволил бы себе, чтобы какой-то молодой американский газетчик доставил его в цивилизованный мир в качестве живого трофея?
«Если уж его не удастся уговорить вернуться на родину, — думал Стэнли, — то в Уньяньембе по крайней мере он согласится ехать, чтобы забрать там товары, присланные ему доктором Кёрком». К тому же Стэнли мог дать ему и свои, лежавшие там на складе. Сам он, направляясь к побережью, в Багамойо, все равно идет через Уньяньембе. Там, возможно, ему удастся достать и носильщиков.
Это предложение Ливингстон принял. Он тотчас взялся за письма и расшифровку пометок в дневнике, переписал все в большую тетрадь, чтобы передать ее через Стэнли.
27 декабря два больших челна были укомплектованы гребцами и загружены продуктами. На корме каждого развевался флаг: у Ливингстона, ехавшего со своими спутниками, — английский «Юнион-Джек», над челном Стэнли — звездно-полосатый американский флаг. Большая часть людей Стэнли шла вдоль берега Танганьики; при впадении рек в озеро, чтобы не удлинять путь пешеходов, их переправляли в челноках.
Но пришло время покинуть лодки: весь отряд, соединившись, стал пробираться пешком на восток, в направлении Уньяньембе. Во главе колонны шел Стэнли, не выпуская компаса из рук. Местные проводники не раз выражали удивление: с какой точностью определяет он путь, держа этот маленький амулет в руке. Ливингстон был не в состоянии угнаться за ним, шел с большим трудом: его ноги натерты до крови и изранены, обувь износилась. Руководство на марше он полностью передал Стэнли. Хотя в его распоряжении был осел, он шел пешком, тогда как Стэнли время от времени ехал верхом, чтобы как-то сохранить силы, так как ему приходилось заниматься еще и охотой. Обыкновенно он брал с [235] собой несколько человек и уходил вперед. Однажды после длительного марша, сделав привал, он выслал навстречу отставшему доктору китанду (носилки). «Однако мужественный старый герой наотрез отказался от носилок и весь путь до лагеря, более двадцати восьми километров, преодолел пешком».
Прошло тридцать пять дней после отъезда из Уджиджи, и вот оба путешественника с развевающимися флагами, под залпы ружей спускаются в долину, приютившую Уньяньембе. Вскоре Ливингстон, «идя рядышком» со Стэнли, вошел в очень удобный дом, «выглядевший настоящим дворцом в сравнении с его хижиной в Уджиджи».
Из своих запасов Стэнли передал Ливингстону не менее сорока поклаж: ружья, боеприпасы, инструменты, ткани, бусы, медную проволоку, лекарства и многое другое. Товары Ливингстона, хранившиеся на складе, составили еще тридцать три места. По расчетам Стэнли, этого снаряжения должно было хватить на четыре года для экспедиции в шестьдесят человек. Теперь дело за носильщиками. Где их достать? Война между арабами и вождем Мирамбо в окрестностях Уньяньембе уже утихла, но жители не отваживались пускаться в путь за пределы своей родины. Носильщиков можно было раздобыть только на побережье или на Занзибаре, да и то с трудом. «С такой поспешностью, как будто дело шло о жизни и смерти», Стэнли взялся за решение этой проблемы, чтобы Ливингстон как можно скорее смог отправиться в экспедицию, которая должна завершить его исследования. Решили, что Стэнли немедленно отправится на побережье и навербует там людей.
14 марта Стэнли вышел в путь. Ливингстон сопровождал его до тех пор, пока Стэнли не обратился к нему с просьбой вернуться.
«Мы пожали друг другу руки, — писал Стэнли, — и я вынужден был поскорее уйти, чтобы совсем не расчувствоваться».
Он торопил своих людей, шедших форсированным маршем. «Я заставлю их идти так, что они будут помнить меня. За сорок дней проделаю путь, который до этого отнял у меня три месяца».
Но, конечно, это ему не удалось. Прошло только четыре недели, а сильные ливни так переполнили ручьи и реки и заполнили каждую впадину, что приходилось двигаться с большим трудом. Нередко люди брели по пояс, а то и по шею в воде. Однажды пришлось переправляться через реку вплавь: сложив ноши, по двое гнали небольшие плотики.
Минуло пятьдесят четыре дня, и наконец 6 мая Стэнли прибыл в Багамойо. [236]
Вначале поиски Ливингстона казались просто очередным, правда самым трудным, поручением Стэнли, какое только выпадало на долю этого зарубежного корреспондента крупной газеты. Но он справился с задачей успешно: разыскал затерянного, выручил его из беды. И это событие оставило глубокий след в его душе: Стэнли пережил глубоко взволновавшую, незабываемую встречу с действительно великим человеком. Стэнли был очарован им.
Неутомимо восхвалял он добрые качества Ливингстона: душевность, «непринужденное дружелюбие», безграничное чувство долга, оптимизм, жизнерадостность, «непомерное терпение и беспредельную храбрость», а также «неисчерпаемый юмор» и заразительный смех. «В его поведении не заметишь чего-либо неестественного, нет никакой фальши, таков его душевный мир... Я прожил с ним с 10 ноября 1871 года по 14 марта 1872 года, наблюдал за его жизнью в лагере, на стоянках и на марше, и все его поведение вызывало во мне лишь беспредельное восхищение». Стэнли припоминал намеки доктора Кёрка на якобы тяжелый характер Ливингстона, ссоры и стычки его со многими участниками экспедиции на судне. «Я знаю, он очень уязвим, но у многих людей это результат высоких духовных стремлений и благородства характера. Он проявляет особую чувствительность, когда выражают сомнение и недоверие к его помыслам и критикуют его». И несомненно, восхищение Стэнли в данном случае искренне, не наигранно. Ему как журналисту, разумеется, повезло, что знаменитый исследователь оказался не просто уживчивым, но даже дружелюбным и обходительным, однако еще более выгадал от этого Стэнли как человек. Встреча с Ливингстоном явилась поворотным пунктом в его жизни, она изменила судьбу Стэнли. Не будь этой встречи, едва ли он стал бы знаменитым исследователем реки Конго.
Он был первым белым человеком, которому довелось увидеть неутомимого исследователя после шестилетнего отсутствия и одновременно последним, кому посчастливилось повидать его. Интересны впечатления Стэнли от первой встречи: «...его волосы еще сохранили коричневатый цвет, лишь виски побелели, но борода и баки совсем белые; карие глаза поразительно ясные, как у сокола. Лишь зубы выдают его возраст. Роста он немного выше среднего, полнеет на теперешних харчах, слегка сутулится: шаг у него твердый, но тяжелый, как у утомленного, надрывающегося под грузом человека. Носит он обычно матросскую фуражку морского образца с круглым козырьком, по которой узнают его во всей Африке. Одежда у него поношенная, в заплатках, но чистая до педантичности».
Так до мельчайших подробностей рисует Стэнли портрет [237] Ливингстона для современников и будущих поколений. Ну а какой же след оставил сам Стэнли в душе Ливингстона?
С удивлением узнают обычно, что, чем дольше Ливингстон находился в обществе Стэнли, тем односложнее становились записи в его дневнике. О первой встрече и первых днях, проведенных вместе, Ливингстон сообщает довольно обстоятельно. Во время поездки по Танганьике записи за день вмещались уже лишь в несколько строк, а затем на марше к Уньяньембе сократились до одного-двух предложений телеграфного стиля:
«15 декабря. В Уджиджи. Готовлюсь в поход на восток за своими товарами.
16 декабря. Вербую гребцов и проводника для похода в Тонгве».
17 декабря записей нет.
«18 декабря. Занят письмами.
21 декабря. Сильный дождь, наступило время обработки полей.
22 декабря. Стэнли заболел лихорадкой.
23 декабря. То же самое; очень болен. Дождливо, неприятно». О рождественском празднике он написал лишь несколько слов:
«26 декабря. Вчера прошел у меня грустный рождественский праздник».
В новогодний день 1872 года, отправившись нз Уджиджи в последнее путешествие, он записал следующее: «Да поможет мне всемогущий бог завершить мой труд!» Да! Именно в этом году! Он, видимо, уже чувствовал, что надолго его не хватит.
Записи января и февраля — это уже сообщения о красоте ландшафта, характере погоды, богатстве животного мира. Имя Стэнли в них появлялось лишь изредка в виде кратких замечаний, вроде таких: «Мистер Стэнли подстрелил хорошо упитанную зебру... Стэнли уложил буйвола... У Стэнли лихорадка... Стэнли болен... Стэнли стало лучше... Стэнли так болен, что нам пришлось в течение трех часов нести его в гамаке по равнине, покрытой редколесьем, с низкой травой на прогалинах...»
Даже 14 марта, день их расставания, несомненно глубоко растрогавшего Стэнли, в дневнике Ливингстона было отмечено лишь коротенькой, чисто деловой записью: «Уезжает мистер Стэнли. Я отдаю ему на попечение мой дневник, скрепленный пятью печатями». (Далее следует даже перечисление различных монет, использованных в качестве печаток.) В добавок предписание: «Не вскрывать!» И ни слова сожаления, ни капли печали, никаких сетований на возобновившееся одиночество. Нигде не найдешь упоминаний о личных переживаниях и тех впечатлениях, которые произвел на него Стэнли. [238]
Ливингстон несомненно был очень благодарен Стэнли за великодушную помощь в трудное для него время. Прибытие Стэнли помогло ему восстановить силы и испытать душевный подъем. В письмах Ливингстон иногда выражал эту благодарность. «Он предоставил в мое распоряжение все, что,у него было, — писал он о Стэнли. — Всю имевшуюся у него одежду он разделил поровну и прямо-таки навязал мне. Так же он поступил и со своими запасами лекарств, товаров и всего другого, что у него имелось. Чтобы возбудить у меня аппетит, он лично готовил лакомые блюда... Он проявил настоящую американскую щедрость. При новом проявлении доброты у меня появлялись даже слезы». Постоянная готовность помочь и почтительность Стэнли, забота о здоровье доктора, живой интерес к прежним исследованиям Ливингстона и его новым замыслам тронули этого очень одинокого человека и наполнили его чувством благодарности. «Он относился ко мне как сын к отцу», — писал он в письме к Уоллеру спустя много времени после отъезда Стэнли. Стэнли же снова и снова подчеркивал совпадение их мнений и дружбу. Однако в своем дневнике он не скрывал, что между ними всегда сохранялась отчужденность, которую едва ли можно было объяснить только разницей в возрасте. Ливингстон сам сообщал о некоторых событиях, из которых можно заключить, что он хорошо понимал духовные различия между ним и молодежью, даже старался держаться подальше от чрезмерно усердствовавших молодых почитателей.
Временами Стэнли заставал его погрузившимся в тяжелые раздумья: взор устремлен куда-то вдаль, брови сомкнуты, губы беззвучно шевелятся. Но вот Стэнли нарушил молчание: «О чем задумались, доктор?» «Эти мысли не стоят и ломаного гроша, мой юный друг. И если бы я имел хоть такую сумму, то, пожалуй, предпочел бы сохранить скорее ее, чем эти мысли»
Но нигде не проявлялось различие между ними так сильно, как в отношении к местному населению. Стэнли прямо-таки поражали снисходительность и терпимость, проявляемые Ливингстоном к какому-либо нерадивому подчиненному; он удивлялся тому спокойствию и добродушию, с которым тот шел навстречу кучке враждебно настроенных местных жителей. И он сознавался, что у него не хватило бы для этого ни выдержки, ни желания: «Мне приходилось не раз слышать, как люди, беседуя между собой, отзывались о нас: «Ваш господин, — говорили мои люди спутникам Ливингстона, — добрый, очень добрый, он не бьет вас, у него ведь золотое сердце, но наш — о! — он резок и горяч как огонь».
Однажды Стэнли сказал повару доктора, что кастрюли, в которых тот готовил, грязные. Повар на это ответил, что для его «большого [239] господина», как и для него, они достаточно чистые. «Полуобезумевший от чрезмерной дозы хинина» — так Стэнли оправдывал свое поведение, — он сбил с ног повара. Тот вскочил и бросился на него. Стэнли все же удалось вырваться. В неистовой ярости искал он, нет ли поблизости «какого-либо подходящего предмета». Но тут вмешался Ливингстон. «Я наведу порядок», — сказал он и спокойно пояснил повару, что истинный хозяин здесь Стэнли, а он, по сути дела, его гость; весь караван, продукты, товары и все другое принадлежит, мол, Стэнли, поэтому к нему надо относиться с послушанием. «Ты изрядный дурень. Пойди и попроси у Стэнли прощения».
Во время поездки к северной оконечности Танганьики во многих местах жители встречали их недружелюбно. Однажды, когда они плыли вдоль густонаселенного берега, жители забросали их камнями. Один из камней чуть было не угодил в Стэнли. «Я предложил сделать один выстрел, так, чтобы пуля легла вблизи них. Ливингстон, правда, промолчал, но всем своим видом довольно ясно показал, что он не одобряет этого».
В другой раз путешественники вынуждены были покинуть подготовленный для ночлега лагерь, так как в темноте к ним то и дело подкрадывались подозрительные фигуры. Когда лодка отчалила, появилась группа вооруженных людей, выкрикивавших угрозы вдогонку им. «Снова мою руку сдержало лишь присутствие доктора. Так хотелось послать в эту толпу парочку прицельных выстрелов, чтобы в будущем они остерегались докучать иностранцам».
После этих приключений путники высадились на пустынном песчаном берегу. Повар Стэнли разжег огонь и приготовил кофе. «Несмотря на все опасности, подстерегавшие нас всюду, принявшись за еду, мы все же были счастливы, ибо свою трапезу слегка приправили морализирующей философией, породившей у нас чувство превосходства над этими бесчисленными язычниками вокруг нас. Под влиянием кофе мокко и этой философии теперь мы взирали на них свысока, со спокойным презрением, к которому немного примешивалось и чувство сострадания». Сказано откровенно, но корреспондент газеты «Нью-Йорк геральд», несомненно, был бы ближе к истине, если бы он личное местоимение применил в единственном числе: вместо «мы» — «я»! Ибо во взглядах на местных жителей и в своих отношениях к ним Ливингстону чуждо было такое понятие, как презрение.
По поводу этих эпизодов свои чувства изливал только Стэнли. Ливингстон молчал. Но, несомненно, такие события порождали у него совершенно иные чувства.
Весьма вероятно, что постоянная зависимость от столь [240] напористого, нетерпеливого, вспыльчивого спутника и необходимость как-то приспосабливаться к нему вызывали у Ливингстона весьма неприятные чувства. Расставаясь со своим юным другом, он, видимо, сожалел об этом, но, проводив его, вздохнул все же облегченно: он снова мог планировать и проводить исследования по своему усмотрению, не оглядываясь на другого, так и оставшегося ему чуждым человека.
За неделю до того, как Стэнли прибыл в Багамойо, там высадилась британская экспедиция, собиравшаяся на поиски Ливингстона. Кроме официальных лиц в нее входил также младший сын Ливингстона, двадцатилетний Осуэлл. Экспедицию организовало Географическое общество после того, как стало известно о войне, возникшей в местности к востоку от озера Танганьика, в результате чего база снабжения Ливингстона в Уджиджи оказалась отрезанной от побережья. На эту вспомогательную экспедицию возлагалась задача установить связь с Ливингстоном и оказать ему необходимую помощь. Примечательно, что правительство отказалось выделить на это деньги. В результате Географическое общество вынуждено было прибегнуть к сбору пожертвований. За несколько недель в фонд поступило более четырех тысяч фунтов стерлингов. Само общество выделило пятьсот фунтов. Это уже дало сумму, которая позволяла начать экспедицию.
Однако едва она вступила на африканскую землю в Багамойо, как туда прибыли люди, посланные Стэнли с письмами и телеграммами для «Нью-Йорк геральд». От них стало известно, что с Ливингстоном все благополучно, что он находится в безопасном месте и получил все, что ему могло понадобиться в ближайшие годы. Теперь ему нужны были лишь носильщики. Таким образом, необходимость во вспомогательной экспедиции отпала.
На Занзибаре Стэнли завербовал для Ливингстона пятьдесят семь носильщиков. В большинстве это были его же люди. Три недели спустя они отправились в Уньяньембе.
Хотя, по словам Стэнли, Ливингстон был теперь обеспечен всем на четыре года, Географическое общество не успокоилось на этом и изыскало возможности оказать ему дополнительную помощь. В 1872 году общество снаряжает две новые экспедиции.
Одной из них предстояло пройти вдоль реки Конго от ее устья до истоков. Английские географы все больше склонялись к тому, что крупные реки Центральной Африки — Луалаба и Ломами являются притоками скорее Конго, чем Нила, как это предполагал и Ливингстон. Если это так, то могло случиться, что Ливингстон, если бы он поплыл вниз по Луалабе, оказался в устье Конго. Допустим, [241] этого не произошло бы, но и тогда была бы польза от экспедиции: она собрала бы по крайней мере новые сведения об этой малоизвестной реке. В первые месяцы 1873 года экспедиция двигалась от Луанды внутрь материка и в октябре достигла нижнего течения Конго, где на многие месяцы засела в «зимних квартирах». Здесь и застало ее известие о смерти Ливингстона, а вскоре экспедиция получила приказание вернуться.
Другая экспедиция также была послана Географическим обществом. Руководителем ее был назначен офицер военно-морского флота Камерон, ставший затем известным исследователем. В январе 1873 года он высадился на Занзибаре, а в марте отбыл из Багамойо. Вместе со своими людьми он должен был поступить в распоряжение Ливингстона. В августе экспедиция прибыла в Уньяньембе. Англичане разместились в том доме, где в последние дни проживали Ливингстон и Стэнли. О Ливингстоне ничего не было слышно уже несколько месяцев; где он находился в то время, никто не знал. Камерон заболел малярией и из-за этого задержался на несколько недель в Уньяньембе. В один из октябрьских дней ему передали письмо, принесенное неизвестным африканцем. Камерон не мог прочесть его: из-за болезни у него очень ослабло зрение. Он велел позвать человека, доставившего письмо. Это был Чума. Он принес весть о смерти Ливингстона.
С отъездом Стэнли для Ливингстона снова наступило время ожидания — терпеливого, мучительного. Снова и снова он скрупулезно подсчитывал дни до прибытия обещанных Стэнли носильщиков. Переход от Уджиджи в Уньяньембе еще раз показал Ливингстону, как сильно подорвано у него здоровье и что ни питание, ни лекарства, оставленные Стэнли, уже не помогут его восстановить. Но ведь ему предстояло только одно, последнее путешествие, которое, может быть, даст ему возможность открыть истоки реки. И тогда все: он вернется на родину и навсегда останется в Англии. Правда, и там его ожидали большие, неотложные задачи...
В конце марта зарядили дожди, вначале только по ночам, а затем они лили непрерывно каждый день. Ливингстону ничего не оставалось, как сидеть дома, писать или предаваться раздумьям. Записи в дневнике были краткими или совсем отсутствовали. Иногда это была просто молитва, иногда покорные просьбы, чтобы господь даровал ему счастье открыть так называемые истоки Геродота. [242] Ведь истоками Нила интересовался еще древнегреческий историк Геродот. Он поведал грядущим поколениям о чудесном открытии, почерпнутом им у одного египетского книжника: в Африке возвышаются две конусообразные горы — Крофи и Мофи. Между ними выбиваются четыре ключа. Два из них устремляются на север — это и есть истоки Нила; два других текут на юг. Это, по мнению Ливингстона, несомненно истоки Замбези. «Сообщение о двух конусообразных горах, как и их названия, очень похоже, выдумка», — полагал Ливингстон. Однако он верил, что существуют такие четыре истока, и стремился их разыскать. Они, полагал Ливингстон, находятся где-то между озером Танганьика и областью Катанга. Если он разыщет их, то будет решена вековая загадка.
Он прекрасно обдумал свои планы, но, хотя цель и путь к ней ему были ясны, его постоянно грызло сомнение: «Мне хотелось бы иметь какую-то уверенность, но меня угнетает сомнение: в конце концов может оказаться, что я спускаюсь вниз не по Нилу, а по Конго. И кто пожелал бы рисковать, когда перед тобой маячит перспектива попасть в котел каннибалов?» Но сомнение не покидало его, шуткой здесь не отделаешься, неуверенность сохранялась. «Я знаю слишком хорошо и то и другое, что не способствует уверенности». Луалаба могла оказаться притоком Нила с той же вероятностью, как и притоком Конго.
Находясь долгие месяцы в одиночестве в Уньяньембе, Ливингстон снова вспоминал начало своей деятельности в Африке, когда его целью были не географические открытия и исследования, а «высшая миссия» в самом широком смысле этого слова — помощь африканцам в искоренении рабства.
Тогда он впервые внял зову совести: всю свою жизнь посвятить этой борьбе. Теперь она снова заговорила в нем, и даже громче и настойчивее, чем когда-либо прежде.
Какое-то время он пытался забыть все. «То, что мне пришлось тогда видеть, — хотя это лишь обычное побочное явление работорговли, — столь отвратительно, что я постоянно старался вычеркнуть это из своей памяти». Однако ему все же не удавалось это. «Отвратительные сцены охоты за невольниками снова непрошенно всплывают в памяти, и я в ужасе вскакиваю среди ночи; они и сейчас стоят перед моими глазами, как живые».
Совершался последний перелом в этом одиноком человеке, последнее очищение и озарение, можно сказать, даже преображение. И если он все еще горел желанием увенчать крупным открытием дело своей жизни, то теперь уже совсем не ради славы. Не честолюбие гнало его на это трудное дело, нет. Этот успех усилил [243] бы его влияние в обществе и дал бы ему силу искоренить в конце концов рабство. Уже в одном из писем, переданном им Стэнли, он писал: «Если мои географические открытия действительно приведут к ликвидации работорговли на восточном побережье Африки, то я считал бы это куда большим свершением, чем открытие всех истоков рек, вместе взятых». В своем письме в «Нью-Йорк геральд» в мае 1872 года им были написаны слова, высеченные затем на его надгробии: «Вот все, что я могу сказать в моем одиночестве: пусть небеса ниспошлют великое благословение на каждого, будь он американец, англичанин или турок, кто поможет излечить эту открытую рану человечества».
Мучительно медленно тянулось время в Уньяньембе. Новые люди, по расчетам Ливингстона, могли прибыть самое раннее в середине или в конце июля. Но проходил июль, а их все не было. «Бесполезно тратить на ожидание самое лучшее время для путешествий», — писал Ливингстон 30 июля. Но на следующий день он получил радостную весточку, что люди его давно уже в пути. И наконец 9 августа прибыла первая группа из трех человек, а 15 числа пришли и остальные. Ливингстон отпустил им десять дней на отдых, а затем экспедиция тронулась в путь.
«В этом году есть еще пять месяцев, подходящих для путешествия, и весь 1873 год будет использован для этого же, а в феврале или марте 1874 года, если всемогущему будет угодно, моя работа будет окончена, и я смогу возвратиться на родину».
Экспедиция насчитывала шестьдесят два человека, не считая самого Ливингстона: пятеро надежных, проверенных за последние годы, в том числе Суси, Чума и Амода, и пятьдесят семь человек прислал Стэнли. В людях из его старого отряда Ливингстон был уверен, а остальные — парни из Насика, прибывшие из Бомбея, участники распавшейся поисковой экспедиции. От них в первое время для Ливингстона было мало проку. Поскольку они еще не привыкли, им давали лишь половинную ношу, по двадцать пять фунтов. Кроме того, на них возлагалась забота о коровах, которых экспедиция вела с собой. Один из них, Джекоб Уэйнрайт, очень способный, хорошо говоривший и писавший по-английски, позже впервые описал последние месяцы жизни Ливингстона.
Так же как и Стэнли, Ливингстон шел в обход области военных действий, в юго-западном направлении. Он двигался по засушливой равнинной местности, покрытой кустарником. Вначале все шло хорошо, но вскоре под палящими лучами солнца, висевшего на безоблачном небе, Ливингстон начал быстро утомляться. Земля под ногами превратилась в огромную раскаленную плиту, обжигавшую ступни. Пришлось уменьшить дневные переходы. [244]
На седьмой неделе они достигли озера Танганьика. Путь был тяжелый, с беспрерывным чередованием крутых спусков и подъемов. У Ливингстона постепенно иссякли силы. Уже в конце третьей недели похода, 15 сентября, он занес в свой дневник одно короткое, но выразительное слово: «Болен». На сей раз это была не надоевшая малярия, а давнишняя кишечная болезнь — дизентерия. Отдых в течение нескольких дней немного улучшил его состояние, но сказывалась слабость. Когда он не шел, а ехал верхом, состояние его ухудшалось: тряска на ухабистой горной дороге причиняла ужасную боль. Его постоянно одолевала слабость. Однако у него, видимо, никогда даже мысли не появлялось, что это предприятие ему уже не под силу и что было бы лучше вообще отказаться от него.
В ноябре начались дожди. Лишь изредка сквозь тучи проглядывали палящие лучи солнца, но вскоре ливни стали сплошными. К тому же экспедиция испытывала серьезные затруднения с продовольствием. Продукты доставались с трудом даже по дорогой цене. «Люди, посланные нами разыскать какую-нибудь деревню, вернулись ни с чем и мы вынуждены остановиться. Я болен и потерял много крови».
Ливингстона влекло озеро Бангвеоло. «Если Луалаба, текущая через это озеро, и есть Нил, то истинные истоки Нила, — размышлял Ливингстон, — надо искать где-то южнее озера. — Обходя его с юга — а это как раз и намеревался сделать Ливингстон, — неизбежно натолкнешься на нильские истоки Геродота».
К несчастью, в низменные окрестности озера Бангвеоло путники прибыли в очень неблагоприятное для них время года — в период дождей. На много миль вокруг все было затоплено водой. Это могло сломить любого, даже здорового и выносливого человека. Но только не Ливингстона. Его воля и его вера, что всевышний все же дарует ему силы и приведет к цели, если только сам он не убоится напрячь последние свои силы, никогда не были столь сильны, как теперь.
Путешественники навещают знакомые места и всюду встречают хороший прием. Но им попадаются и обезлюдевшие, разоренные, сожженные дотла деревни, где, видно, недавно побывал охотник за невольниками. Некоторые деревни, правда, оказались нетронутыми, но жители покинули их: они бежали, узнав о приближении экспедиции. Продуктов тут не достанешь.
Весь декабрь был дождливым. Многочисленные реки и ручьи с каждым днем становились все глубже и выходили из берегов. Теперь уже путешественникам надо было доставать лодки для переправы, а это вело к задержке. Дожди шли днем и ночью, [245] не переставая; бурные тропические ливни изредка чередовались с моросящим дождем. Одежда путешественников почти не высыхала, им часто приходилось ложиться во влажную постель.
И снова Ливингстон встречал рождество в Африке. В этот день путешественники отдыхали, забили вола по этому случаю. В день нового года на сей раз в дневнике Ливингстона не появилась даже молитва, взывающая к всевышнему помочь ему добраться до цели: он так болен, что не смог сделать и этой записи. Непрекращающиеся дожди, холодный ветер и плохая, трудно усваивавшаяся пища — худшего и не придумаешь для больного, ослабевшего от постоянного кровотечения человека. Теперь все жизненные силы отважного исследователя, вся его нечеловеческая воля были направлены на упорное сопротивление недугам. Он держался благодаря молоку коз, которых путешественники вели с собой.
Чем ближе цель, воплотившаяся в озере Бангвеоло, тем сильнее бушевали ливни. Весь январь стояла мокрая и холодная погода. На пути возникали все новые и новые препятствия. Продвижению мешали не только разбушевавшиеся реки, но и размокшая, превратившаяся в сплошную грязь почва, затопленная разлившимися реками. Отряд с трудом тащился по липкой грязи.
У Ливингстона уже не было сил преодолевать эту водную пустыню. Когда надо было перейти реку, люди поочередно несли его на плечах. «Прискорбно медленно» приближалась экспедиция к озеру Бангвеоло. Приходилось преодолевать переполненные реки и многочисленные болота, к тому же население относилось к путешественникам с недоверием и встречало недружелюбно. Было невозможно получить от них какие-либо сведения, они даже преднамеренно вводили чужестранцев в заблуждение.
Постоянные дожди и туманы не давали Ливингстону возможности определить местоположение экспедиции. «Дожди, дожди и снова дожди — как будто там, наверху, неиссякаемый источник. Ливни мешают обозревать местность; повсюду сырость и болота... Волей-неволей я вынужден попытаться пробираться дальше без проводника... Трудно здесь еще и потому, что на этой ровной местности не найдешь никаких примет... Целых полмесяца потеряли мы из-за этих блужданий», — читаем мы в дневнике Ливингстона.
13 февраля наконец показалось озеро. Чуть ли не два месяца понадобилось путешественникам, чтобы преодолеть последние восемьдесят миль. Считая по прямой, они делали в среднем не более полутора миль в день.
Однажды ночью Ливингстон подвергся внезапному нашествию [246] целого войска красных муравьев. Едва держась на ногах, он вышел из палатки, но муравьи не отставали от него. Двое из его людей поспешили к нему, чтобы стряхнуть муравьев и развести костер. Тяжело было Ливингстону, но и в таких условиях не угасал в нем дух исследования, он внимательно наблюдал за поведением отдельных муравьев и тщательно описал расстановку их во время нападения на человека, движение их челюстей, положение туловища во время укуса и т. д.
Все мучительнее были боли в кишечнике. И тем не менее даже в конце января Ливингстон успокаивал себя: «У меня потеря крови, но это выполняет роль предохранительного клапана: тем самым избавляюсь от малярии и других недугов». Хотя силы его с каждым днем таяли, он мог еще идти без посторонней помощи, правда только по сухой местности; суждения его были всегда здравыми и он регулярно вносил обстоятельные записи в свой дневник. В это время Ливингстон написал даже несколько писем, которые хранил у себя. Они полны непоколебимой веры, что недалек уж тот день, когда он сможет вернуться на родину. Самое длинное письмо, за которое он дважды принимался с большим перерывом, было адресовано Хорэсу Уоллеру, ставшему его хорошим другом. И удивительно, местами у него проскальзывает шутливый, поразительно задорный тон, как это было в лучшие дни. Попутно он просил Уоллера, не откладывая, поговорить с дантистом, чтобы тот мог поскорее изготовить для него зубные протезы, а также, если можно, подыскать для него и его дочери Эгнес в Лондоне приличную, но не очень дорогую квартиру.
Письмо брату, находившемуся тогда в Канаде, также свидетельствовало о твердой вере Ливингстона, что он сможет многое еще сделать во имя добра и справедливости: «Если господу будет угодно помочь мне положить конец работорговле, этому чудовищному злу, я безропотно готов перенести все эти мучения и голод... Истоки Нила сами по себе не имеют для меня никакого значения, это лишь средство, открывающее мне возможность возвысить свой голос в обществе». Воспоминания о том, что произошло в землях маниева, о кровавой бойне у Ньянгве не покидали его до конца дней. Ливингстон думал, что и на родине он сможет продолжить свою борьбу против бесчеловечности и рабства.
Достигнув северо-восточного берега Бангвеоло, экспедиция остановилась. До устья Чамбеши оставалось еще добрых пятнадцать миль. Но дальше идти пешком было уже невозможно: вся низменность оказалась затопленной. Слой воды достигал четырех-семи футов. Только кое-где над необозримой безмолвной [247] водной гладью торчали еще в виде островков тростниковые заросли, термитники, голые кустарники. Лишь нескончаемый дождь хлестал по камышу, издавая монотонный шум, и время от времени однообразие звуков нарушали пронзительные жуткие крики орланов. А где-то вдали затопленная местность незаметно переходила в озеро.
«Без лодки тут никуда не денешься: всюду вода — и сверху вода, и снизу вода... Произвести какие-нибудь астрономические наблюдения — об этом и думать нечего. Столь пасмурной и дождливой погоды мне не приходилось наблюдать в Африке». Матипа, местный вождь, обещал лодки, но не присылал. Нетерпеливо ждал их Ливингстон, то и дело посылал к вождю узнать, но безрезультатно. Из-за сырости путники не раз были вынуждены менять лагерь.
В начале марта Ливингстон лично навестил Матипу и имел с ним беседу. Вождь встретил его очень дружелюбно, выразил готовность помочь, охотно согласился по воде переправить чужеземцев к своему брату, который, мол, окажет им помощь. Ливингстон спросил его о горах южнее озера, где якобы и находятся те четыре заветных истока, о которых писал Геродот. Матипа твердо знал, что к юго-востоку и к западу от озера есть горы, но он ничего не слышал о горах на юге. В конце беседы вождь еще раз пообещал лодки, и Ливингстон, набравшись терпения, снова ждал обещанного. «Могу ли я надеяться, что добьюсь окончательного успеха? Ведь так много препятствий встречаешь на пути... К жителям я проявляю дружелюбие и искренность. Но я боюсь, что мне все же придется проявить твердость, ибо если они заметят, что нам ничего не остается, как мириться с несправедливостью, то сочтут нас легкой добычей... Смотреть на этих людей как на своих противников, конечно, противоречит моим убеждениям».
В такой обстановке Ливингстон отметил свое шестидесятилетие, и в этот день он как раз и решил предпринять более энергичные шаги в отношении Матипы, который вопреки своим обещаниям снова задержал его более чем на десять дней. Он со своим отрядом из пятидесяти человек занял деревню Матипы и, войдя в его дом, для острастки выстрелил из пистолета в крышу. Перепуганный Матипа убежал, но в то же утро его подданные пригнали три челнока, в которых разместились и отправились на юг Ливингстон и часть его спутников с багажом. Большей части людей пришлось брести пешком.
К концу первого дня путники пристали к островку, лишенному древесной растительности, перевернули лодки, чтобы можно было укрыться хотя бы на ночь от непрекращающегося дождя. Попытались [248] было установить палатку, но сильный холодный ветер вырвал ее из рук и разорвал в клочья. «Ничто на свете не заронит во мне сомнения в моем деле и не заставит меня отказаться от него. В трудные минуты мужество свое я черпаю от бога, господа моего, и иду вперед». Эту запись заносит в тот вечер в свой дневник уже тяжело больной человек.
Связь с пешим отрядом надолго была потеряна, ведь ему нередко приходилось идти в обход. В один из последних дней марта экспедиция переправилась через реку Чамбеши. Все выбились из сил Силы Ливингстона были на пределе, но не от перенапряжения, а из за непрекращающейся потери крови. «Я бледен, обескровлен, во всем теле чувствуется слабость от чрезмерной потери крови начиная с 31 марта. Из одной артерии сильно струится кровь, это уносит мои силы. А как бы хотелось мне, чтобы всевышний позволил мне довести до конца это дело!»
Когда путники высадились из лодок и пошли пешком вместе со всем отрядом, Ливингстон вновь почувствовал себя плохо. «Непрекращающееся кровотечение так подорвало мои силы, что я едва хожу. Пошатываясь, я тащился сегодня почти два часа и, обессилев, опустился на землю. Затем сварил кофе — последние остатки — и пошел дальше, но уже через час вынужден был снова прилечь. Очень неприятно и нежелательно, чтобы тебя несли, но мои люди настаивали, и пришлось согласиться — теперь они несут меня поочередно». Это записано 12 апреля. Последующие странички его дневника не содержат каких-либо жалоб на плохое состояние здоровья; занесены лишь наблюдения за растениями, рассказывается о способах ловли рыбы местными жителями, приводятся описания птичьих голосов — призывных звуков здешних горлиц и петухов, жутких криков орланов: «Кто хоть раз услышал эти странные, неземные звуки, никогда не забудет их, они всю жизнь будут звучать в ушах... Кажется, что орлан взывает к кому-то в другом мире». И все-таки Ливингстону частенькотеперьприхо-дится соглашаться, чтобы его несли «какую-то часть пути». Но отнюдь не весь путь! Он всячески старается преодолеть свою слабость.
Погода начала постепенно улучшаться, потеплело. Но однажды ночью полил такой дождь, что ветхие палатки не выдержали. Непрекращающийся дождь и непроглядная темень удручающе действовали на Ливингстона. Он долго не мог заснуть в ту ночь и чувствовал себя одиноким и беспомощным.
Но вопреки всему на следующий день он продолжает идти, хотя чаще и чаще приходится останавливаться для отдыха. 19 апреля в дневнике Ливингстона впервые появляются тревожные слова: [249] «Я непостижимо слаб; не будь у меня осла для езды, наверное, не смог бы продвинуться и на сто шагов... Из-за неодолимой слабости не могу даже вести наблюдения. Едва держу карандаш в руке, а моя палка стала уже непомерным грузом для меня. Палатки теперь нет, и мне строят хорошую хижину, где размещают и багаж». Никаких жалоб, лишь констатация фактов. Но даже в таком состоянии, преодолевая усталость, он шутливо записывает слабеющей рукой: «Исследовательская работа — это не просто удовольствие».
Последние с трудом нацарапанные записи занимают лишь полторы странички в дневнике:
«21 апреля. Пытался ехать верхом, но упал, обессилел. Меня отнесли назад в деревню и положили в хижине...
22 апреля. Меня несли на китанде (носилках)».
В последующие четыре дня в дневнике приводится лишь пройденное расстояние в милях.r) Последняя запись была сделана 27 апреля: «Совсем выбился из сил и останавливаюсь, чтобы отдохнуть, велел купить дойных коз. Мы находимся на берегу Молиламо».
То, что произошло потом, издатель дневника Ливингстона Хорэс Уоллер узнал от спутников Ливингстона — Суси и Чумы, которые были приглашены в Англию.
21 апреля Ливингстон ехал верхом на осле, но вскоре, обессилев, упал в полуобморочном состоянии. Ехать дальше он не в силах, идти также не мог. «Чума, — сказал он, — я так много потерял крови, что мои ноги совсем обессилели. Тебе придется нести меня». Осторожно приподняли его на спину Чумы, и он держался, обхватив шею слуги руками. Так донесли его до деревни и поместили в ту самую хижину, которую он только что оставил.
Затем сделали носилки, постелили на них траву, а сверху покрыли одеялом; другое одеяло натянули над носилками, чтобы защитить больного от солнца. Два человека несли носилки на плечах. Им надо было идти медленно, осторожно: малейшее резкое движение причиняло Ливингстону сильную боль. Он то и дело вынужден был просить носильщиков остановиться. Его уговаривали [250] сделать остановку на одну, а то и на две недели, чтобы немного отдохнуть и набраться сил, но он отказался.
Все чаще и чаще Ливингстон теряет сознание. Однажды он позвал одного из своих спутников, но, пока тот подошел, силы покинули Ливингстона — он уже не мог вымолвить ни слова. Все поняли, что их руководитель безнадежно болен, но сам он еще верил в благоприятный исход: даже в последние дни апреля он думал о предстоящем переходе от Уджиджи к побережью и приказывал Суси подсчитать пакетики с бусами, которые пригодятся для оплаты.
25 апреля в одной из деревень он спросил местных жителей, не знают ли они гору, дающую начало четырем рекам, — мысль о Геродоте не выходила из головы. Однако те ничего не слыхали о такой горе.
29 апреля Ливингстону стало хуже: любое движение причиняло ему такую боль, что его нельзя было даже снять с кровати и донести до китанды. Так как дверь хижины была слишком узка, разобрали стенку и поставили китанду рядом с кроватью.
В тот день предстояло переправиться через реку. Суси и Чума постелили постель на дне лодки и хотели поднять Ливингстона с носилок и перенести в лодку. Но и это было невыносимо для него. Тогда Чума нагнулся, чтобы больной обхватил руками его шею, и так перенес. Но, даже лежа на китанде, Ливингстон так страдал от боли в спине, что часто просил носильщиков опустить носилки и подождать, пока боль хоть немного утихнет.
Когда показалось какое-то селение, он попросил отнести его туда. Это была деревня вождя Читамбо, лежавшая в четырех милях юго-восточнее озера Бангвеоло. Пока строили хижину для больного, он отдыхал на китанде в тени. Вокруг столпились местные жители, с любопытством разглядывая белого человека, находившегося в полубессознательном состоянии. До них, видимо, уже дошли слухи об этом белом человеке. К вечеру хижина была готова. Ливингстона внесли в нее и уложили в постель. И как обычно, втащили туда ящики и тюки. Перед входом развели костер. Слуга, юноша маджвара, принял ночную вахту около больного: он должен был позвать Суси или Чуму, если Ливингстон проснется и что-нибудь попросит.
Утром прибыл с визитом вождь Читамбо, но Ливингстон попросил его прийти на следующий день, так как у него не было сил говорить с ним. Весь тот день Ливингстон провел в хижине. Наступил вечер, а затем и ночь... Люди, утомленные, спали в хижинах; несколько человек дежурили у костров. У всех было чувство, что Ливингстон уже не поправится. [251]
В одиннадцать часов издали донеслись какие-то громкие крики Суси тут же позвали к господину, и тот спросил его: «Это наши люди тревогу подняли?» «Нет, местные.они прогоняют буйволов со своих полей». Ответив, Суси подождал немного. Вскоре Ливингстон, медленно растягивая слова, спросил с усилием: «Это Луапула?» Суси ответил, что они находятся в деревне вождя Читамбо расположенной вблизи Молиламо. «Сколько дней пути до Луапулы?» — спросил Ливингстон на языке суахили. «Я думаю, еще дня три, господин», — ответил Суси на том же языке. Затем Ливингстон вздохнул и заснул. А Суси ушел.
Примерно час спустя дежурный снова позвал Суси. Когда тот подошел, Ливингстон попросил теплой воды и дорожную аптечку Суси принес все это. Из аптечного ящика Ливингстон взял дозу каломели и попросил затем поставить чашку воды у его постели «All right» (хорошо), — пробормотал он. «You can go out now» (теперь ты можешь идти). Это были его последние слова.
Около четырех утра юноша снова разбудил Суси. «Пойдем вместе, — сказал он, — я боюсь один». Перед тем как задремать, юноша видел, что Ливингстон стоял на коленях перед кроватью Проснувшись через короткое время, он увидел Ливингстона в том же положении.
Суси привел Чуму и еще несколько человек. Они подошли к хижине и осторожно заглянули внутрь. При свете свечи, стоявшей на коробке, можно было разглядеть больного, стоявшего на коленях рядом с кроватью; тело было наклонено вперед, голова опущена на подушку, а лицо спрятано в ладонях. Он, казалось; молился. Увидев это, люди заколебались: входить ли? Затем один из них осторожно приблизился и прикоснулся к щеке молящегося — она была совсем холодной. Давид Ливингстон был мертв.
Ливингстон был близок к своей цели, но смерть помешала ему увенчать важными открытиями его многолетние исследования в Африке. Истоки Нила так и не были найдены.
После смерти Ливингстона Стэнли в многочисленных докладах, прочитанных им в Англии, защищал точку зрения Ливингстона о местонахождении истоков Нила. Но эти взгляды встречали возражение географов Англии и Германии, приводивших веские доводы, исключавшие принадлежность Луапулы и Луалабы, открытых Ливингстоном, к бассейну Нила. Джеймс Грант, вместе со Спиком исследовавший Нил, также был противником гипотезы Ливингстона. Могучую Луалабу он считал верхним течением Конго. Надо заметить, что и Ливингстона не раз мучили сомнения [252] в правильности его предположения, но до конца дней своих он все-таки верил, что напал на истинный след истоков Нила.
Этот спор можно было разрешить, если бы нашелся смелый исследователь, который проделал бы путь вниз по течению Луалабы. Эту задачу впоследствии и взял на себя Стэнли. Он был газетным корреспондентом при британском колониальном отряде, который вел войну против государства Ашанти (современная Гана). При поддержке газет «Нью-Йорк геральд» и лондонской «Дейли телеграф» ему удалось снарядить большую экспедицию. В ноябре 1874 года Стэнли со своей партией вышел из Багамойо. Носильщики тащили разборное судно, на котором Стэнли позже объехал озеро Виктория, открытое Спиком, а также озеро Танганьика, впервые описанное еще Бёртоном. Стэнли открыл горный массив Рувензори и озеро Эдуарда и наконец добрался до Ньянгве, где Ливингстону когда-то пришлось быть невольным очевидцем кровавой расправы на рынке. Через два года после ухода из Багамойо целая флотилия лодок Стэнли начала смелое путешествие вниз по Луалабе, в результате чего было установлено, что эта река является верхним течением Конго, а не Нила. Путешествие не обошлось без жертв. В стычках с местными жителями и при несчастных случаях он потерял немало лодок и людей. Только девять месяцев спустя наконец прибыл он в устье Конго. Тем самым была раскрыта последняя большая тайна африканских рек. Правда, работы хватило еще и будущим поколениям; немало труда потребовалось, чтобы разобраться в разветвленной системе многочисленных притоков Конго.
Итак, оправдалось навязчивое сомнение Ливингстона, а смерть лишь избавила его от горького признания, что во время всех последних своих экспедиций, в течение семи долгих лет, он был жертвой собственных заблуждений: как оказалось, он открыл истоки Конго, а не Нила. И тем не менее этот крупный исследователь добился неоспоримых успехов: он открыл озера Мверу и Бангвеоло, а также реки Луапулу и Луалабу и тем самым рассеял мрак неизвестности, окутывавший до того обширное пространство в глубине Африканского материка.
Давид Ливингстон скончался, и экспедиция осталась без руководителя. Заместителя он не оставил, и никто не был готов взять на себя ответственность. А положение было критическим! Люди оказались вдали от родины, сотни миль отделяли их эг побережья, а это многие [253] месяцы пути. Сумеют ли они, не обладая мудростью и смелостью этого пожилого человека, противостоять всем опасностям, подстерегающим их на этом длинном пути? Ведь Ливингстон был для этих людей не только руководителем, но и опытным защитником.
И как быть с покойным? С инструментами, тетрадями, книгами? Мертвый, да к тому же белый человек — для африканцев это очень опасно. Что скажет вождь Читамбо? Не разумнее ли тайком захоронить где-нибудь Ливингстона и незаметно покинуть эти земли, пока Читамбо не разузнает, что произошло? И как пробираться к побережью: всем вместе или группами?
Но все получилось иначе. Весть о смерти Ливингстона в ту же ночь облетела весь лагерь. На рассвете все собрались, чтобы обсудить, как быть дальше. И тут без колебаний все высказались за то, чтобы Суси и Чума взяли на себя дальнейшее руководство экспедицией. Они были ближе всех к покойному, у них и опыта больше в таком деле: много вместе путешествовали. Единодушно решили взять с собой на Занзибар тело и личные вещи Ливингстона. Поразительное решение! Эти простые люди, отягощенные суевериями, отдавали себе отчет в трудностях такого путешествия: они подвергли бы себя опасности, если бы понесли тело чужеземца от деревни к деревне через огромное пространство, вызывая у жителей страх перед покойником и блуждающими вокруг него призраками. Могло случиться и так, что сам Читамбо преградил бы им путь и отобрал бы у них покойника, все личные вещи Ливингстона и все товары, предназначенные для обмена. То же самое в любое время могло случиться в пути. Поэтому решили утаить от Читамбо смерть Ливингстона.
Чума пошел к вождю и попросил разрешения переместить лагерь подальше от деревни. Читамбо не возражал. Но в тот же день ему стало известно о происшедшем. Он велел позвать Чуму и спросил его: «Почему ты не сказал мне об этом? Я ведь знаю, что вы прибыли в нашу страну не со злыми намерениями. Смерть ведь нередко настигает в пути». Успокоившись, Чума и Суси рассказали вождю о своих намерениях. Но он настойчиво отговаривал их и советовал похоронить Ливингстона здесь, так как доставить тело на Занзибар трудно. Когда же он убедился, что уговорить их невозможно, он разрешил им готовиться к отъезду.
Тело Ливингстона было перенесено на китанде в новую хижину. Один из членов группы, входивший ранее в состав отряда Стэнли, когда-то был слугой у врача на Занзибаре и не раз присутствовал при вскрытии трупов. Он удалил сердце и внутренности, положил их в оловянную банку и закупорил ее. Все это было предано земле. [254]
У Джекоба Уэйнрайта, парня из Насика, был молитвенник; он прочитал перед собравшимися молитвы по усопшему. Тело пересыпали солью и выставили на солнце посередине лагеря. День и ночь стоял почетный караул. По прошествии четырнадцати дней высушенный труп обернули ситцем и вложили в цилиндр из цельного куска древесной коры, тщательно отделенной от ствола. Этот гроб из древесной коры обшили парусиной и прикрепили к штанге, чтобы удобно было нести.
На стволе большого дерева, вблизи которого стоял гроб с телом, Джекоб Уэйнрайт вырезал надпись: «Ливингстон, 4 мая 1873 года». (Однако на надгробии Ливингстона в Вестминстерском аббатстве как день его смерти высечено 1 мая, поскольку, по словам Суси и Чумы, на самом деле смерть наступила рано утром первого мая.) Позже дерево это погибло, а на его месте был воздвигнут памятник. Часть ствола, на котором сохранилась надпись, была спилена и в 1900 году доставлена в Англию, где и хранится теперь в музее Географического общества.
В середине мая экспедиция тронулась в обратный путь: впереди барабанщик — молодой маджвара, за ним знаменосец с английским флагом султана,s) затем длинная цепь носильщиков, а в середине два человека несли останки Ливингстона.
Суси и Чума не пожелали возвращаться по тому пути, которым они шли сюда. Они решили проделать маршрут, намеченный еще Ливингстоном: повернули к Луапуле и двигались на север вдоль западного берега Бангвеоло. Но уже в первые дни движение застопорилось: все подхватили какую-то странную болезнь — чувство слабости, боли в конечностях; некоторые совсем хромали, в том числе и Суси. Две женщины, принимавшие участие в походе, умерли. И лишь месяц спустя люди оправились от этой напасти и смогли продолжить путь.
Наступил наконец сухой сезон — реки вошли в свои обычные берега. Большую реку, которую Ливингстон надеялся найти, они так и не обнаружили — истоков Нила здесь не было.
Караван достиг Луапулы, которая намного шире Замбези в нижнем ее течении. Достав лодки, партия переправилась через реку.
Весть о том, что чужеземцы несут с собой мертвого белого человека, неизменно опережала караван, что нередко приводило к нежелательным последствиям: жители встречали их недружелюбно, а иногда даже не пускали в деревню. Не раз приходилось путникам из-за этого располагать свой лагерь в лесу. Однажды дело дошло даже до стычки: отряд силой ворвался в крупное [255] поселение, поскольку вокруг не было сухого места — всюду болота. Применив огнестрельное оружие, они изгнали жителей и досыта наелись, воспользовавшись «трофейными» продуктами: мукой, бараниной, козлятиной и курами. Стычка неприятная; при Ливингстоне, несомненно, до этого не дошло бы. К счастью, это был единственный случай.
Озеро Танганьика отряд обошел с юга. Незадолго до этого путники узнали, что в Уньяньембе находилась английская экспедиция, которая была выслана на помощь Ливингстону и в состав которой якобы входил один из его сыновей. Поэтому Суси и Чума отказались следовать на север вдоль восточного берега Танганьики: путь этот длинный и трудный из-за многочисленных подъемов и спусков. Решили идти напрямик к Уньяньембе.
Джекобу Уэйнрайту было поручено составить отчет о болезни и смерти Ливингстона, а Чума с тремя людьми вышел вперед, чтобы побыстрее передать этот отчет английской экспедиции. Это было то самое письмо, которое передали 20 октября в Уньяньембе тяжело больному Камерону. Слух о том, что в экспедиции находился сын Ливингстона, оказался неверным.
Намерение африканцев доставить тело умершего на Занзибар лейтенант Камерон считал слишком рискованным. Возможно, что исследователь и сам счел бы за лучшее покоиться в той земле, где умерла и погребена его жена. Он ведь не раз заявлял, что предпочел бы, чтобы прах его покоился где-либо в дремучем лесу Африки, а не на каком-то переполненном кладбище в Европе. Камерон предложил похоронить Ливингстона в Уньяньембе. Однако Суси и Чума настаивали на своем, и Камерон наконец сдался.
Еще в деревне вождя Читамбо спутники Ливингстона собрали все его личные вещи, тщательно упаковали их и велели Джекобу Уэйнрайту составить опись. Они хранили их с благоговением и любовью, доставили сюда с риском для жизни, чтобы передать все, до последней мелочи, британскому консулу на Занзибаре. Но, невзирая на это, Камерон бесцеремонно приказал передать ему эти ящики. Он вскрыл их, осмотрел все и забрал оттуда инструменты Ливингстона: барометры, компасы, термометры и секстант — для дальнейшего пользования.
От Суси он узнал, что один ящик с книгами и бумагами Ливингстон оставил когда-то в Уджиджи, а незадолго до смерти сказал: «Если со мной что-нибудь случится, то ящик этот надо доставить в Англию». Поэтому Камерон прежде всего поехал в Уджиджи. А один из его офицеров, лейтенант Мэрфи, должен был вернуться на побережье. К нему присоединился морской врач Диллон, тяжело больной малярией. [256]
Камерон спросил Суси и Чуму, не хотят ли они и их люди отправиться вместе с Мэрфи; в этом случае каждый из них, выполняя роль носильщика, получил бы за это плату. Они согласились.
9 ноября все тронулись в путь: Камерон со своими людьми — на запад; Мэрфи, Диллон, Суси, Чума и их люди — на восток. На пути в Багамойо Диллон в бредовом состоянии застрелился.
В пути между африканцами и лейтенантом Мэрфи произошла ссора, так как Суси и Чума строго придерживались порядков, сложившихся при Ливингстоне, в частности рано утром отправлялись в путь. Но в конце концов обе группы экспедиции вскоре постарались уладить ссору.
Весть о том, что за груз они несли с собой, по-прежнему обгоняла их на много дней вперед, и не всюду местные жители спокойно относились к этому. Чтобы избежать ненужной враждебности, Суси и Чума прибегли к небольшой хитрости. Тайно вынули они труп из прежней оболочки и упаковали его в новую, которую затем обмотали ситцевой тканью таким образом, что вся эта упаковка выглядела как обычный тюк ткани. В старую упаковку из парусины они зашили пук травы. Взяв эту упаковку, шесть человек отправились назад, якобы для того чтобы оставить тело умершего в Уньяньембе. Отойдя немного, в густой чаще они вытащили пук травы, разбросали ее, а затем поодиночке, каждый своим путем, вернулись к отряду. В результате жители успокоились, и путники беспрепятственно продолжали свой путь в Багамойо. Туда они прибыли 15 февраля 1874 года — девять месяцев спустя после выхода из деревни вождя Читамбо.
Чума снова вышел вперед и передал отчет заместителю британского консула: доктор Кёрк в это время находился в отпуске. Британский крейсер, стоявший в гавани, уже 16 февраля принял на борт двухслойный гроб из цинка и дерева, в который положили останки покойного. И в тот же день гроб был доставлен на Занзибар. Там врачи тщательно осмотрели останки. У них не было повода для сомнений, что это останки Ливингстона. Повторный осмотр в Лондоне подтвердил это.
По указанию министерства иностранных дел гроб с останками покойного был погружен на пароход для доставки в Англию. Из всех спутников Ливингстона сопровождал его лишь один Джекоб Уэйнрайт. [257]
Саутгемптон, среда, 15 апреля 1874 года
...Все присутствующие благоговейно сняли головные уборы, когда гроб с останками Ливингстона опускали с парохода «Мальва» и устанавливали на передней палубе небольшого парового бота «Куин». На этом боте, направлявшемся к Ройял-Пирс, находились близкие Ливингстона и представители Британского географического общества.
Городские власти тем временем предприняли меры, чтобы отдать почести покойному: через весь город к вокзалу за катафалком следовала траурная процессия... На зданиях морских и других официальных учреждений, как и на иностранных консульствах, были приспущены государственные флаги. На пристани и вдоль набережной толпилась масса народа... За катафалком, запряженным двумя парами лошадей, следовала процессия: во главе — мэр города и члены муниципалитета в мундирах со всеми регалиями и траурными повязками на рукавах... а затем судьи, духовенство, священнослужители всех вероисповеданий в мантиях и головных уборах, а также представители всех видов занятий, официальных организаций и корпораций города... далее родные и близкие Ливингстона, президент и члены Королевского географического общества... президент Медицинского общества города Саутгемптон, члены этого общества и коллектив врачей, консулы многих государств...
Джекоб Уэйнрайт не был единственным африканцем, шагавшим за гробом Ливингстона. Когда траурная процессия проходила набережную, в ее ряды встал также еще один, несший белый флаг с черной каймой: «Ливингстону — другу рабов!» Над процессией прозвучали пушечные залпы — траурный салют... Протяжно и скорбно гудели колокола всех церквей города... Капелла играла траурный марш из «Савла»... на всем пути с обеих сторон процессию окаймляли толпы, все балконы были переполнены, из каждого окна высовывались люди... Но что производило наибольшее [258] впечатление во время этой процессии, так это спокойное, сдержанное поведение собравшихся людей, проявление ими глубокой почтительности; они, очевидно, были воодушевлены общим желанием выразить преклонение перед человеком, судьбу которого они оплакивали и делами которого гордились... По мнению тех, кто знает хорошо город, никогда еще не наблюдалось здесь столь огромной массы людей и столь благородного их поведения, как сегодня, в этот великолепный апрельский день, залитый солнечным светом...
В половине первого траурная процессия подходит к вокзалу. Катафалк устанавливают на открытую платформу в конце специального железнодорожного состава, который должен доставить в Лондон останки Ливингстона. Его сопровождают родственники и близкие.
В субботу Давид Ливингстон в атмосфере глубокой скорби и искренней почтительности всей нации был приобщен к выдающимся англичанам, которые удостоены чести покоиться в Вестминстерском аббатстве. Люди всех слоев, от высших до низших, стремились отдать ему последние почести...
Организация похорон была доверена специальному комитету Королевского географического общества. По прибытии из Саутгемптона до проведения траурной церемонии гроб с останками покойного был установлен в картографическом зале дома Географического общества на Сейвил-Роуз...
В субботу по приказу ее величества был доставлен большой венок из азалий и других специально подобранных цветов с надписью: «В знак уважения и восхищения от королевы Виктории». Венков было множество... В картографическом зале полукругом у гроба собрались близкие родственники покойного, представители различных британских научных обществ; из Парижа на похороны Ливингстона приехал президент Французского географического общества. Пресвитерианский священник приходской общины Гамильтон, где жили родственники покойного, отслужил предварительный молебен. Затем траурная процессия из двенадцати карет тронулась вслед за катафалком, запряженным двумя парами лошадей. За траурными каретами следовала длинная цепь частных экипажей, впереди которых экипажи ее величества, принца Уэльского, герцога Сатерленда... На улицах собралось много людей, чтобы проводить покойного; по мере приближения процессии к месту назначения людская стена становилась плотнее и плотнее; видя приближающуюся процессию, люди благоговейно обнажали головы. [259]
Немногие из желающих получили право на вход в аббатство, но тем не менее оно оказалось переполнено. Те, кому удалось получить пригласительные билеты, пришли заранее, чтобы занять место получше... Под фонарями у самого алтаря возвышался покрытый черным бархатом постамент, на котором должен был стоять гроб в начале траурного обряда. Рядом, на церковных сидениях, расположились обе дочери покойного и другие родственники.
Стрелка приблизилась к часу. Раздался звон колоколов соседней церкви святой Маргариты, а минуту спустя в храм Вестминстерского аббатства вступила траурная процессия с гробом впереди... встреченная большим хором Вестминстера, пополненным лучшими голосами капеллы Замка, храма святого Павла и Рыцарского храма. Весь пол центральной части храма устлан черным сукном...
Появилась траурная процессия, и все присутствующие встали, чтобы почтить память покойного. Далее она медленно направилась мимо открытой могилы к алтарю. Восемь человек несут гроб, олицетворяя три различных периода деятельности великого путешественника и исследователя. Впереди — генерал-майор Стилл, мистер Осуэлл и мистер Вебб. Осуэлл охотился в Африке и путешествовал вместе с Ливингстоном, а Вебб дал приют Ливингстону в своем гостеприимном доме в Ньюстедском аббатстве, когда тот писал свою вторую книгу об Африке. Оба они представляли первый, миссионерский период его деятельности. За ними шли доктор Кёрк — генеральный консул на Занзибаре, хорошо известный исследователь и борец против рабства, а также Хорэс Уоллер, участник христианской миссии епископа Макензи в 1860 году. Они помогали Ливингстону в борьбе за искоренение рабства в районе реки Шире. К ним примыкал и Янг, морской офицер, служивший на пароходе «Пионер» во время плавания Ливингстона по рекам Замбези и Шире. Третий и последний период олицетворял собой мистер Стэнли, который подготовил и провел спасательную экспедицию. Среди тех, кто удостоился чести нести гроб, оказался и совсем неизвестный человек, возбудивший, однако, у всех наибольшее любопытство, — это Джекоб Уэйнрайт, вызволенный из рабства, крещеный африканский юноша. Его присутствие как бы символизировало благие деяния того человека, которому он остался верен до конца.
Вслед за гробом шли Томас и Осуэлл Ливингстоны, родившиеся в Африке, где навеки осталась покоиться их мать. Они очень походили на своего отца. За ними шел Моффат, патриарх южноафриканской христианской миссии, тесть покойного. Сорок пять лет деятельности в Африке окрасили его доброе худощавое лицо в золотисто-бронзовый цвет, а его пышная борода побелела. За ним [260] двигалась колонна высокопоставленных друзей и знакомых покойного.
Когда гроб с телом покойного установили под висящим фонарем алтаря и родственники заняли свои места, началась траурная церемония... Затем из алтаря его перенесли в середину храма, и траурная процессия последовала за ним в том же порядке. Близкие покойного подошли к медленно опускающемуся в приготовленную могилу гробу. Взойдя на амвон, настоятель собора прочитал молитву, закончив ее словами, указывающими последнее место покойного: «От земли — к земле, из пепла — в пепел»... В то время как траурный эскорт постепенно удалялся, орган в унисон с угасающими звуками барабанов играл траурный марш из «Савла». После этого тысячам людей была предоставлена возможность пройти мимо новой могилы.
«Таймс», понедельник, 20 апреля 1874 года
Джекоб Уэйнрайт был удостоен чести присутствовать на траурной церемонии и нести почетный караул у гроба. Семьдесят лет спустя Каупланд в своей книге о последнем путешествии Ливингстона писал: «Однако было бы более справедливо, если бы Чуме и Суси, прибывшим в Англию лишь через две недели и представленным Уоллером друзьям Ливингстона, также была предоставлена возможность проводить в последний путь своего господина и нести почетную вахту у его могилы. Они, несомненно, имели большее право присутствовать там, чем любой из тех, кому пришлось участвовать в этой пышной траурной церемонии, больше даже, чем могли на это претендовать Уоллер или Кёрк».
Одна из английских газет так писала после похорон Ливингстона: «Завершить то дело, которое не удалось довести до конца Ливингстону, — долг английской нации».
Постоянные разоблачения Ливингстоном нечеловеческой жестокости работорговли привлекали внимание английской общественности, которая требовала от правительства энергичного вмешательства и искоренения этого зла, ранившего человеческую совесть. Но кроме моральных соображений были политические и экономические причины. Работорговля вела к хозяйственному упадку обширных областей.
Свой долг — искоренение работорговли — английская нация исполнила — так с гордостью утверждает английская историография. Если понятие «раб» применимо лишь в том случае, когда [261] человек представляет собой юридическую собственность другого, тогда утверждение это и гордость англичан, пожалуй, оправданны: уже в 1875 году официально были запрещены как работорговля, так и вывоз рабов из Восточной Африки и тем самым созданы препятствия для охоты за невольниками и торговли «живым товаром» внутри материка.
Уже в то время, когда Суси и Чума вместе со своими спутниками несли тело Ливингстона в Багамойо, султан Занзибара запретил работорговлю и официально закрыл невольничий рынок. Конечно, эти меры он предпринял с большой неохотой и отнюдь не по собственному желанию.
В январе 1873 года на Занзибар прибыла английская правительственная делегация с целью заключить договор между султаном и британской короной о запрещении вывоза невольников из владений султана и немедленном закрытии всех невольничьих рынков. Два месяца противился султан подписанию договора. Он опасался бунта части своих подданных, промышлявших работорговлей или пользовавшихся трудом невольников на своих плантациях. Но султану не хотелось также портить отношения и с всесильными англичанами — колеблясь, он прибег к тактике затягивания переговоров. В конце концов британской делегации пришлось уехать ни с чем. Тем самым престижу англичан в Восточной Африке был нанесен ущерб. Казалось, британское правительство не обладает достаточной силой, чтобы навязать свою волю правителям этого района.
Но произошло иначе. Доктор Кёрк получил указание потребовать от султана немедленно подписать договор, а в случае отказа пригрозить ему блокадой Занзибара британскими военными кораблями. Кёрк так и сделал. 3 июня он предъявил ультиматум султану. 5 июня 1873 года султан подписал договор, приложил свою печать, и тем самым договор вступил в силу, а рынок невольников был закрыт. Эскадра британских кораблей взяла на себя заботу пресечь регулярную доставку невольников на Занзибар и на соседний остров Пембу.
Разумеется, работорговля исчезла не сразу. Караваны рабов все еще тянулись по суше к гавани Килва, где живой товар грузили в трюмы судов. Правда, теперь судам пришлось изменить маршруты: из Килвы они шли вдоль берега на север, в Сомали. Там торговцы сбывали рабов на рынках прибрежных городов. Иногда живой товар везли обратно и контрабандным путем доставляли на Пембу. Меры, предпринятые в портовых городах, кардинально не могли решить эту проблему; необходимы были какие-то перемены и внутри материка. [262]
Доктор Кёрк был назначен генеральным консулом и вместе со своим штабом отправился в восточноафриканские страны для переговоров с видными местными вождями. В 1875 году он подготовил нечто вроде манифеста, провозглашавшего «полный запрет какой бы то ни было переправки невольников по суше» и незамедлительное освобождение тех, кто был уже доставлен из внутренних районов к портам. Султан подписал и этот манифест. Конечно, и после этого еще многие годы продолжалась, правда уже нелегально, торговля невольниками, но этими мерами был все же нанесен смертельный удар открытой, организованной, регулярной работорговле.
В сущности, ведя переговоры в Занзибаре и во владениях вождей Восточной Африки, британские политики пеклись отнюдь не об освобождении рабов. Эта благородная цель для них была лишь удобным и благоприятным предлогом для вмешательства во внутренние дела государств Восточной и Центральной Африки. Сколь ни были благородными цели Ливингстона, они непосредственно способствовали британской экспансии в Африке. Во времена Ливингстона британский промышленный и торговый капитал в Южной и Восточной Африке довольствовался дешевым сырьем и новыми рынками сбыта. Открытие золотых россыпей Витватерсранда в Трансваале (в 1885 году) и месторождений алмазов в Кимберли разожгли аппетиты промышленников — они стремились овладеть этими областями. Обмен тканей и металлических изделий на хлопок и слоновую кость отошел теперь на задний план. При правительстве Дизраэли Великобритания приступила к захвату обширных территорий в Африке, превращая их в свои колониальные владения. Тут она не стеснялась в средствах: уговоры и давление, навязывание договоров и разрыв их, когда нужно, вооруженные нападения и настоящие войны — все средства были хороши.
Сесиль Родс, по имени которого были названы две колонии (Южная и Северная Родезия), стал затем своего рода прототипом «колониального первопроходца». Он осуществлял здесь собственную экспансионистскую политику, опираясь на грубую силу, и делал это не без благословения английского правительства. Правда, Роде не смог осуществить свою заветную мечту — создать британскую империю в Африке от Кейптауна до Каира. Но Великобритания уже вступила в новую эпоху своей истории — империализм.
Британские агенты лицемерно заключали договоры с африканскими вождями о союзе и дружбе, беря их под свою защиту от бурских «убийц и грабителей». Поскольку местные жители не имели тогда никакого представления о частной капиталистической [263] собственности на землю, «им, — как пишет Ливингстон, — и в голову не приходило, что, допуская к себе чужеземцев, они могут потерять землю», а европейцы беззастенчиво воспользовались этим. Вожди, не имея ни малейшего представления о значении их уступок, в конечном счете теряли свою самостоятельность и право распоряжаться землей своего племени. Но когда перед ними раскрылась суть кабальных договоров, было уже поздно изменить что-либо — они вдруг оказывались «чужеземцами» в собственной стране.
Десятилетия спустя после смерти Ливингстона в Южной и Восточной Африке возникло множество британских колоний и протекторатов. Войну с бурами, длившуюся с 1899 по 1902 год, англичане вели с беспощадной жестокостью; буры оказывали отчаянное сопротивление, но в конце концов вынуждены были покориться В 1910 году бурские республики — Оранжевая и Трансвааль — были включены в британский доминион Южно-Африканский Союз.
В Восточной Африке Великобритания добилась прежде всего установления своего протектората над Занзибаром и прилегавшими к нему островами, а затем начала проникать в глубь материка. Под флагом борьбы с работорговлей англичане оттесняли арабских купцов все дальше и перехватывали их торговлю. Борьба Ливингстона против арабских работорговцев была в историческом плане лишь ранней стадией британской экспансии в Восточной Африке. Позже эту функцию англичане делили с германскими империалистами.
В Южной Африке на базе дешевой рабочей силы росла добыча золота и алмазов, что приносило Великобритании огромные прибыли. Старое рабовладение, когда хозяин мог распоряжаться душой и телом человека, было заменено новым, более рентабельным — наемным рабством; раб такого вида обладал личной свободой, но вынужден был продавать свою рабочую силу. Он был волен и не торговать своей рабочей силой и, голодая, мог «наслаждаться» полной свободой. Но лучшие плодородные земли, кормившие его, перешли в собственность европейских фермеров и плантаторов, и недавнему рабу не оставалось ничего другого, как снова стать товаром. Новая форма рабства лишь внешне казалась гуманнее старой. Рабовладелец старого типа вынужден был постоянно заботиться о жизни и здоровье своего раба: он ведь инвестировал в него свой капитал. Владельцы же рудников, фабрик и плантаций были озабочены лишь тем, чтобы как можно дешевле купить рабочую силу, поменьше платить работнику и по возможности использовать его до предела, не обращая внимания на преждевременную и безвозвратную потерю его сил. [264]
До этого Ливингстон, к счастью, не дожил. Он ушел из жизни, не узнав, что, путешествуя и исследуя Африку, он тем самым способствовал захвату и колонизации этого материка. Смерть избавила Ливингстона от предстоящих мук узнать трагическую судьбу своих замыслов, стоивших ему жизни.
18 апреля 1874 года в Вестминстерском аббатстве захоронили не просто великого исследователя и удивительно человечного человека — была погребена и целая эпоха открытий и исследований в Африке. С тех пор все исследования в Африке проводились наемниками колониализма и империализма. Наиболее ярким представителем новой плеяды исследователей явился Генри Стэнли, добившийся успеха в своей деятельности отнюдь не в результате любви и доверия африканцев. Бичом и револьвером проложил он дорогу для бельгийского империализма. После своего знаменитого плавания по реке Конго он в качестве представителя бельгийского короля Леопольда II участвовал в создании «независимого конголезского государства», ставшего фактической колонией Бельгии. По территории эта колония в семьдесят с лишним раз превышала саму Бельгию. В течение многих лет, вплоть до 1908 года, это было «частное владение» короля, пока бельгийское государство не выкупило его у своего же короля.
Наступило время дележа Африки между империалистическими государствами Западной и Центральной Европы. Слава Ливингстона померкла, требовался новый тип героя. И им стал жестокий авантюрист Стэнли. О Ливингстоне забыли, а если представители колониализма и говорили о нем, то лишь в пренебрежительном или в лучшем случае снисходительном тоне.
«Ливингстона во многих отношениях переоценили», — говорилось, например, в книге немецкого исследователя Африки и «колониального землепроходца» Пауля Рейхарда, написавшего биографию Стэнли («Стэнли», Берлин, 1897). «...Если учесть непомерную длительность времени, затраченного Ливингстоном на его африканские путешествия, то эффективность его исследований окажется весьма скромной. Ему не давали покоя страсть к путешествиям и непомерное тщеславие стать открывателем истоков Нила: не будь этого, он вообще ничего бы не совершил при недостатке у него пробивной силы и постоянной заботе о «бедных неграх».
«Как непохож на него Стэнли: не обремененный никакими предрассудками, бесцеремонный до жестокости, этот человек, наделенный неукротимой энергией, смело прокладывает свой путь...
Стэнли шел вперед, ломая все на своем пути... До Стэнли путешественники слишком считались с мнением и капризами [265] местных жителей. А это вело к безмерной потере времени, и дело из-за этого нередко кончалось неудачей. Стэнли впервые ввел иной метод... Он пускался в путь, не обращая внимания ни на что, кроме поставленной цели. Там, где не удавалось уладить спор мирно, ружье прокладывало ему путь»
Да, такой «пробивной силой» Ливингстон действительно не обладал. Там, где ему не удавалось решить разногласия миром, он предпочитал скорее отказаться от своего замысла, чем оружием прокладывать себе дорогу. И вряд ли кто посмеет утверждать, что так поступал он из-за недостатка мужества. Столкнувшись с опасностью, он не хватался тотчас же за ружье, как это делал Стэнли. Ливингстон всегда пытался уладить дело мирно, проявляя при этом необходимое спокойствие и терпение, а его неожиданная улыбка в опасной обстановке часто обескураживающе действовала на «грозного» противника — едва ли были такие люди, которые могли бы внушить ему страх. «Ему неведом был страх», — говорил о нем его друг и многолетний спутник доктор Кёрк.
На северной окраине озера Ньяса есть город Ливингстония и горы Ливингстона; в Замбии недалеко от водопада Виктория есть город, носящий имя Ливингстона, и если бы не Стэнли первый проехал по реке Конго, то она, наверное, могла бы называться именем Ливингстона. Но в Южно-Африканской Республике до сих пор не чтут Ливингстона. Слишком велики различия между тем, что он проповедовал и к чему стремился до последних дней своей жизни, и тем, о чем мечтают и что вершат сейчас господствующие классы в Южной Африке. В арсенале защитников современных режимов нет ничего, что дало бы им возможность исказить облик неутомимого борца с расовыми предрассудками и расовой ненавистью. Самое большее, что они могут сделать, — это умолчать о выдающемся исследователе, вытравить из памяти людей его имя, что они и делают.
Ливингстон писал об африканцах: «У меня не выработалось никаких предубеждений в отношении их цвета кожи, и действительно, кто долго живет среди них, забывает, что они черные и воспринимает их просто как одну из групп людей». Как известно, вера в благо библейского слова прочно держала Ливингстона в своих тенетах всю жизнь. По сути дела он и не вышел из круга понятий о морали и приличии, господствовавших в то время в странах Европы. Едва ли понял он всю аморальность буржуазного общества, в котором жил. И тем не менее своими взглядами на отношения с африканцами он намного опередил свое время.
Ливингстон был противником неоправданного насилия: подвергшись нападению, он лишь в крайнем случае прибегал к оружию. [266] Но он не раз призывал все племена к единству, к совместному сопротивлению охотникам за невольниками и работорговцам. Именно поэтому никто из тех, кто ратует за отрицание насильственного сопротивления угнетенных завоевателям, не взывает к авторитету Ливингстона.
Если бы Ливингстон дожил до того времени, когда в Южной Африке утвердился апартеид, когда вокруг золотых приисков и вблизи крупных городов там были созданы специальные лагеря для негров-рабочих, где царят нужда и нищета, бесправие и гнет, его совесть, бесспорно, повелела бы ему встать на сторону африканского национально-освободительного движения.
Сколь ни были значительны заслуги Ливингстона в исследовании Африки, одни они никогда не возвысили бы его над такими исследователями, как Спик и Стэнли. Его отличали благородство, преданность высоким идеалам и гуманность, проявившиеся в искренней, неподдельной любви к народу Африки. Именно благодаря этому Давид Ливингстон стал величайшим исследователем Африки.
В этой книге нет вымышленных лиц и событий. Изложение в целом основывается на достоверных источниках. Некоторые факты взяты из справочных изданий, вышедших в последние годы. Цитаты, приведенные без ссылок, взяты из печатных работ и дневников Ливингстона; они даны в переводе автора (Г. Вотте). В отдельных случаях были использованы немецкие переводы. Сокращенные сообщения о похоронах Ливингстона из газеты «Таймс» также даны в переводе автора.
Старые меры длины — футы, ярды, мили — сохранены. Чтобы дать возможность сделать пересчет, приводим таблицу перевода их в метрическую систему:
1 фут = 0,305 метра.
1 ярд = 3 футам = 0,914 метра.
1 английская миля = 1609,3 метра. [267]
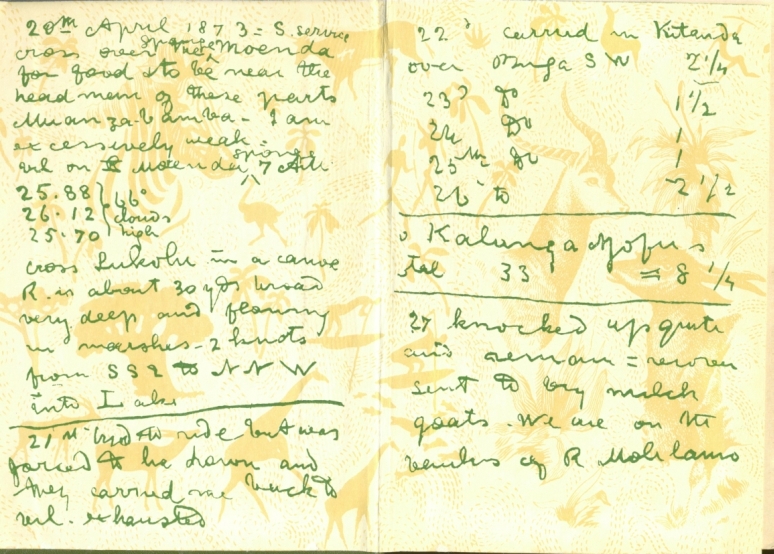
[Форзац]
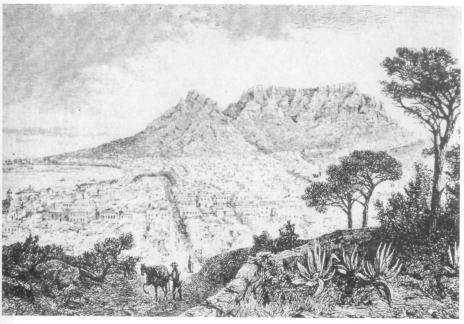
Кейптаун времен Ливингстона

Порт-Элизабет — исходный пункт первого путешествия Ливингстона

Соляные блюдца
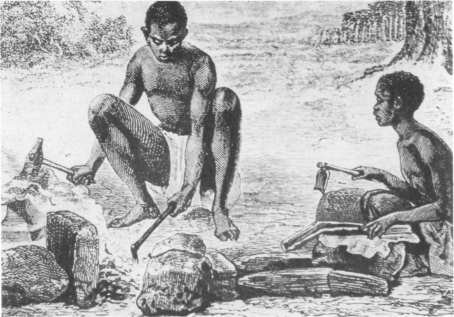
Кузница маньянджа
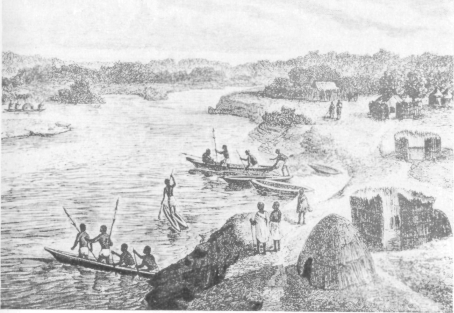
Гавань Сешеке на Замбези
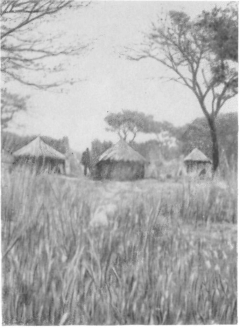
Поселение Линьянти
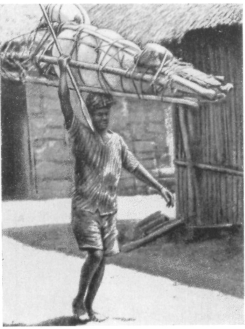
Горшечник на пути к рынку
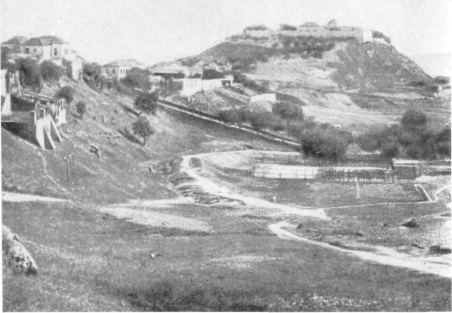
Луанда, куда Ливингстон прибыл в 1854 году
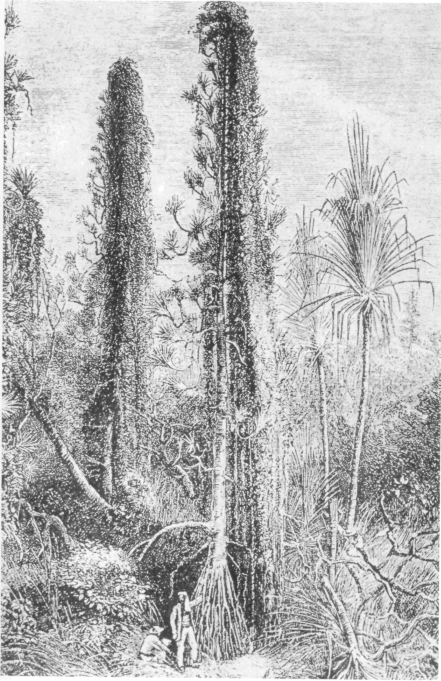
Винтовая пальма, оплетенная вьющимися растениями

Пороги Кебрабоса

Музыкант

Плетение циновок на Занзибаре

Перед водопадом Виктория Замбези разветвляется на два рукава
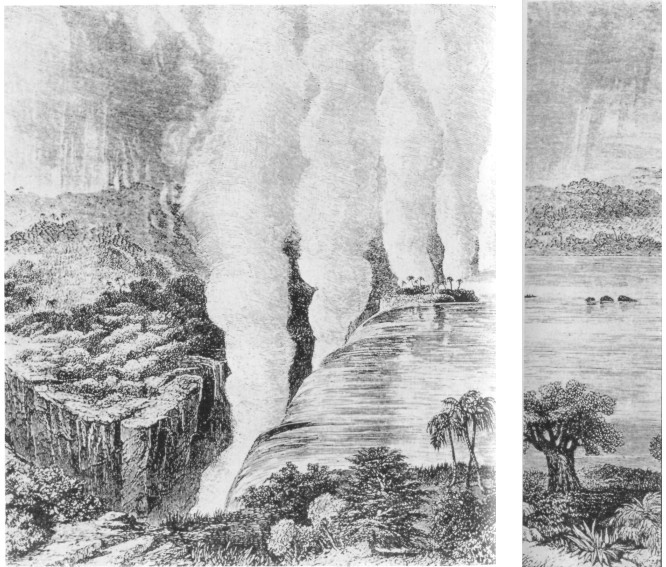
«Гремящий пар» — водопад Виктория
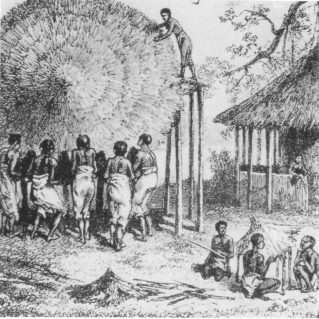
Женщины сооружают хижину в районе Замбези

Хижина вблизи озера Ньяса

Женщины племени батва в кожаной одежде с орнаментом (район озера Бангвеулу)

Помещение с лесенкой для хранения припасов вблизи озера Танганьика

Охота на антилоп

Возвращение с охоты
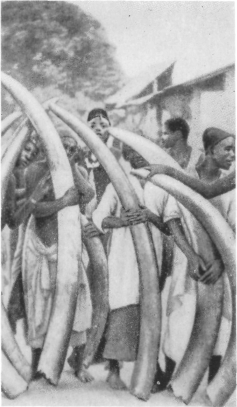
Люди из района Кингани со слоновой костью

Вечернее купание слонов

Уджиджи. Дом, где жил Ливингстон. Рядом помещение аукциона по продаже рабов

Один из рукавов Замбези вблизи Келимане
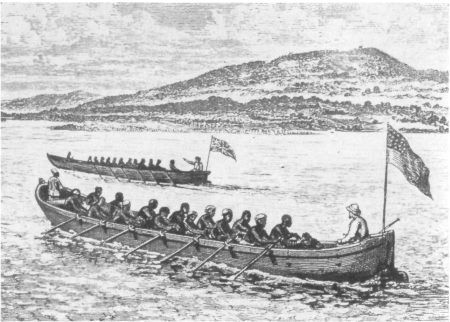
Плавание Ливингстона и Стэнли по озеру Танганьика

Путешествовать по Африке во времена Ливингстона было очень трудно
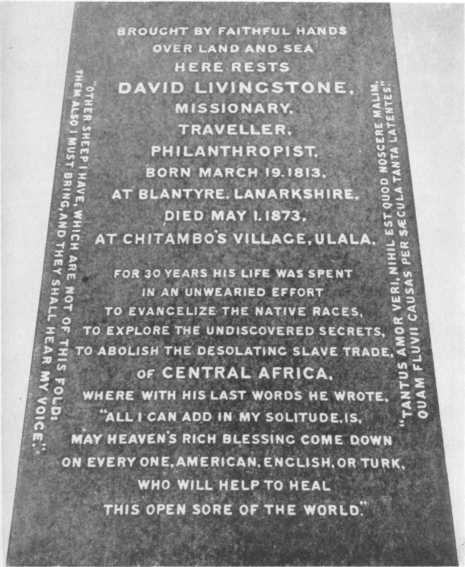
Надгробие Ливингстона в Вестминстерском аббатстве

Гавань Багамойо, откуда отплывали в заморские страны многочисленные суда, перевозящие рабов
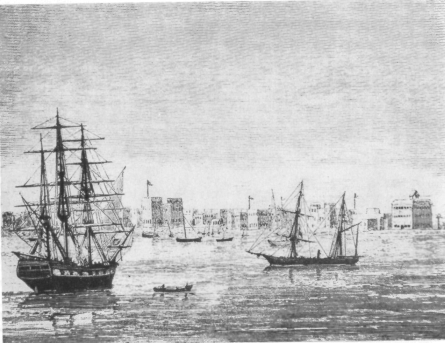
Вид на город Занзибар
1) После захвата Капской колонии англичанами прежнее голландское наименование ее главного города — Каапстадт — было заменено английским — Кейптаун. Оба эти названия означают одно и то же — «город мыса» (имеется в виду мыс Доброй Надежды). Г. Вотте использует в своей книге соответствующее немецкое название — Капштадт (оно было употребительным также и в русской дореволюционной литературе). В русском переводе настоящей книги принято название Кейптаун, фигурирующее и в трудах Ливингстона, и на наших картах.
2) За последнее столетие озеро Нгами действительно сильно сократилось в размерах, но все же не исчезло окончательно; только западная часть прежней озерной котловины превратилась в болото, в восточной же части еще сохраняется довольно обширное открытое водное пространство.
3) Заслуживает внимания одна любопытная особенность путешествия Ливингстона из района среднего течения Замбези в Анголу, справедливо подчеркнутая советским историком-африканистом И. И. Потехиным: «Это была очень своеобразная экспедиция, совершенно непохожая на все другие экспедиции. За спиной Ливингстона не было никого, кроме Секелету с его народом. Ни одно европейское правительство или какая другая европейская организация не ставили перед Ливингстоном каких-либо задач, и никто его не финансировал. Ливингстон был единственным европейцем в этой экспедиции, все остальные его участники — макололо; основные средства для экспедиции были даны Секелету. По существу это была экспедиция, которую отправил к морю Секелету под руководством Ливингстона» (И. И. Потехин. Бассейн Замбези. Географические исследования и колониальный раздел. — В кн.: Д. Ливингстон, Ч. Ливингстон. Путешествие по Замбези с 1858 по 1864 г. М., 1948, стр. 21).
4) Автор упоминает здесь имена нескольких путешественников, внесших наряду с Ливингстоном наибольший вклад в географическое исследование Восточной и Центральной Африки в 50-70-х годах XIX века. Англичане Ричард Фрэнсис Бёртон (1821 — 1890) и Джон Хэннинг Спик (1827 — 1864) первыми из европейцев проникли в 1857 — 1859 годах в глубь материка с восточного побережья напротив острова Занзибар и в 1858 году открыли озеро Танганьика; в том же году Спик в самостоятельном маршруте открыл крупнейшее в Африке озеро Виктория и высказал правильное предположение о его принадлежности к системе Нила. В 1860—1863 годах Спик в сопровождении Джеймса Огастеса Гранта (1827—1892) совершил новое путешествие в область Великих озер Восточной Африки; он открыл крупнейший приток озера Виктория — реку Катера (ныне считающуюся главным истоком Нила) и сток того же озера — реку Виктория-Нил. Тем самым издавна занимавшая географов проблема истоков Нила была принципиально разрешена, однако отдельные звенья верхненильской озерно-речной системы еще оставались непрослеженными, ввиду чего ее целостность ставилась многими учеными под сомнение. В 1864 году [268] англичанин Сэмюэл Уайт Бейкер (1821—1893) открыл еще одно звено этой системы — озеро Альберт (ныне значащееся на картах под названием Мобуту-Сесе-Секо, по имени президента Республики Заир). Весьма важной вехой в истории исследования внутренней Африки явилась англо-американская трансафриканская экспедиция 1874—1877 годов под руководством Генри Мортона Стэнли (1841—1904). Пройдя от побережья Индийского океана к озеру Виктория, Стэнли совершил по нему круговое плавание и тем самым установил целостность этого огромного водоема (до того оспаривавшуюся некоторыми географами); в дальнейшем он открыл еще одно принадлежащее к системе Нила озеро — Эдуард, обследовал часть течения реки Катера, объехал кругом озера Танганьика и наконец, спустившись вниз по течению незадолго до того открытой Ливингстоном реки Луалаба, выяснил, что она является не чем иным, как верховьем Конго. О более раннем путешествии Стэнли в Африку, в 1871—1872 годах, связанном с поисками пропавшего без вести Ливингстона, достаточно подробно рассказано в книге Г. Вотте. Впоследствии Стэнли совершил еще два больших путешествия в Центральную Африку, в 1879—1884 и 1887—1889 годах, выполняя политические задания империалистических держав и занимаясь географическими исследованиями лишь попутно.
5) Ливингстон считал главным истоком Замбези реку Кабомпо, а Либу — ее притоком. Ныне принята противоположная точка зрения: та река, которая была известна Ливингстону под названием Либа, значится на картах как Замбези, Кабомпо же считается ее притоком.
6) Встреча Ливингстона с Чиприану произошла на берегах Кванго — крупнейшего левого притока реки Касаи. По пути в Анголу и обратно Ливингстон смог ознакомиться как с самой Касаи в ее верхнем течении, так и с многочисленными ее притоками, через которые ему пришлось последовательно переправляться. Основываясь частично на собственных наблюдениях, частично на рассказах местных жителей, он составил себе принципиально верное представление о конфигурации речной системы Касаи и правильно определил ее принадлежность к бассейну Конго, но ошибся, приписав Касаи роль главного истока этой великой африканской реки: в действительности Касаи является ее крупнейшим левым притоком. Истинное верховье Конго — реку Луалаба — Ливингстон открыл позже, в 1871 году.
7) Автор допускает ошибку, утверждая, что португальцы обосновались в Анголе еще в 1490 году. Приблизительно к этому времени относится начало португальского дипломатического, идеологического и торгового проникновения в государство Конго, располагавшееся по обе стороны нижнего течения одноименной реки (первыми из европейцев в столице этого государства побывали участники морской разведывательной экспедиции Диогу Кана 1484—1486 годов, а в 1491 году сюда прибыло большое португальское посольство, которому удалось, в частности, убедить короля Конго принять христианство). Начало же португальской колонизации Анголы было положено только в 1575 году военной экспедицией Паулу Диаша ди Новаиша, главным результатом которой было упоминаемое Г. Вотте основание города Луанда, точнее, укрепленного поселения Сан-Паулу-ди-Луанда, ставшего опорным пунктом для последующих завоеваний и ядром современной столицы Анголы.
8) Речь идет о «помбейруш» (странствующих торговцах, ед. число «помбейру», португ.) Педру Жуане Баптисте и Амару (по другим данным — Анастасиу) Жузе. Эти два португальских мулата в 1802 году выступили из Касанже в Анголе в северовосточном направлении, побывали в государстве Лунда (Муата-Ямво), затем в княжестве Казембе, находившемся в вассальной зависимости от Лунды, и в 1811 году добрались до Мозамбика, завершив, таким образом, первое исторически доказанное пересечение Центральной Африки от одного океана до другого; после этого они вернулись в Анголу, повторив тот же маршрут в обратном направлении. Записанные португальскими колониальными чиновниками рассказы неграмотных «помбейруш» содержали перечисление встречавшихся на их пути географических [269] объектов — рек, гор, селений, однако положить эти данные на карту ввиду их запутанности было крайне затруднительно.
Еще одно «доливингстоновское» пересечение Центральной Африки от Анголы до Мозамбика принято связывать с именем португальского купца Антониу Франсишку Феррейры да Силва Порту (1817—1890). По сообщению английского географа Дж. Мак-Куина, впервые оповестившего научную общественность об этом путешествии (в 1860 году), Силва Порту проделал его в 1852—1854 годах в обществе нескольких арабских купцов из Занзибара, которые возвращались на восточное побережье материка из большой торговой экспедиции, приведшей их в Анголу. Переправившись через Замбези ниже места впадения Кабомпо, путешественники двинулись на восток более или менее параллельно среднему течению Замбези (но значительно севернее этой реки), вышли к долине ее левого притока Шире, проследовали между озерами Ньяса и Ширва (не увидев ни того, ни другого) и в конце концов достигли побережья Индийского океана близ устья Рувумы. Подлинность этого трансафриканского путешествия никогда не вызывала сомнений, но существуют сомнения относительно лица, его совершившего: в литературе приводились свидетельства того, что Силва Порту дошел с арабами только до верховьев Замбези, дальнейший же путь проделал вместе с ними его доверенный слуга-африканец. Так или иначе эта экспедиция, как и путешествие «помбейруш», осталась почти бесплодной для науки и не идет ни в какое сравнение с трансафриканским маршрутом Ливингстона, географические результаты которого совершенно преобразили карту внутренней Африки.
9) Родерик Импи Мёрчисон (1792—1871) — выдающийся английский геолог, внесший существенный вклад в изучение геологического строения Великобритании, Центральной Европы, а также Европейской России; с его именем связано выделение силурийской, девонской и пермской геологических систем (периодов). Мёрчисон живо интересовался географическими исследованиями и неоднократно избирался на пост президента Королевского географического общества; он принимал активное участие в организации исследовательских экспедиций в Африку, в том числе двух последних экспедиций Ливингстона (в 1858—1864 и 1866—1873 годах).
10) Открытие озера Ньяса Ливингстоном было по существу открытием вторичным: первым из европейцев это озеро повидал еще в 1616 году португальский путешественник Гашпар Букарру. Однако сведения о его открытии оказались погребенными в португальских государственных архивах, и само имя этого первопроходца было надолго забыто (Ливингстон, например, о нем ничего не знал). За два с половиной столетия, истекших со времени путешествия Букарру, португальцы не только не пополнили, но и в значительной степени утратили имевшиеся ранее географические знания о территориях, непосредственно прилегающих к их владениям в Мозамбике. Свидетельства очевидца, каким был Букарру, смешались с издавна (еще с античных времен!) ходившими смутными слухами о том, что где-то в глубине Африки существуют большие озера. Озеро Ньяса, как и другие восточноафриканские озера, то появлялось на географических картах, то исчезало и только благодаря Ливингстону заняло наконец на них прочное положение.
11) Собранная Ливингстоном информация об «озере Бемба» относилась к озеру Бангвеулу (Бангвеоло), которое было открыто им же позднее, в 1868 году. Бемба — народность, населяющая северную половину современной Замбии (в том числе и район озера Бангвеулу) и соседние районы Заира. {В книге место сноски не обозначено, ставлю по смыслу. HF.} [270]
a) В 1857 году в Лондоне вышла первая книга Ливингстона — «Путешествие по Южной Африке с 1840 по 1856 г.», а уже в 1862 году в Петербурге появился ее русский перевод, повторно выпущенный в 1868 году. В 1947 и 1955 годах эта книга издавалась в СССР в новом переводе. Через два года после выхода в Лондоне следующей книги Ливингстона, написанной им с братом Чарлзом, — «Путешествие по Замбези с 1858 по 1864 г.» — в России в 1867 году появляется ее перевод, а в советское время она дважды переиздается — в 1948 и 1956 годах. Посмертная книга — «Последние дневники Давида Ливингстона в Центральной Африке с 1865 г. и до его смерти», подготовленная к печати Горацием Уоллером, вышла в Лондоне в 1874 году. В 1876 году в России был опубликован краткий пересказ этой книги, а в 1968 году издан ее полный перевод под названием «Последнее путешествие в Центральную Африку».
b) И. И. Потехин. Стэнли, географические исследования и империалистический раздел Тропической Африки. — В кн.: Г. Стэнли. В дебрях Африки М., 1948, стр. 17.
c) И. И. Потехин. Бассейн Замбези. — В кн.: Д. и Ч. Ливингстон. Путешествие по Замбези. М., 1948, стр. 32.
d) См. примечание 1 в конце книги. — Прим. ред.
e) Александр Селкирк, шотландский матрос, земляк Ливингстона, был прославлен Дефо под именем Робинзона Крузо. — Прим. авт.
f) Метательное копье длиной около двух метров с железным наконечником; боевое и охотничье оружие многих племен Африки, особенно юго-восточных банту. — Примеч. пер.
g) Bellevue (фр.) — в переводе «прелестное местечко». Так нередко называются поселения во Франции и некоторых других странах. Видимо, первым поселенцам пришлось место по душе. Для супругов Ливингстон это название ассоциировалось со счастливым для них событием — рождением сына. — Примеч. пер.
h) Нимрод — легендарный библейский отважный охотник — Примеч. пер.
i) Замбези, достигающая в ширину 1808 метров, низвергается с уступа высотой 119 метров в узкую — шириной от 40 до 100 метров — трещину в базальтах, которая продолжается в сторону от реки еще на 50 километров. — Примеч. авт.
j) Бывшая британская колония Северная Родезия — ныне независимое африканское государство Замбия. — Примеч. пер.
k) Речь идет об озере Ньяса; ныне оно называется также Малави, по названию живущей там народности. — Примеч. пер.
l) У. Гладстон — британский реакционный политический и государственный деятель, неоднократно занимал министерские посты и пост премьер-министра. Гладстон известен как защитник рабства в колониях, выступал в поддержку рабовладельцев южных штатов в США (1861—1865). — Примеч. пер.
m) Так в книге. HF.
n) Сипай (хинди) — воин, солдат. — Примеч. пер.
o) Казембе в переводе с местного языка означает военачальник. — Примеч. пер.
p) Хедив — титул наследных правителей Египта (1866 — 1914 гг ) — Примеч. пер.
q) Персеполь — столица древней Персии, севернее нынешнего Шираза. — Примеч. пер.
r) В русском переводе дневников Ливингстона сказано, что в последние четыре дня он записывал в нем только даты. На самом деле, как видно на фотоснимке соответствующей страницы дневника, там против каждой даты есть цифры. Вотте расшифровал их как пройденное расстояние в милях. Но вряд ли это верно. Судя по дополнениям в дневнике, сделанным издателем на основе рассказов спутников Ливингстона, можно прийти к заключению, что эти цифры означают время, проведенное в пути каждый день. — Прим. пер.
s) Так в книге. HF.
Написать нам: halgar@xlegio.ru