
Сайт подключен к системе Orphus. Если Вы увидели ошибку и хотите, чтобы она была устранена, выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 |
Сайт подключен к системе Orphus. Если Вы увидели ошибку и хотите, чтобы она была устранена, выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. |
 |
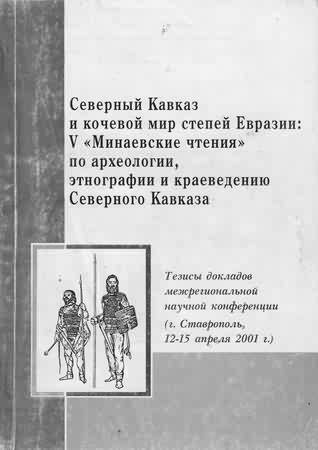
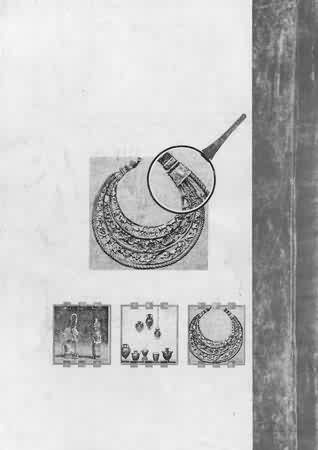
Министерство образования Российской Федерации
Ставропольский государственный университет
Ставропольский государственный краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве
Настоящее издание посвящено актуальным проблемам древней, средневековой и современной истории населения Северного Кавказа в археологическом, политическом, культурном, этнографическом аспектах.
Рассчитано на научных работников, студентов высших учебных заведений, широкую аужиторию читателей.
Издательство Ставропольского государственного университета 2001
тираж 200 экз.
[3] - конец страницы.
Секция археологии Северного Кавказа и Нижнего Подонья
Ковалевская В.Б. (Москва). Новые и традиционные подходы к проблеме взаимоотношений степного мира и местного населения Кавказа
Отюцкий И.В. (Ставрополь). О саратовском периоде в биографии Т.М. Минаевой
Гусев С.В. (Москва). Формат геоинформационного описания для памятников археологии
Манько В.А. (Луганск). О взаимодействии культур позднего неолита Кавказа и Подонечья
Нечитайло А.Л. (Киев). О сходстве артефактов энеолитических поселений и погребений Северного Кавказа
Телиженко С.А. (Луганск). О связях нижнего Подонья со средним Подонечьем в позднеэнеолитическое время
Ильюков Л.С. (Ростов-на Дону). Кусочки каменного угля в погребальной практике племен катакомбной культуры нижнего Дона
Мошинский А.П. (Москва). Ажурные булавки протокобанской эпохи (к вопросу об относительной хронологии дигорской культуры)
Кривицкий В.В. (Санкт-Петербург). Бронзовые пояса центрального Кавказа (образно-стилистический анализ)
Ларенок В.А., Потапов В.В. (Ростов-на-Дону). Древнейший некрополь Кобякова городища
Дударев С.Л. (Армавир). К вопросу о датировке второй нижнекуркужинской стелы
Кудрявцев А.А., Галаева В.Н. (Ставрополь). Грунтовое погребение кобанского времени могильника № 2 татарского Городища
Копылов В.П. (Ростов-на-Дону). Ранний этап греко-варварских связей на северном Кавказе (VII - первая половина VI вв. до н. э.)
Петренко В.Г., Канторович А.Р., Маслов В.Е. (Москва). Большой курган раннескифского элитарного могильника "Новозаведенное-II"
Максименко В.Е. (Ростов-на-Дону). Ритуально-поминальный комплекс V века до н.э. в могильнике "Частые курганы" на нижнем Дону
Ключников В.В. (Ростов-на-Дону). Предметы конского снаряжения, выполненные в традициях скифского звериного стиля, из кургана 1 могильника "Частые курганы" на Нижнем Дону
Прокопенко Ю.А. (Ставрополь). Из истории изучения склеповых могильников IV-III вв. до н.э. в центральном Предкавказье
Берлизов Н.Е. (Краснодар). Поздние скифы на северном Кавказе
Кудрявцев А.А. (Ставрополь). К вопросу об этно-социальной принадлежности погребенных могильника № 2 Татарского городища
Колесниченко К.Б. (Ставрополь). К вопросу о технологии производства керамики Татарского городища в IV-III вв. до н.э.
Глебов В.П. (Ростов-на-Дону). Сарматы юга Ростовской области (о различных вариантах раннесарматской культуры)
Прохорова Т.А. (Ростов-на-Дону). Посвящение коня покойнику
Схатум Р.Г. (Краснодар). Войско оседлых племен С-3 Кавказа в позднемеотский период (сер. I в. до н. э. - нач. III в. н. э.)
Цуциев А.А. (Владикавказ). События в Центральной Азии и появление алан в Юго-Восточной Европе
Туаллагов А.А. (Владикавказ). К вопросу об аланском этногенезе осетин
Яценко С.А. (Москва). О шаманстве у алано-осетин
Грозная О.Г. (Минеральные Воды). Общий анализ источниковой базы по раннесредневековой аланской истории в англо-американских исследованиях
Гаджиев М.С. (Махачкала). К изучению Limes Caspius
Семенов И.Г. (Махачкала). К локализации савир (по данным "Армянской географии" VII в.)
Иванов А.А. (Ростов-на-Дону). Серьги из раннесредневековых кочевнических захоронений в курганах с ровиками Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья
Гутнов Ф.Х. (Владикавказ). Воин-купец в истории Юго-Восточной Европы
Ларенок П.А. (Ростов-на-Дону). Хазария и нижний Дон
Белик А.А., Брехач М.Г. (Харьков). Относительная хронология Красногорского могильника салтовской культуры
Плужник Д.А. (Нижний Архыз). О некоторых находках в окрестностях Н-Архызского и Кяфарского городищ (к вопросу о дохристианских верованиях алан)
Демаков А. А. (Нижний Архыз). Архызский лик - факты и мифология
Варченко С.Ф., Таволжанская Н.С. (Зеленчукская). Раскопки двух курганов в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики
Найденко А.В. (Ставрополь). Некоторые вопросы истории населения Ставропольской возвышенности VII-X вв.
Нарожный Е.И., Соков П.В. (Армавир). Еще раз к вопросу о датировке могильника № 1 у x. Горькая Балка
Красильников К.И., Красильникова Л.И. (Луганск). Изделия кухонного и специального назначения из степного Подонцовья VIII - нач. X вв.
Прокофьев Р.В. (Ростов-на-Дону). Памятник "кочевого земледелия" VIII-X вв. на Нижнем Дону
Аксёнов B.C. (Харьков). Контакты венгров с аланами в IX веке - взаимопроникновение культур
Рудницкий P.P. (Железноводск). Два древнерусских креста-складня с Развальского городища
Пьянков А.В. (Краснодар). Касоги/касахи/кашаки письменных источников и археологические реалии Северо-Западного Кавказа
Прокопенко Ю.А. (Ставрополь). Половецкое изваяние из поселка Радуга
Нарожный Е.И. (Армавир). Еще раз о связях населения Подонья с Северным Кавказом в XIII-XIV веках
Малахов С.Н. (Армавир). Еще раз о локализации золотоордынского города Бездеж
Кузнецов В.А. (Минеральные Воды). Адыгское феодальное владение Кремух
Нарожный Е.И., Нарожная Ф.Б. (Армавир). К своду монетных находок XIII-XV вв. на территории республики Дагестан
Федоров Г.С, Гаджиахмедова К.Н. (Махачкала). Почему половцы-кыпчаки остались без отечества и территории?
Кудрявцев Е.А. (Ставрополь). Религиозные верования и обычаи жителей Дербента XV-XVIII вв.
Попов В.А. (Ставрополь). Археологические работы на территории Ставропольского края во второй половине 60-х - 70-х годах XX века
Секция этнографии и краеведения
Федоров Г.С., Гаджиахмедова К.Н. (Махачкала). Роль половцев-кыпчаков в этнической истории тюркоязычных народов Северного Кавказа (кумыки)
Назарова И.М., Камынина О.И. (Ставрополь). О развитии краеведения в России (XVIII-XX вв.).
Герман Р.Э. (Ставрополь). К вопросу о решении Россией геополитических задач на Кавказе в последней трети XVIII в.
Серегина О. И. (Кисловодск). Кавказкие Минеральные Воды в политике России на Северном Кавказе в начале XIX века (по материалам актов Кавказской археографической комиссии)
Назарова И.М., Карпов А.Р. (Ставрополь). К вопросу о своеобразии общественного и семейного быта адыгов в XVIII-XIX вв.
Кобахидзе Е. И. (Владикавказ). Институт старшин (старейшин) в дореформенной Осетии
Клычников Ю.Ю. (Пятигорск). Планы российских офицеров-горцев по мирному решению кавказской проблемы в конце 20-х - 30-х гг. XIX века
Назарова И.М., Нафталиева О.М. (Ставрополь). История храмовой застройки города Ставрополя
Нахаева И.В. (Ставрополь). Система российского "попечительства" над кочевыми народами Степного Предкавказья в XIX веке
Кацапов М.В., Назарова И.М. (Ставрополь). К вопросу о датировке Кавказской войны (XIX в.)
Нечитайлов М.В. (Ставрополь). К вопросу о походно-повседневном обмундировании генералитета Отдельного Кавказского корпуса в период Кавказской войны (1817-1864)
Кузнецова Н.А. (Ставрополь). Фотография Ставропольской губернии в последней четверти XIX в.
Романенко Л.В. (Ставрополь). Организация сбора средств на сооружение памятника поэту М.Ю. Лермонтову в г. Пятигорске в 70-80-е годы XIX века
Зозуля И.В. (Ставрополь). Система окружных судов в Терской и Кубанской областях (к 130-летию со дня введения)
Котов С.Н. (Ставрополь). Роль иногородних в распространении сектантства на Кубани во второй половине XIX - начале XX века
Колосовская Т.А. (Ставрополь). Об изменении религиозных настроений населения Ставрополья в начале XX века
Невская Т.А. (Ставрополь). Организация ссудной помощи крестьянам в начале XX в.
Колесникова М.Е. (Ставрополь). Краеведческое движение на Северном Кавказе в 1917-1930 гг.
Ногина Е.В. (Ставрополь). Городская культура на Ставрополье в годы НЭПА
Кругов А.И., Шевченко И. А. (Ставрополь). Крестьянство и власть на Ставрополье в 1930-1950-е годы XX века
Багова И.Б. (Нальчик). Этнографические аспекты в поэзии Анатолия Бицуева
Перельгут В.М. (Нальчик). Этнографические аспекты в романе Кайсына Кулиева "Была зима"
Эфендиев Ф.С. (Нальчик). Социальная память и творческое сознание
Эфендиев С.И. (Нальчик). Письма однополчан Кулиеву К.Ш. как исторические документы Второй Мировой войны
Веселова М.О. (Барсуковская). Ставропольское крестьянство в годы Великой Отечественной войны
Эфендиева Т.Е., Эфендиев Ф.С. (Нальчик). Поступь истории (о цикле стихов Кайсына Кулиева "Половецкая луна")
Выделенная в качестве основной темы мемориальной конференции, проблема связей местного кавказского населения и степных кочевников, является одной из важнейших тем археологии Кавказа, имеющей различное звучание в разные исторические моменты.
Обращение к научному наследию такого удивительно вдумчивого, глубокого и серьезного исследователя как Татьяна Максимовна Минаева, показывает, что к какой бы кавказоведческой и, шире, восточно-европейской, теме мы бы ни обратились, в основе наших построений окажутся материалы, полученные при ее раскопках, и идеи, высказанные ею в научных монографиях. Безусловно, это относится и к теме, вынесенной на рассмотрение V Минаевских чтений.
Специфика темы, касающейся анализа этнокультурной ситуации в любой исторический момент, заключается в ее комплексности. Правильный ответ на поставленные вопросы возможен при привлечении и сопоставлении максимально широкого круга источников: исторических (письменные свидетельства), археологических, этнографических, лингвистических (этнонимика, культурная лексика, топонимика), фольклорных (генеалогические легенды, нартский эпос), географических (ареальное и компьютерное картографирование), биологических (генетика, антропология). Эти виды источников имеют различные разрешающие возможности для постановки и решения этнокультурных вопросов, связанных с кавказской тематикой, поскольку пользуются различными традиционными, естественнонаучными и математическими методами.
Именно этим объясняется тот факт, что при характеристике различных по своей исторической глубине состояний этнокультурной ситуации на Кавказе, мы используем разный набор свидетельств.
Начнем с того, что в любой промежуток времени демографическая (так же, как этнографическая и историко-культурная) ситуация (это и вызывает обращение к материалам генетики) в том или ином географически ограниченном пространстве, определяется соотношением местного населения, устойчиво связанного генетически с предшествующими поколениями и пришлым (как правило, инокультурным и иноязычным). В условиях Кавказа местное население взаимодействовало с [3] ираноязычным, начиная по меньшей мере с эпохи поздней бронзы и раннего железа (скифы, сарматы, аланы) вплоть до первых веков нашей эры, а далее — с тюркским (гунны, тюркюты, болгары, хазары, печенеги и т.д.).
Анализ «переселения народов» заставляет выделять разные типы передвижений человеческих коллективов или господствующей верхушки. Возможна медленная и постепенная инфильтрация в чуждую среду, военные походы (ограничивающиеся захватом добычи и полона, устанавливающие военно-административное господство с захватом территории либо установлением власти в ряде ключевых центров на стратегически важных путях).
Эти формы передвижений отличаются между собой по существу и документируются различными видами источников, что мы и покажем на ряде примеров как на содержательном, так и на методическом уровне.
Так, переселение больших масс населения может найти свое выражение в изменении антропологического типа местного населения и может быть оценено с помощью генетики и антропологии, что нами будет рассмотрено, в частности, на примере анализа диахранных карт краниологических комплексов населения Кавказа и Восточной Европы с учетом градаций значений I канонической переменной и по геногеографическим изолинейным картам, суммирующим действия различных факторов в многовековой истории рассматриваемого региона. Так будут специально рассмотрены карты, документирующие степные импульсы натерритории Кавказа.
Изучая диахранное соотношение в материальной культуре Предкавказья кавказских местных традиций и степных инноваций (в потестарно-политической культуре, погребальном обряде, керамике и т.д.) на примере графов, построенных на основании анализа массового материала, мы покажем, как можно количественно охарактеризовать в разные периоды соотношение местного субстрата и пришлого суперстрата, следовательно, оценить удельный вес каждой из составляющих.
С другой стороны, компьютерное сопоставление карт распространения этномаркирующих археологических признаков (погребальный обряд, амулеты, зеркала, локальные типы поясной гарнитуры), с данными антропологии и геногеографическими картами, позволяют объективно определить, благодаря наложению ареалов признаков разной природы, границы между общностями, которые мы будем иметь основание считать этнографическими. В частности, показать, как во времени менялась южная граница степных элементов на карте Кавказа.
Доклад подготовлен при поддержке РФФИ 00.06.80459, РГНФ 00.01.00090а и 00.01.00112а. [4]
25 лет назад, в 1976 году, в Ставрополе издали 14-й выпуск «Материалов по изучению Ставропольского края». В сборнике была опубликована статья А.В. Найденко «Старейший археолог Северного Кавказа» — о Татьяне Максимовне Минаевой.
На двух высказываниях этой статьи я и остановлюсь, точнее попробую их немного расширить.
В первом говорится о том, что «Ей (Минаевой — И.О.) довелось работать вместе с выдающимися археологами Поволжья П.Д. Pay, П.С. Рыковым».
Известный ученый П.С. Рыков являлся профессором Саратовского университета и был научным руководителем Татьяны Максимовны. Кроме того, с ним её связывали и узы большой человеческой дружбы.
О П.Д. Pay известно гораздо больше, благодаря материалам из архива Т.М. Минаевой, хранящемся в фондах Ставропольского краеведческого музея и сведениям, полученным через Интернет , на сайте Энгельского краеведческого музея (за что сотрудникам музея г. Энгельс — благодарность).
Нахождение этих сведений на сайте музея города Энгельс не случайно. Пауль Давидович Pay — из поволжских немцев, а с 1918 по 1941 гг. в составе РСФСР существовала автономная область, затем — АССР немцев Поволжья, столицей которой был г. Энгельс (до 1931 г. — город Покровск).
Если Минаева в 1919 году становится студенткой историко-филологического факультета Саратовского университета, то Pay в 1922 году поступает на историческое отделение германской секции педагогического факультета того же ВУЗа. Здесь его интерес к археологии поддержал П.С. Рыков.
И именно профессор Рыков летом 1924 года поручает Минаевой и Pay археологическое обследование среднего течения реки Торгуй. Обоих молодых людей отличала необыкновенная работоспособность, тонкая наблюдательность при полевых исследованиях.
Результатом совместной деятельности стал «Отчёт об археологических разведках по р. Торгуну в 1924 году. Т.М. Минаевой и П.Д. Pay». Он был опубликован в «Трудах Нижне-Волжского областного общества краеведения» в Саратове в 1926 г.
Второе высказывание из статьи А.В.Найденко. «Обстоятельства сложились так, что Татьяна Максимовна не имела возможности защитить [5] кандидатскую диссертацию сразу после окончания аспирантуры и даже должна была изменить место работы».
Что же это за обстоятельства? В конце 20-х — начале 30-х годов в ВКП(б) велась борьба с так называемым «правым уклоном». Одним из его лидеров являлся А.И. Рыков — член Политбюро ЦК ВКП(б), Председатель СНК СССР и СТО. На состоявшемся в июне-июле 1930 г. XVI съезде ВКП(б) отмечалось о несовместимости взглядов правой оппозиции с принадлежностью к ВКП(б). Партия провела большую работу по очищению и госаппарата от всех, кто мешал проведению ленинского генерального плана. Поэтому на декабрьском (1930 г.) объединенном пленуме ЦК и ЦКК было принято решение о выведении А.И. Рыкова из Политбюро ЦК ВКП (б), а постановление Президиума ЦИК СССР освобождало его от всех постов, занимаемых в правительстве. Естественно, врагом народа был объявлен его родственник, профессор П.С. Рыков.
Пауль Pay, работая в органах народного просвещения, знакомится с Г. Дингесом и другими, под влиянием которых увлекается краеведением и археологией. Профессор Дингес редактировал его первую статью; став директором Центрального музея немцев Поволжья, приглашает Pay на заведование археологическим отделом и заместителем директора по научной работе. Весной 1929 года, в связи с переходом Г. Дингеса на работу в Немпединститут, П. Pay назначается директором Центрального музея. Профессор Г. Дингес, став проректором Немпединститута, приглашает Pay занять должность доцента.
Но в январе 1930 года Г. Дингес был арестован. П. Pay, как ближайший друг и сподвижник, оказался под надзором органов НКВД. Началась травля ученого со стороны нового ректора института, появляется газетная статья, называющая всю его работу, которой он посвятил жизнь «прямым вредительством». Всё это означало скорый арест. Не выдержав, летом 1930 года, Пауль Pay покончил жизнь самоубийством. Могила его не сохранилась.
Сегодня, в условиях становления электронных средств коммуникации и информации можно реально приступить к реализации задачи по созданию собственно археологических высококачественных электронных ресурсов. В связи с этим, на первое место выходит задача по внедрению стандартов по археологическому наследию для обеспечения эффективного поиска и унифицированного представления данных [6] пользователю на различных уровнях интеграции информации по культурному наследию в зависимости от уровня пользователя и целей поиска.
По нашему мнению, целесообразно формировать единый уровень интеграции в виде геоархеологической информационной системы (ГАИС) для всего культурного пространства России. Целевой поиск очевидно определяется категорией пользователя: ученые-археологи, работники государственных органов охраны памятников истории и культуры, управленцы разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный), землепользователи и землевладельцы, преподаватели, студенты и школьники, краеведы, туристы. Целями поиска могут быть: научная деятельность, учебный процесс, управленческая деятельность (в рамках Федерации, субъекта Федерации, муниципальной территории), осуществление хозяйственной (и иной) деятельности землепользователями и землевладельцами, туризм в различных формах.
Стандарты ГАИС основаны на едином тезаурусе терминологии археологического наследия. ГАИС строится как справочник, где виртуальная территория в виде электронной карты совмещена с базой данных.
За основу интерфейса может быть взята электронная карта. Для облегчения задач пользователя предоставляется возможность поиска по классификаторам.
Исходя из задач сетевых ресурсов мы должны ориентироваться на разных по уровню подготовки пользователей, а также на возможность подключения к сети иноязычных пользователей из других стран. С другой стороны, сетевой ресурс неизбежно приведет к партнерству — на различных иерархических уровнях. В этом случае, ГАИС имеет возможность перерасти в метакультурную область.
На данном этапе решается задача первого порядка — создание языка описания и алгоритма для поисково-классификационной деятельности.
Описание каждого признака раскладывается на подвиды, а принципы их группировки определяются классификаторами. Признаки детализируются до значимого уровня. При этом, в классификаторы могут вноситься дополнения исходя из региональных особенностей археологического наследия. Тогда региональные презентации сопровождаются дополнительным словарем.
Использование классификаторов позволит вести быстрый поиск, делать выборки для решения научных и управленческих задач. Этим обеспечивается высокая оперативность в управлении археологическим наследием. Особую роль ГАИС может сыграть в решении проблем мониторинга за состоянием наследия и в проведении разного рода экспертиз. [7]
С появлением новых технических возможностей — активным использованием компьютеров в научном процессе — картографирование приобрело качественно другой уровень. Перевод картографической информации в цифровую форму и получение так называемых электронных карт позволило на их базе интегрировать различные уровни информации о пространственно-распределенных данных в виде географических информационных систем (ГИС). Географические информационные системы стали активно использоваться для решения разнообразных исследовательских задач в археологии. Последнее время в России тоже стало бурно развиваться это направление.
Степень сложности ГИС обуславливается ее ориентированием для решения тех или иных научно-прикладных задач. Простейшая информационно-справочная система может быть организована в виде электронной карты, элементы которой однозначно связаны с электронной таблицей фактографических (тематических) данных.
Предлагаемая работа дает пример создания электронных карт в рамках проекта информационно-справочной системы археологической тематики (www.geogr.msu.ru/archeoprotection). На прилагаемой цветной карте в масштабе 1:1500000 нанесены приморские поселения раннежелезного века I—II тысячелетий н.э. и стоянки эпохи каменного века (палеолит, мезолит, неолит) XI—I тысячелетий до н.э.
Последним этапом формирования электронной карты является этап формирования базы тематических данных картографируемых объектов и идентификация ее атрибутов с элементами картографической основы по определенным принципам. Принципиальное отличие электронных таблиц по отношению к традиционному способу табличного структурирования информации заключается в возможности задания некоторого числа функций над содержанием столбцов и строк таблиц, позволяющих получать производные (в том числе интегральные и синтетические) характеристики в виде новых элементов таблицы. Подобное свойство электронных таблиц, включенных в систему типа «электронная карта», дает новые возможности в плане построения производных тематических карт с использованием как исходных, так и производных — показателей, получаемых из электронной таблицы. Соответствующее кодирование данных внутри подобных таблиц может быть «ключом» к более глубоким пластам информации о тематическом содержании анализируемых объектов, содержащихся в специализированных электронных базах данных.
При тематическом описании элементов электронной карты, для каждого слоя картографической информации сформирована своя электронная таблица, в которой указывается идентификационный номер объекта, его топонимика и необходимые текстовые и числовые характеристики в зависимости от их тематической значимости. Для археологических объектов составлены электронные таблицы, заполненные [8] соответствующей фактографической базой данных, созданной внутри стандартного пакета.
Информация о памятнике разделена на 7 блоков, внутри которых информация конкретизируется 74 признакам и 200 классификаторам:
1. Общие данные о памятнике и его культурная характеристика.
2. Местоположение памятника.
3. Учет и охрана.
4. Техническое состояние памятника.
5. Архив.
6. Картообеспечение.
7. Аппаратно-программное обеспечение.
Для удобства заполнения базы отдельно выделены классификаторы:
Классификатор 1 — тип памятника.
Классификатор 2 — эпоха.
Классификатор 3 — элементы погребального сооружения.
Классификатор 4 — характер обследования.
Классификатор 5 — характер современного использования.
Классификатор 6 — тип населенного пункта.
Классификатор 7 — признак паспортизации.
Классификатор 8 — наличие учетной карточки.
Классификатор 9 — категория охраны.
Классификатор 10 — вид документа, утвердившего охрану.
Классификатор 11 — наименование органа охраны, выдавшего охранный документ.
Классификатор 12 — состояние.
Классификатор 13 — антропогенная угроза.
Классификатор 14 — естественная угроза.
Классификатор 15 — масштаб топографической основы.
Классификатор 16 — масштаб топографического плана.
Классификатор 17 — тип аэроснимка.
Классификатор 18 — тип космоснимка.
Классификатор 19 — условные обозначения.
Классификатор 20 — операционная система.
Классификатор 21 — прикладные программы.
Классификатор 22 — субъект Федерации. [9]
В позднем неолите на территории бассейна р. Северский Донец существуют ряд культур, нередко сопоставляемых с неолитическими и энеолитическими культурами Кавказа. Речь идет о платовоставской культуре и о памятниках типа Старобельск.
Платовоставская культура стала известна относительно недавно, после разведок, проведенных А.А. Козаковой на территории Ростовской области, приведших к открытию стоянки Платовский Став (недалеко от г. Гуково), а также в результате раскопок А.Ф. Гореликом стоянки Зимовники-1 (Свердловский р-н Луганской обл.). В Свердловском краеведческом музее также хранятся материалы со сборов Л.В. Бедина со стоянок Должик и Мурзина Балка. Все перечисленные комплексы характеризуются пластинчатой техникой расщепления, основанной на использовании конических, карандашевидных и уплощенных нуклеусов. Геометрические комплексы отличаются сочетанием высоких и средневысоких трапеций с круторетушированными сторонами и низких сегментов с двусторонней ретушью по дуге. В незначительном количестве имеются также трапеции. Среди скребков преобладают концевые формы. Керамика найдена только при раскопках стоянки Зимовники-1. Это обломки толстостенного сосуда красноватого обжига с примесью травы и песка.
А.Ф. Горелик указывал на сходство геометрических комплексов Зимовников-1 с неолитическими комплексами Кистрик, Нижняя Шиловка, Овечка. К приведенному А.Ф. Гореликом кругу памятников следует добавить Анасеули. Сегменты с двусторонней ретушью по дуге характерны не только для неолита Кавказа, но также для памятников более поздних: Свободное, Мешоко и др.
Представляется весьма существенным тот факт, что сегменты с двусторонней ретушью по дуге, кроме кавказского и донецкого регионов, известны лишь в Северном Прикаспии в комплексах мезолитической сероглазовской и неолитической Джангарской культуры, а также на Ближнем Востоке в комплексах натуфийской культуры. Известны находки сегментов со сборов в Волго-Донском междуречье. В настоящее время имеются различные версии, объясняющие подобную географию распространения этого редкого типа геометрических микролитов. Так, их появление в Подонечье связывают с влиянием культур Кавказа, или Северного Прикаспия; относительно Кавказа рассматриваются версии влияния натуфа и прикаспийских культур. Отметим, что возможность культурного воздействия населения Подонечья на культуры Кавказа не рассматривалась никем и никогда. [10]
Второй аспект возможной взаимосвязи неолитичских культур Кавказа и Подонечья связан с открытием памятников типа Старобельск (Старобельский р-н Луганской обл.). На стоянке Старобельск, исследованной Ю.Г. Гуриным была найдена керамика, сильно напоминающая керамику комплекса Свободное на Северном Кавказе. Имеются в виду круглодонные горшки с отогнутыми венчиками с примесью ракушки в глиняной массе. Проведение параллели между комплексами в Подонечье и на Северном Кавказе приобрело особое значение, поскольку именно с распространением такого рода посуды связаны керамические комплексы Новоданиловского типа. До настоящего времени не было предпринято попыток рассмотреть иной вариант объяснения образования памятников типа Старобельск, кроме связанного с кавказским культурным импульсом.
Как правило, определение вектора культурного импульса может быть достоверно определено лишь при наличии серии радиокарбонных дат для сопоставляемых памятников. В нашем же случае, когда речь идет о распространении сегментов с двусторонней ретушью по дуге и керамики свободненского типа, серии дат у нас нет. Имеются радиокарбонные даты лишь для поселения Свободное, существовавшее, по всей видимости, в 45-43 вв. до н.э. Тем не менее, вопрос не является неразрешимым, поскольку возможно построение шкалы относительной хронологии.
Малоперспективно, на мой взгляд, сопоставлять прикаспийские, кавказские и донецкие комплексы с натуфийской культурой. Не отрицая возможность наличия культурных параллелей с Ближним Востоком, отметим однако, что связь натуфа и сероглазовской культуры является в достаточной степени невероятной из-за огромного расстояния, разделяющего их. А сероглазовские комплексы, несомненно, являются древнейшими на территории России и Украины, содержащие сегменты с двусторонней ретушью по дуге. Лишь в сероглазовских комплексах отсутствует сочетание сегментов с трапециями со струйчатой ретушью, появившимися в неолите. Единственное исключение на Кавказе — сатанайский комплекс, где имеется один сегмент. Таким образом, появление указанных сегментов в Подонечье и на Кавказе связано, скорее всего, с Прикаспием. Так можно было бы утверждать относительно достоверно, если бы не наличие в Подонечье платовоставской индустрии, которая, хотя и младше сероглазовской, но старше комплексов черноморского побережья Кавказа. У нас имеются все основания для такого утверждения: с одной стороны, в платовоставских комплексах нет наконечников с двусторонней обработкой, имеющихся во всех указанных ранее кавказских комплексах; с другой стороны, распространение в Подонечье кремневых изделий, характерных для Северного Прикаспия, не сопровождалось распространением соответствующей керамики. Это достаточно надежное свидетельство относительно раннего возраста [11] платовоставских памятников. Следует также отметить, что платовоставская культура формировалась под влиянием мезолитической зимовниковской культуры Подонечья. Для зимовниковской культуры, характерно достаточно редкое сочетание трапеций типа «малое транше» и мельчайших, высотой до 1 см, высоких трапеций. Такое же сочетание характерно и для геометрических комплексов платовоставской культуры. Таким образом, формирование платовоставской культуры могло происходить лишь на рубеже мезолита-неолита и закончилось не позднее начала второй четверти 6 тыс. до н.э., когда появились трапеции со струганной спинкой.
Следовательно, вопрос о воздействии населения Подонечья на кавказские культуры вполне может быть поставлен. Не исключено, что распространение сегментов с двусторонней ретушью по дуге на Кавказе связано и с прикаспийским, и с донецким импульсами. Так, распространение указанных изделий на черноморском побережье логичнее связывать с миграцией части прикаспийского населения. Что касается Северного Кавказа, то импульс из Подонечья кажется более вероятным. В комплексе Свободного имеются два элемента сходства с комплексами Подонечья: и сегменты, и керамика. Правда, в Подонечье оба данных элемента сосуществуют в комплексах разных культур. Однако, если допустить мысль, что в конце неолита донецкий регион стал объектом экспансии какой-либо новой группы населения, то совместная миграция на юг носителей платовоставской культуры и населения, оставившего памятники типа Старобельск, представляется вполне возможной. Следы такой экспансии были зафиксированы при раскопках стоянки Туба-2 в Попаснянском р-не Луганской области. В ходе исследований стоянки, для которой имеется серия радиоуглеродных дат (53-49 вв. до н.э.), стало ясно, что во второй пол. 6 тыс. до н.э. Подонечье стало объектом экспансии населения, которое связано своим происхождением с мурзак-кобинской культурой Крыма. Одновременно происходит и экспансия в Подонечье мариупольского населения. Интересно, что в комплексе Тубы-2 имеется горшок с орнаментацией в виде оттисков двузубого штампа, который имеет яркую аналогию в комплексе Старобельска, синхронного, вероятно, комплексу Туба-2. Хронологическое сопоставление Тубы-2, Старобельска и Свободного, говорят о том, что кавказский комплекс, несомненно, моложе. Следовательно, формирование свободненской культуры вполне могло происходить под влиянием вынужденной миграции части населения Подонечья.
Вполне возможно, что Подонечье было покинуто лишь частью населения, оставившего памятники типа Старобельск. Не исключено, что население, не мигрировавшее на Кавказ, усвоило, утратив свою территорию проживания, подвижный кочевой образ жизни и приняло участие в формировании памятников Новоданиловского типа с керамикой, похожей на старобельскую и свободненскую. [12]
Проблема идентификации населения, оставившего ранние подкурганные некрополи и энеолитические поселения в степной и предгорно-плоскостной зоне Северного Кавказа до настоящего времени остаётся актуальной. Погребений близ поселений пока не выявлено; возможно, часть из них будут грунтовыми, как Нальчикский могильник. Ранние подкурганные погребения дистанцируются до 100 и более км от поселений, находящихся на стыке степей и предгорий. До сих пор те и другие рассматриваются как отдельные культурные комплексы. «Предмайкопскую общность», представленную «поселениями Мешоко — Замок — Курчалой» предлагается назвать «предкавказской областью предмайкопских памятников» (Кореневский, 1998). При этом древнейшие подкурганные захоронения Предкавказья отсекаются, хотя по наличию в тех и других целого ряда аналогичных артефактов они сближаются.
Считается, что индикатором культурной принадлежности служит керамика. Обнаруженная в инвентаре древнейших подкурганных погребений Предкавказья посуда по тесту, форме, технологии изготовления и декору в основном соответствует посуде западно- и центральнокавказских энеолитических поселений. Так, фрагменты сосудов с накольчато-жемчужным орнаментом и насечками по краю венчика из разрушенного погребения у с. Красногвардейское Ставропольского края повторяют образцы керамики поселения «Замок» под Кисловодском (Березин, Калмыков, 1998). То же самое относится к сосуду из Северной Осетии, Комарово 2/18 (Кореневский, Наглер, 1987). Сосудик из погребения 57 в кургане 9 у станицы Владимирской Краснодарского края по форме, тесту и орнаментации соответствует миниатюрной керамике — тип 5 — поселения Свободное в Адыгее (Нечитайло, 1999). Сосуд из Весёлой Рощи Ставропольского края, курган 15/1 близок посуде перечисленных поселений, на что неоднократно указывали исследователи (Кореневский, Наглер).
Кремнёвые орудия и оружие в составе инвентаря древнейших подкурганных захоронений Предкавказья, а именно: крупные кремнёвые ножевидные пластины с ретушью и без неё, обнаруженные почти в каждом из 50 открытых погребений, а также топоры, наконечники стрел и дротиков (в единичных экземплярах) по технике изготовления, форме и функциональному назначению повторяют аналогичные изделия из поселений Свободное, Мысхако, Тяллинг.
Кроме того, серпентинитовые клиновидные тёсла (Комарово, Кастырский) соответствуют образцам указанных поселений, где они [13] найдены в больших количествах и даже поступали как импорт в Северо-Понтийские степи.
Каменные браслеты, типичные для энеолитических поселений Закубанья, значительно реже, но всё же отмечены в связи с древнейшими подкурганными погребениями (Комарово 2/18, 7/18, пос. Юловский). Что же касается каменных наверший скипетров, то большая часть их известна из степных погребений (Архара, Джангар, Шляховский), хотя они встречаются и на поселениях (Ясенова Поляна в Адыгее).
Пекторали из клыков вепря обнаружены в Весёлой Роще 15/1, Новотиторовской 10/5, Нальчике п. 36. Этот вид изделий, хотя и считается типично степным, однако, находки его отмечаются почти во всех названных поселениях.
Фиксируемое подобие артефактов не случайно, его трудно объяснить простым заимствованием или синхронным существованием. Непосредственная связь обитателей поселений и тех, кто оставил ранние подкурганные погребения, скорее всего объясняется единством населения, отсюда и единство исходных форм. Вероятно, выходцы из энеолитических поселений создавали первые курганные насыпи. Эти сооружения как бы обозначали новые освоенные ими территории, которые были необходимы в период развивающейся производящей экономики и одной из её ветвей — подвижном скотоводстве.
Употребляя терминологию С.Н. Кореневского можно говорить о предкавказской энеолитической области или общности с различными вариациями на обширных просторах Северного Кавказа.
Исследования памятников эпохи позднего энеолита, проведенные в течение нескольких последних лет в Среднем Подонечье, позволили очертить круг памятников, генетически связанных с константиновской культурой Нижнего Подонья. Основанием для этого служат материалы многослойного памятника Клешня-3, расположенного на высокой надпойменной террасе оз. Клешни поймы левого берега р. Северский Донец.
При раскопках выявлены материалы раннего неолита, позднего энеолита (константиновской и раннеямной культуры), эпохи поздней бронзы и позднего средневековья. Стратиграфически горизонт с находками, материалов константиновской культуры расположен под раннеямным горизонтом, однако материалы двух культур зачастую смешаны. [14]
Керамика константиновской культуры представлена фрагментами более чем 20 сосудов. Вся посуда тонкостенная, изготовлена из замеса, содержащего мелкозернистый песок, охристые компоненты и, иногда, толченую ракушку. Наличие в тесте охристых компонентов привело к тому, что стенки некоторых сосудов окрашивают прикасающуюся поверхность. Большинство сосудов относится, по классификации В.Я. Кияшко, к керамике группы А и 1 подгруппы Б группы — это высокогорлые горшки, стенки которых богато орнаментированы оттисками мелковитого шнура и узелкового штампа. Свободные от орнамента зоны и внутренняя поверхность сосудов покрыты гребенчатыми расчесами. Композиция орнамента включает геометрические элементы — ромбы и треугольники. Часть сосудов орнаментирована оттисками гребенчатого штампа. Обнаружен фрагмент плоского днища, который может являться частью одного из вышеупомянутых сосудов. Цвет стенок светло-терракотовый. Есть находки керамики, правда в незначительных количествах, по форме и структуре замеса сходные с керамикой третьей группы Константиновского поселения. Кроме этого, обнаружен сосуд с воротничковым оформлением венчика. Интересна находка фрагментов ошлакованной льячки, полные аналоги которой можно найти в Константиновском поселении.
Вышеописанная посуда по многим внешним признакам сходна с константиновской. Редкие фрагменты керамики с ракушечной примесью и полное отсутствие растительности в тесте посуды могут свидетельствовать о локальном развитии константиновских традиций на местной основе. Следует также отметить влияние традиций Северо-Восточного Кавказа, которые, по мнению В.Я. Кияшко, выразились в таких характерных особенностях посуды, как «мажущая» поверхность и присутствие третьей группы керамики константиновской культуры. Также следует отметить наличие позднестоговских элементов дереивского этапа в формировании своеобразного облика керамики памятника. Кремневый комплекс достаточно выразителен, но не исключено, что он смешан с раннеямным, поэтому от его описания придется воздержаться.
Следует отметить, что на памятнике исследовано безинвентарное погребение взрослого мужчины (определение И.Д. Потехиной). Погребенный лежал в сильно скорченной позе, на левом боку, головой на север. Кисти рук покойного располагались у подбородка. Захоронение было совершено в материковом песке. По костям погребенного проведены радиоуглеродные анализы (Киевская Радиоуглеродная лаборатория, Н.Н. Ковалюх). Калибрация полученных дат соответствует первой четверти третьего тысячелетия до н.э. В связи с находкой погребения, хотелось бы отметить наличие аналогичного захоронения (правда, с тем отличием, что погребенный располагался на правом боку), которое было исследовано на Константиновском поселении. Вполне [15] вероятно, что захоронение на Клешне-3 оставлено представителями константиновской культуры, однако нельзя исключить и его раннеямное происхождение. В качестве примера можно указать на парное грунтовое захоронение неподалеку от поселения Раздольное, что расположено на правом берегу р. Кальмиус. Погребение датируется началом третьего тыс. до н.э. Один из погребенных был захоронен в сильно скорченном положении на левом боку, головой на север. Погребение сопровождал инвентарь в количестве двух кремневых орудий и развал сосуда имеющего много общего с керамикой Клешни-3. Но в таком случае, учитывая полученные даты, необходимо признать значительно более раннее возникновение раннеямных традиций в Среднем Подонечье, что, естественно, было бы полным абсурдом. В этой связи хотелось бы привести данные по грунтовому захоронению на стоянке Клешня-4, которое было исследовано в 200 м к северу от Клешни-3. Следы могильной ямы не прослеживались. Погребенный лежал в вытянутом положении, руки вдоль туловища, головой на юго-восток. Погребальный инвентарь отсутствовал. Захоронение датировано радиоуглеродным методом третьей четвертью третьего тыс. до н.э. Вполне вероятно, что данное погребение перекликается с раннеямными материалами с Клешни-3. Обращает внимание отличие в положении погребенного в грунтовой могиле от известных подкурганных захоронений ямной культуры.
Таким образом, в данной работе очерчена зона влияния традиций константиновской культуры, которая оказалась значительно шире, чем предполагалось ранее. Возможно, что среднестоговские памятники на позднем этапе своего существования в Среднем Подонечье сменяются константиновскими. Основанием для этого может послужить серия калиброванных дат, полученных для поселения Дереивка и стоянки Туба-2. Дереивка датируется концом пятого тыс. до н.э., а среднестоговские материалы с Тубы-2 первой четвертью четвертого тыс. до н.э. Имеются также даты по поселению Подгоровка, где обозначились поздние границы существования памятника. В последней четверти четвертого тыс. до н.э. и в первой четверти третьего тыс. до н.э. Подгоровка неоднократно посещалась представителями репинской культуры, о чем могут свидетельствовать фрагменты керамической посуды с явными признаками ранней стадии репинской культуры. В последнее время появились интересные работы, посвященные проблеме периодизации репинской культуры, в которых уточняются хронологические рамки проникновения племен репинской культуры в Подонечье. Возможно, что в связи с новыми данными появится возможность корректировки хронологии позднего энеолита бассейна Северского Донца. На современном этапе мы можем констатировать смену среднестоговских памятников константиновскими. В свою очередь, константиновская культура могла сосуществовать с репинской, но их сосуществование происходило, вероятно, в условиях изоляции. Смена репинского населения раннеямным [16] происходила с сохранением репинских традиций, выраженных, прежде всего, некоторыми элементами орнамента раннеямной керамики. Данная хронологическая преемственность культур, без сомнения, носит гипотетический характер, поэтому вполне возможно, что дальнейшие исследования и их результаты помогут уточнить полученные выводы.
В эпоху средней бронзы на Нижнем Дону во время погребальных ритуалов широко использовали минеральную красную краску различных оттенков. В раннекатакомбный период пропитанные красной краской веревочки или шнуры нередко украшали погребальные подстилки и покрывала, а. может быть и саму одежду покойника. Куском краски окрашивали участки тела умершего, а может быть и его бытовые предметы.
На ранних этапах катакомбной культуры в Нижнем Подонье в могильной камере под покойником иногда находят остатки подстилок с геометрическим узором, выполненным в два цвета: красные линии перемежаются с черными. Из какого вещества получали черную краску, — неизвестно. Получение черной, сажистой краски от древесных углей было доступно каждому. Однако следы окраски умершего сажей археологически не прослеживаются. Поэтому, достоверность использования сажи в погребальной практике проблематична.
На правобережье нижнего Дона известны погребения, в которых есть кусочки каменного угля, которые использовались в погребальном ритуале вместе с кусочками красной краски и кусочками сидерита. Однако порошка из каменного угля в могилах не обнаружено.
В Северо-Восточном курганном могильнике на окраине г.Ростова-на-Дону, в 1995 г. были обнаружены две катакомбы с останками двух младенцев. В этих погребениях найдена выразительная раннекатакомбная керамика, украшенная оттисками перевитого шнура и вдавлениями уголка штампа, нанесенными в технике отступающей лопаточки. В одной катакомбе (к. 11 п.5) погребенный имел две спиралевидные подвески в 1.5 оборота и пирамидальной формы кусочек каменного угля испачканный красной краской. Грани предмета были обточены. В другой катакомбе (к. 12 ц. 7) рядом с кварцитовым отщепом, обточенным сидеритом лежал кусочек каменного угля с обточенными гранями, предмет расколот, испачкан красной краской. Около костяка найдена спиралевидная бронзовая подвеска в 2,5 оборота. [17]
В погребениях раннего этапа катакомбной культуры кусочки каменного угля зафиксированы только на правобережье нижнего Дона. Например, в Грушевском могильнике в 1978 г. в катакомбе с останками взрослого человека (к. 10 п.6) найдены два кусочка каменного угля. Один имеет все грани обточенными, а другой едва обточен с одной стороны (Савченко Е.И., Ильюков Л.С, Прохорова ТА., 1979).
В сводке С.Н. Братченко нет сведений об использовании каменного угля в погребальном обряде племен эпохи средней бронзы на Нижнем Дону (Братченко С.Н., 1976). В книге А.М. Смирнова, посвященной древностям катакомбной культуры Северского Донца, не упоминается каменный уголь среди погребального приданного (Смирнов A.M., 1996). В книге А.В. Кияшко, в которой анализируются погребальные комплексы раннекатакомбного времени Нижнего Дона, тоже нет никаких сведений об использовании каменного угля племенами катакомбной культуры (Кияшко А.В., 1999).
Территория Донецкого кряжа, отроги которого огибает нижний Дон, богата залежами каменного угля. По-видимому, в бронзовом веке каменноугольные отложения этого региона в незначительном количестве уже разрабатывались местными племенами. Использовался ли каменный уголь в качестве сырья для отопления жилищ или для плавки металла, — неизвестно.
Кусочки каменного угля, найденные в катакомбах средней бронзы на правобережье Нижнего Дона свидетельствуют о том, что в культовой практике каменный уголь применялся. Его растирали на песчаниковых плитках в порошок и полученную угольную «пудру» использовали для раскраски во время тех или иных ритуалов, и в том числе, во время погребальных обрядов.
Черный цвет, по данным В.Тэрнера, Дж. Фрезера, Л. Леви-Брюля, в древних и первобытных культурах изображал зло, темноту, страдания, несчастье, болезнь, смерть (Серов Н.В., 1990). В Средней Азии в XIX в. новорожденному в определенные ночи мазали сажей лоб, виски и другие части тела, чтобы сберечь ребенка от дурного глаза (Серебрякова М.Н., 1980).
В 1998—2000 гг. на могильнике Кари Цагат (который по целому ряду признаков можно предположительно отождествить с могильником Догуй Хунта, исследовавшимся Тимофеевым, и впоследствии утерянным) [18] в Дигорском ущелье Северной Осетии экспедицией Государственного Исторического музея были изучены два коллективных погребения (№№ 6 и 9), совершенных по обряду трупосожжения на стороне. Погребения относятся к Дигорской культуре протокобанской эпохи (XIV—XII вв. до н.э.). Благодаря этим раскопкам удалось окончательно обосновать правомерность выделения Дигорской культуры как таковой (Крупнов, 1951; Мошинский, 2000). Более того, удалось частично проследить динамику развития этой культуры. Особенно ярко в этом контексте выглядит изменение во времени булавок с ажурными навершиями.
Ажурные булавки известны науке с XIX в. Долгое время считалось, что они датируются временем не ранее середины I тыс. до н.э. Назначение их также было неясно. Е.И. Крупнов достоверно установил их принадлежность к протокобанской эпохе. На основании анализа изученных комплексов (Долбежев, Мошинский) можно говорить и об их назначении. Булавки «гигантских» размеров служили украшением головного убора. Их навершие располагалось над головой женщины, вдоль стержня, вероятно, заплеталась коса. Короткие булавки могли выполнять обычную функцию — застежек для одежды.
Среди всего массива булавок с ажурными навершиями выделяются два основных типа: булавки с веерообразным навершием и булавки с навершием «в виде павлиньева пера». Для последних характерны деление навершия на ярусы, более или менее сложный узор и фестоны по внешнему краю. Собственно, благодаря этим фестонам они и получили свое название. Необходимо, впрочем, отметить, что на некоторых наиболее поздних экземплярах булавок с веерообразным навершием также присутствуют фестоны.
Основная масса булавок с веерообразным навершием (за очень небольшим исключением) — двучастна. Навершие отливалось отдельно и прикреплялось к стержню достаточно сложным способом. Верхняя часть стержня расковывалась таким образом, что получалась пластина с отходящим от нее к верху стержнем. Стержень продевался в отверстие в нижней части навершия, сгибался пополам и зажимался краями пластины. Точно таким же образом крепилось навершие у некоторых булавок с гигантским пластинчатым двухзавитковым («в виде бараньих рогов») навершием. Интересно, что у поздних цельнолитых булавок с веерообразным навершием потерявшее свое функциональное назначение отверстие все-таки сохраняется. Булавки, судя по всему, использовались достаточно активно. Так как крепление было не очень надежным, они зачастую ломались по отверстию в навершии. Тогда крепление разжималось, и крепеж фиксировался непосредственно на веерообразную часть.
В погребении 9 могильника Кари Цагат найдена верхняя часть стержня булавки с описанным выше креплением. Отличие состоит в том, что крюкообразно согнутый стержень продольно разделен надвое. Фрагмент [19] стержня булавки с разделенным надвое крюком известен из могильника Фаскау. Под одним номером с ним в ГИМе хранится фрагментированное навершие «в виде павлиньего пера». Достоверно утверждать, что это две части одного предмета тем не менее невозможно. Аналогичным образом дело обстоит и в погребении 9. В этом сильно разрушенном комплексе помимо выше упомянутого фрагмента стержня с креплением найдено несколько фрагментов навершия «в виде павлиньего пера». В любом случае, была ли булавка с этим навершием составной или находилась в одном комплексе с составной веерообразной булавкой, мы можем говорить о переходном характере этого погребения. В погребении 6 среди большого количества ажурных булавок не присутствуют составные и нет булавок с веерообразным навершием. Также существуют отличия в сурьмяных подвесках. Кроме того в погребении 9 присутствуют каменные пронизи с кольцевидным орнаментом (типа «домино»).
Известен еще один способ крепления навершия «в виде павлиньего пера» к стержню булавки — при помощи специально долитой муфты. Нам представляется, что эта технология наиболее поздняя и применялась для ремонта цельнолитых булавок. В пользу этого говорит целая серия булавок этого типа с бараньей головкой на стержне. Баранья головка приливалась к стержню булавки вместе с муфтой. Судя по тому, что в погребении 6 среди большого количества булавок этого типа не известно ни одной с бараньей головкой, можно предположить их асинхронность данному комплексу. Такая булавка есть, например, в комплексе из Рутхи (Долбежев) вместе с подвесками (нашивными пронизями?) в виде секиры, напоминающими топоры типа Фаскау 7, являющимися наиболее поздними среди топоров среднебронзового века — только среди них есть оловянистые экземпляры (Кореневский).
Безусловно, только на ажурных булавках нельзя строить хронологию целой культуры. Тем не менее, технология изготовления булавок может служить датирующим признаком.
К настоящему времени неясным остается вопрос о связи наиболее архаичных составных веерообразных булавок с первым протокобанским периодом (Козенкова, Мошинский) — временем, для которого еще нельзя говорить о существовании Дигорской культуры как таковой. Обращает на себя внимание незначительное количество керамики этой эпохи и довольно большое количество булавок указанного типа. По всей вероятности, это говорит о том, что булавки принадлежат к несколько более позднему времени и должны датироваться первым этапом Дигорской культуры. Затем следуют составные булавки с навершием «в виде павлиньего пера», на смену которым приходят цельнолитые булавки этого типа. Как уже отмечалось, возможно, эти две разновидности булавок маркируют два периода Дигорской культуры. При этом не исключено, что первые из них сосуществуют с составными [20] веерообразными булавками. Завершают предложенную нами линию развития булавки с бараньей головкой, которые сосуществуют с просто цельнолитыми булавками этого типа. Возможно, булавки с бараньей головкой бытуют в финальном периоде дигорской культуры, который маркируется комплексом из Рутхи (Долбежев), содержащем подвеску-лошадку, практически аналогичную лошадкам из Былымского клада.
Итак, можно выделить три основных этапа в бытовании ажурных булавок:
Составные булавки.
Цельнолитые булавки.
Булавки с бараньей головкой.
Весьма вероятно, что при дальнейшей работе и появлении новых комплексов технологические этапы развития булавок с ажурными навершиями удастся более жестко увязать с периодами Дигорской культуры.
На поясах из Тлийского могильника, из о. Каякент (конец II — начало I тысячелетия до н.э., XII—X вв. до н.э.) из Лугового могильника (VI—V вв. до н.э.) гравировкой нанесены антропоморфные и зооморфные изображения: оленей, козлов, быков, ослов, фантастических существ, сочетающих черты волка и собаки, волкособаковидных зверей, лошадей, птиц, змей. Животные переданы жизненно, довольно реалистично. Живо схвачены их позы. Однако, каждый вид животного зафиксирован в одной и той же многократно повторенной и несколько схематизированной позе величественного и мерного движения. Здесь мы встречаемся с правильной и строгой композицией. Ритм повторяющихся изображений животных, одинаковый их масштаб, одно и то же направление движения создают впечатление величественного шествия. Простотой форм, ясностью пропорций и умелой передачей самого движения мастер создает впечатление монументальности изображений животных, несмотря на их небольшой размер. Животные переданы реалистично, но в то же время довольно схематично, условно, стилизованно. Изображения зверей, за исключением кабана, отличаются преувеличенной стройностью пропорций, живот сильно утончен, подтянут, а продолговатое изогнутое туловище очень вытянуто; спина выгнута, морда Длинная и «клювовидная», глаза намечены двумя маленькими [21] концентрическими кружками, уши в виде двух тонких лепестков, рога в виде длинных, загнутых на концах крюков или полумесяцев, хвосты либо очень короткие, либо слишком длинные, копыта не обозначены. У кабана туловище слишком массивное, довольно тяжеловесное, резко увеличено в размерах по отношению к другим животным. Лошади представлены бегущими. Мастер превращает их стремительный силуэт в узор: шеи изогнуты, туловища вогнуты, животы подтянуты, «клювовидные» головы сливаются с шеей, уши стоят, задние ноги поджаты, а передние вытянуты, резко «выброшены» вперед.
У птиц с довольно массивными телами сочетаются относительно маленькие головы о заостренными тонкими клювами, стройной шеей, взаимно оттеняющими друг друга. Сливающиеся силуэты тел и голов на тонких плавно изогнутых шеях, с заостренными носами и короткими хвостами, определяют облик и образ всех птиц.
Змеи изображены с характерными для графики изучаемого периода истории Кавказа, стрелокопьевидными головами, глаза выделены двумя точками или мелкими кружками, а иногда не обозначены. Тела извивающихся змей превратились в орнаментальную волнистую полосу, заполненную точками с волютообразно загнутыми на концах хвостами.
Благодаря стилизации, нарушению пропорций, диспропорции, применению декоративных элементов животные превратились в фантастические, а с добавлением знаков, символов, ромбов, треугольников, шахматного орнамента, изображений солнца, солярных кругов и крестов получили культовую, религиозно-магическую, мифическую окраску и солярное, космическое, небесное значение плодородия.
Изображение человека отличается упрощенностью, малой выразительностью, пропорции нарушены, допущена диспропорция, фигура передана суммарно. Тело непропорционально, клювовидная голова велика по отношению к телу, ноги слишком короткие, руки очень длинные по отношению ко всей фигуре и напоминают длинные, узкие полосы, глаза намечены двумя маленькими концентрическими кружочками.
На поясах запечатлен один из эпизодов мифа, (сказания) о космическом охотнике, божестве грома и молнии, вооруженного луком, преследующем животное — солнце, об умирающем и воскресающем боге — звере; и пиршество, празднество героев — воинов, богатырей, после удачной охоты или победы над врагом.
Пояса изготовлены с большим мастерством, гравировкой, реже пунсоном, в них запечатлен творческий почерк художника, его фантазия. Они покрыты различными изображениями и орнаментом, который поражает совершенством композиции, кропотливостью, тонкостью, изяществом [22] работы, богатством декора. Орнаментация проста, изящна, строга и состоит, как правило, из геометрических узоров. Изящество контуров и умелое расположение рисунков создает впечатление монументальности, внутренней силы, скупого графического рассказа. Контуры изображений всегда округлы. Рисунок лаконичен, несколькими изгибами линий переданы основные объемы и характерные пропорции тел. Внутри контура нанесены точки или линии. Орнамент из косых штрихов следует форме тела и выделяет основные его части — ноги, бедра, лопатки. Исполненные тончайшими линиями, прочерченными с равной силой, эти композиции состоят то из плотно заштрихованных фигур, в виде сгущенных, тоновых пятен, то из силуэтно прорисованных изображений; четкий фон создается: густым пунктиром, штрихами, насечками, точечным узором. Ощущается чувство ритма, которое воплощается образно, как стремление заполнить пространство, упорядочить, организовать, сгруппировать отдельные элементы, превращая их в геометризированный орнамент, подчиненный чувству ритма, объединяя различные узоры в сложные, симметричные, как бы движущиеся изображения; все композиции органично-ритмичны. Органическую цельность, ритмичность, законченность придавали обрамления в виде рамок, фризов, бордюров из треугольников, ромбов, секирообразного орнамента, бегущей опирали, линий, полос из мелких штрихов, точек, обегающих всю поверхность по краю пояса. И все это служит не только фоном, но и объединяет весь декор, все изображения в единую гармоничную композицию, делает пояса еще более нарядными, придает еще больший эффект, подчеркивает декоративность. Изображения животных, людей выполнены либо только линейным контуром, обведены, обрамлены, окаймлены полосой, каймой из точек, штрихов и т.д. или заполнены точечным, елочным узором и т.д., силуэты, контуры которых четко, ясно выделяются на гладкой полированной поверхности. Животные, как правило, показаны сбоку в профиль, человек — в фас. Выработался канон, правило в изображении животных и человека на плоскости, на поверхности металла. В основу композиции положен символический принцип религиозно-магического содержания, который преобладает над декоративным. Линейно-пластическое решение строится на сюжетной канве. Смысловое содержание изображений свидетельствует о том, что пояса возникли в ту эпоху, когда религиозная тематика была главным содержанием, основной темой изобразительного искусства. Эти мифологические, фантастические и религиозно-магические сюжеты и образы своим появлением целиком обязаны творческому воображению, зародившемуся в сознании, мышлении населения древнего Кавказа. [23]
В 1999—2000 годах был исследован южный, приречный, участок широко известного Кобяковского некрополя, расположенного на высокой террасе правого коренного берега Дона. За два года исследовано около 400 погребений, большая часть которых относится к первым векам н.э. Однако, среди них выделяется ряд более древних захоронений, 27 из которых можно объединить в отдельную группу.
Погребения, входящие в эту группу, имеют ряд общих обрядовых признаков. Могилы сопровождались каменными закладами, которые не зафиксированы только в семи захоронениях. В некоторых погребениях среди заклада и под ним прослежены остатки тризны в виде костей рыбы и животных, фрагментов лепной посуды. Все захоронения расположены неглубоко от поверхности, конструкция ям прослежена, полностью или частично, в 18 случаях. В плане они обычно имеют овальную форму, но есть и трапециевидные, и эллипсоидные. Несколько выделяется в этом отношении погребение 47 (2000), в дне которого была выкопана ямка-камера. Почти все погребенные скорчены на правом боку и только в трех случаях на левом. Большая часть их была ориентирована головой на юго-восток, и лишь в виде исключения — на восток (3), юг (1) и юго-запад (1) (рис. 1, 11). Инвентарь небогат и, если не считать керамику из тризны, то в погребениях полностью отсутствует посуда. Вещи или следы их пребывания отсутствуют в 17 могилах. Находки представлены кремневыми орудиями, обломком стрелы, отбойником, пластинкой, кварцитовым нуклевидным обломком, терочником. Присутствие бронзового височного кольца в одном погребении отмечено в виде окисла на черепе, в другом — в виде невыразительных обломков. В погребении 15 (1999) найдено круглое, ромбовидное в сечении височное кольцо, с незамкнутыми приостренными концами (рис. 2). Из погребения 156 (2000) происходят два овальных в сечении кольца, с приостренными несомкнутыми концами (рис. 6, 7). Это погребение отличается от всех остальных богатством инвентаря. Здесь, помимо колец, были найдены ожерелье, включающее в себя кольцевидные бусины желтого стекла (рис. 8), спиральные пронизи (рис. 4, 5) и, по-видимому, бляшку-пуговицу с петлей на обороте и пуансонным орнаментом по краю (рис. 3), а также два браслета из прямоугольной в сечении проволоки с расплющенными концами, согнутой в 3 и 2 витка (рис. 9, 10). Металлические находки из могильника находят себе аналогии, зачастую неполные, в различных памятниках и культурах конца эпохи поздней бронзы — начала раннего железного века. Наиболее близкие кобяковским спиральные пронизи есть в кобанской культуре. Здесь [24] такие изделия широко распространены на ранних этапах, а в более поздних памятниках, с начала эпохи раннего железа начинают доминировать биконические спирали [Техов, 1977, с. 169]. Широкие круглые бляхи-пуговицы с петлей на обороте известны в позднеприказанских, кобанских и центрально- и юго-европейских памятниках. Они встречаются, в конце эпохи бронзы и доживают до начала раннего железа. Однако украшение различных блях по краю простым пуансонным орнаментом, как правило, характерно для эпохи поздней бронзы [Халиков, 1980, табл. 39,2; Березин, Калмыков, 1998, рис. 7,5]. Наиболее полная аналогия происходит из клада Каркаг, культуры Гава [Kemenczei, 1984, табл. CXCVII, 11]. Спиральные браслеты, аналогичные кобяковским, также распространены достаточно широко. Они найдены в некоторых кобанских могилах, относящихся уже к раннежелезному веку [Козенкова, 1982, с. 46] и в позднечернолесском кладе на Субботовском городище [Тереножкин, 1961, рис. 105,8, 106,6-8]. Однако, судя по находкам в Верхнехортицком могильнике белозерской культуры [Попандопуло, 1999] и в комплексах культур эпохи бронзы Северо-восточной Венгрии — Пилинь, Гава, Киятице [Kemenczei, 1984], появление этого типа браслетов связано с более ранним временем. Височные кольца из погребения 156 (2000) сравнимы с некоторыми разновидностями белозерских украшений, а экземпляр из погребения 15 (1999) находит себе наиболее полные аналогии в кладах и погребениях культур Гава, Беркес и Пилинь [Kemenczei, 1984; Археология Венгрии, 1996]. Таким образом, значительная часть металлических изделий из кобяковского могильника датируется в пределах эпох поздней бронзы — раннего железного века. Однако, аналогии бляшке-пуговице и височным кольцам позволяют уточнить эту датировку в пределах финала поздней бронзы. Все это позволяет синхронизировать могильник с кобяковской культурой Нижнего Дона [Шарафутдинова, 1980] и связать его с ранними слоями Кобяковского городища. Подтверждают это и находки в составе тризны керамики, сопоставимой с кухонной посудой кобяковской культуры.
Кобяковская культура низовьев Дона была выделена по четырем бытовым памятникам Э. С. Шарафутдиновой, которая неоднократно подчеркивала ее отличия от нижнедонских памятников [Шарафутдинова, 1980]. Его последняя составляющая, подчеркивает оригинальность этой культуры, обусловленную, по мнению Э.С. Шарафутдиновой, ее закубанскими корнями [Шарафутдинова, 1980, 1991]. Погребения, образуя компактную группу, приуроченную к одному бытовому памятнику, резко отличаются от других обрядовых групп относящихся к этому времени, но не связанных с кобяковской культурой [Потапов, 1998]. Однако, пока нет возможности найти кобяковской группе достаточно полные аналогии среди погребальных памятников Закубанья, где известны бытовые памятники сопоставимые с кобяковскими поселениями. [25]
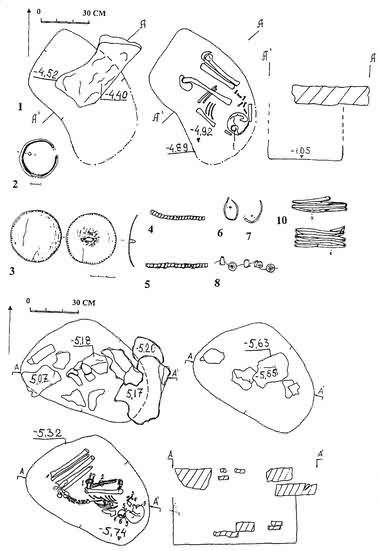
Кобяковский некрополь. Погр. 15, 1999 года: 1 — план и разрез, 2 — височное кольцо, бронза. Погр. 156, 2000 года: 3 — бронзовая бляха, 4, 5 — бронзовые спиральные пронизи, 6, 7 — бронзовые височные кольца, 8 — стеклянные бусы, 9, 10 — бронзовые браслеты, 11 — планы и разрез погребения. [26]
Проблема хронологической атрибуции «киммерийских» стел по изображенным на них деталям вооружения и воинского убора в последнее время вновь поднята специалистами по «предскифской» эпохе [Ковалев, 2000; Ольховский, 2000]. При этом было отмечено, что «при не столь определенной датировке большинства реальных «прототипов» изображений в рамках IX — начала VII в. до н.э. дальнейшая работа по выяснению микрохронологии «киммерийских» древностей становится насущной задачей» [Ольховский, 2000, с. 266].
В данной связи большой интерес представляет только что опубликованная стела из с. Нижний Куркужин в Кабардино-Балкарии [Атабиев, 2000, с. 183-186, табл.II]. Обратимся к анализу некоторых наиболее значимых деталей стелы II (I была соскоблена при переиспользовании) (рис.). Изображенный на ней рифленый пояс встречен и на других стелах Северного Кавказа и Юго-Восточной Европы (Армавир, Белоградец, Ольвия, Целинное). Подобные пояса справедливо сопоставляются специалистами с металлическими кобанскими поясами с продольными ребрами, известными, например, в могильнике Тли [Членова, 1984, с. 25]. По поводу этих поясов А.А.Ковалев скептически заметил, что они имеют широкую дату в пределах X—VII вв. до н.э. и не могут служить надежными хронологическими индикаторами.
По Б.В. Техову, эти пояса появляются с конца VIII в. до н.э. и бытуют до конца VI в .[Техов, 1980, с. 68]. С точки зрения Н.Л. Членовой, М.Н. Погребовой, С.А. Есаяна, их наиболее вероятной датировкой является VII в. [Есаян, Погребова, 1985, с. 93; Членова, 1978, с. 82]. В Самтавро граненый пояс найден в комплексе с наконечником стрелы раннежаботинского типа, подобные которому датированы В.А. Ильинской VII в. до н.э. и даже его началом [Каландадзе, 1983, рис. 727, 732; Iллiнська, 1973, с. 16]. На VII (возможно конец VIII—VII) в. до н.э как дату раннежаботинских стрел указывает находка в кург.55 могильника Южный Тагискен [Итина, Яблонский, 1977, с. 70, 143, рис. 47,2]. Наша корреляция тлийских комплексов с такими поясами показала, что они использовались местным населением в VII — начале VI в. до н.э. [Дударев, 1991, с. 85-91]. Стела из Белоградца, судя по инвентарю погребения, в особенности колчанному набору с сочетанием новочеркасских и раннежаботинских наконечников стрел, должна быть датирована первой половиной VII в. до н.э. [Исмагилов, 1988, с. 46]. Что же касается стелы из Целинного, которую связывают с погр. 3 кург.16, датированном IX в. до н.э. [Корпусова, Белозор, 1980, с. 241], то есть мнения, согласно [27] которым дата погребения может быть определена рубежом VIII—VII или началом VII в. [Исмагилов, 1988, с. 44]. Считаем возможным поддержать эту точку зрения. Кинжалы с линзовидным лезвием, подобные изображенному на стеле из Целинного, оставшиеся неизвестными А.А. Ковалеву, найдены в погр. 56 и 130 Псекупского могильника и погр. 186 могильника Клин-яр Ш (раскопки А.Б. Белинского). Они отнесены нами к кругу поздненовочеркасских древностей [Дударев, 1999, с. 159]. Фигура же с правой стороны стелы из Целинного, атрибутируемая ныне как изображение чекана или секиры [Ковалев, 2000, с. 145; Ольховский, 2000, с. 262], если принять такую трактовку, более всего напоминает секиры с восточноалтайских оленных камней VII—VI вв. до н.э. [Кубарев, 1979, табл. XVI, V]. Необходимо учесть и мнение В.С. Ольховского о том, что армавирская и куркужинская стелы относятся к числу позднейших. Таким образом, изображения рифленых поясов на «киммерийских» стелах вполне могут быть признаны (если отбросить крайние даты) индикатором VII в. до н.э.
Наше предположение находит убедительное подтверждение в присутствии на анализируемой стеле из Нижнего Куркужина изображения меча, который может быть причислен к выделенной нами III группе биметаллического оружия «предскифской» эпохи Северного Кавказа [Дударев, 1983, с.17-18; 1991, с. 45; 1995, с. 18; 1999, с. 103-108]. Этот меч имеет боковую лопасть для крепления к поясу, аналогичную тем, которые отмечены у парадных раннескифских мечей из Мельгуновского и Келермесского (I-III) курганов, возраст которых не моложе конца VII в. до н.э. [Черненко, 1980, с. 12, рис.7; Галанина Л.К., 1997, с. 90, табл. 7, 1а]. Такая комбинация является ярким, выдающимся олицетворением синтеза новочеркасских «предскифских» форм даже не с древнейшими (предРСК-1 — Уашхиту-Квитки-Лермонтовский разъезд) и предРСК-2 (Хаджох 1/1) [Дударев, 1999а, с. 9], а с ранними скифскими формами (РСК-1). Таким образом, вновь расширяются границы бытования, во всяком случае, отдельных элементов новочеркасского комплекса за середину VII в. до н.э., как то фиксировалось еще в конце 1970-х — начале 1980-х гг. [Виноградов, Дударев, 1983, с. 49-53]. Нижнекуркужинская находка заставляет вспомнить мнение Н.Л. Членовой, датировавшей северокавказские «оленные камни» второй половиной — концом VII в. до н.э. [Членова, 1984, с. 56].
Все сказанное выше позволяет определить время II нижнекуркужинской стелы серединой — второй половиной VII в. до н.э. Обнаружение же в гробнице у Нижнего Куркужина всего более 30 «киммерийских» стел, послуживших строительным материалом в сарматское время, однозначно говорит о вхождении этого района Центрального Предкавказья в зону обитания ранних кочевников рубежа «предскифской» и скифской эпох, о расположении здесь в это время самой крупной в Юго-Восточной Европе и на Северном Кавказе группировки номадов, носителей [28] степной культуры, использовавшей каменные изваяния в виде столпообразных стел.
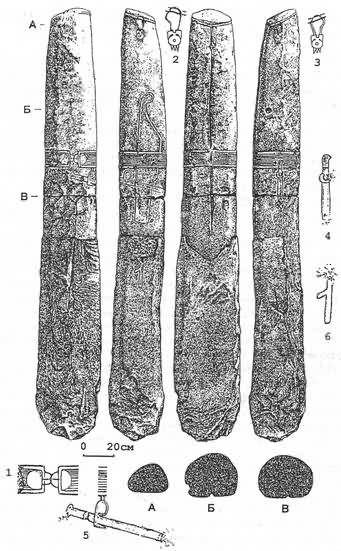
«Киммерийская» каменная стела из окрестностей с. Нижний Куркужин (Кабардино-Балкария) (по Б.Х. Атабиеву). [29]
В 2000 году продолжались раскопки на могильнике №2 Татарского городища. Здесь рядом с курганными склеповыми захоронениями было вскрыто еще несколько грунтовых могил. Наиболее богатая инвентарем могила № 10 выделяется среди других грунтовых захоронений могильника и заслуживает особого внимания.
1. Погребение № 10 имело заклад подпрямоугольной формы, ориентированный с северо-востока — востока — на юго-запад-запад. Заклад имел размеры 2, 30 м * 1, 30 м, сооружен был из необработанных камней ракушечника и песчаника, положенных плашмя или под небольшим углом к горизонту (рис 1.)
Камни лежали, в основном, по периметру навала, наиболее крупные — с северо-восточной и юго-западной сторон. Самый крупный камень размером 0,77 м. * 0,45 м * 0,23 м находился с северо-восточной стороны.
После снятия первого заклада был выявлен, еще один ярус-камней. Он также представлял собой заклад подпрямоугольной формы, ориентированный с северо-востока — востока на юго-запад — запад. Сложен он был из более крупных камней, положенных более плотно друг к другу (рис. 2). Два самых крупных камня размерами 0, 52 м * 0,30 м * 0,18 м и 0,47 м * 0, 45м * 0, 13м лежали с северо-восточной стороны нцвала. На поверхности одного из этих камней был найден зуб лошади (рис. 2, нах. 1), в 0,70 м на северо-восток от него были найдены две бронзовые витые подвески (рис. 2., нах.2,3).
2. После снятия камней второго яруса заклада было расчищено парное погребение в яме подпрямоугольной формы (рис. 3). Стенки и дно ямы никак не были оформлены. Только в восточном углу ямы находилось несколько камней. Костяк I лежал скорченно на правом боку, головой на северо-восток-восток. Череп находился на правом виске, лицевой частью на запад. Руки были согнуты в локтях под прямым углом. Ноги были согнуты в коленях таким образом, что бедра находились под прямыми углами к позвоночному столбу. Нижняя челюсть костяка I находилась за его спиной, у таза.
В 0,2 м на северо-запад от лобной кости черепа костяка I находилась круглая бронзовая бляшка (рис. 3, нах. 4). Она имела выпукло-вогнутую форму с двумя петельками на обороте. В петельки была вставлена витая бронзовая пронизка (рис. 3, нах. 5). Под бляшкой находилась бронзовая булавка с наполовину витым стержнем прямоугольного сечения и навершием в виде петли (рис. 3, нах. 6). Рядом с круглой [30] бляшкой лежала бронзовая булавка, почти идентичная описанной выше (рис. 3, нах. 7). Над теменной частью черепа костяка I лежали два бронзовых предмета. Первый — это фрагмент пронизки в форме трубочки с волнистыми стенками (рис. 3, нах. 8); второй — витая пронизка, изготовленная из плоской ленты с ребром посередине (рис. 3, нах. 9) Рядом с находкой 7 находилась бронзовая игла (рис. 3, нах. 10). Под черепом костяка I была найдена бронзовая подвеска в форме птички (рис. 3, нах. 11). С восточной стороны костяка находились керамические сосуды: корчагообразный сосуд (во фрагментах) (рис. 3, нах. 12), рядом с ним стояла кружечка (рис.3, нах. 13) и в 0,2 м от перечисленных сосудов находилась вторая кружечка (рис.3, нах. 14).
Костяк II был безинвентарный. Костяк II лежал на спине скорченно, головой на юго-запад. Ноги были согнуты в коленях, колени подтянуты к голове. Тело погребенного в момент захоронения было, видимо, зафиксировано таким образом, что руки его обхватывали скорченные ноги и прижимали их к груди. В момент расчистки кости рук лежали перекрещено поверх костей ног. Часть тазовой кости костяка II находилась в северо-восточном углу погребальной ямы, на расстоянии 0,1 м. от черепа костяка I.
3. Инвентарь погребения № 10. Находка 2. (рис.4/1). Бронзовая витая подвеска биконической формы изготовлена из плоской бронзовой ленты. Ее длина 45 мм, диаметр в самой широкой части — 14 мм, диаметр на концах — 3 мм.
Такие пронизки известны из могильников, характеризующих кобанскую культуру: Тлийского (OAK, 1889), Кобанского, Эшкаконского, Каменномостского (Крупнов Е.И., 1960). В. И. Козенкова считает подобные спиральные пронизки — подвески характерными для кобанской культуры второй половины Х — нач. VII в.в. дон.э (КозенковаВ.И., 1989). Б.В. Техов полагал, что такую форму пронизки получили в VIII—VII в.в. до н.э (Техов Б.В., 1977).
Находка 3. (рис. 4/2). Бронзовая витая подвеска трубчатой формы, слегка согнута по оси. Изготовлена из плоской бронзовой ленты. Диаметр изделия 7 мм, длина — 40 мм. Весьма характерные для Северного Кавказа витые пронизки-накосницы известны здесь с эпохи бронзы и продолжали существовать до античного времени.
Находка 4. (рис. 4/3). Круглая бронзовая бляшка выпукло-вогнутой ;формы с овальным сквозным отверстием посередине. На внешней стороне оттиснут орнамент в виде четырехконечной звезды с выпуклым кругом посередине. С внутренней стороны приварены две петли из бронзо-I вых лент овальных в сечении. Диаметр бляшки 45 мм.
Находка 5. (рис. 4/4). является деталью вышеописанной бляшки, так как витая пронизка была пропущена сквозь петельки бляшки. Пронизка изготовлена из плоской бронзовой ленты. Длина пронизки — 40 мм, диаметр — 5 мм. Бляхи, наиболее близкие по форме и орнаменту круглой [31] бляшке известны из могильников предскифского времени: Березовского (Крупное Е.И., 1960), у Мебельной фабрики под г. Кисловодском. Из Березовского могильника бляхи не имеют сквозного отверстия в центре и на оборотной их стороне имеется лишь одна петелька. Бляхи из могильника у Мебельной фабрики под Кисловодском имели только одну петельку на обороте, орнамент на внешней стороне очень близок орнаменту на нашей бляхе (Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Рунич А.П., 1980). Подобная деталь головного убора известна из могильника «Индустрия — I», расположенного под г. Кисловодском. В одном из его погребений у висков женского костяка лежали по бронзовой выпукло-вогнутой бляхе и по две бронзовых витых трубочки-накосницы сверху блях (Афанасьев Г.Е., Козенкова В.И., 1981). В.И. Козенкова относит подобные бляхи к классическому периоду кобанской культуры (вт. пол. X — нач. VII вв. до н.э.). (Козенкова В.И., 1996).
Находка 6. (рис. 4/5). Булавка бронзовая с навершием в виде петли. Верхняя часть булавки — это витой квадратный в сечении стержень, нижняя часть — круглый в сечении стержень, заостренный на конце. Длина булавки — 137 мм.
Находка 7. (рис. 4/6). Булавка идентичная описанной выше. Ее длина — 134 мм. Подобные булавки известны из Верхне — Кобанского (Козенкова В.И., 1996), Березовского (Крупнов Е.И., 1960), Тлийского могильников (Техов Б.В., 1977), могильника у села Заюково в Кабардино-Балкарии (Гриневич К.Э., 1951), из могильника у села Терезе в Карачаево-Черкесии (Биджиев Х.Х., Козенкова В.И., 1980). Аналогичные булавки были широко распространены в культурах Северного Кавказа с конца II тыс. до н. э. и доживают до VII века до н. э. (Гриневич К.Э., 1951).
Находка 8. (рис. 4/7). Фрагмент бронзовой трубчатой пронизки с волнистыми стенками. Длина фрагмента — 24 мм, диаметр изделия был, по всей видимости, — 6 мм. Аналогичная пронизка известна из Березовского могильника (Крупнов Е.И., 1960).
Находка 9. (рис. 4/8). Бронзовая витая пронизка, изготовленная из плоской бронзовой ленты с ребром посередине. Длина пронизки — 32 мм, диаметр — 4 мм. Подобные пронизки известны из Нестеровского могильника, могильника Верхняя Рутха, они так же являются составной частью комплексов доскифского времени. (Крупнов Е.И., 1960)
Находка 10. (рис. 4/9). Игла бронзовая длиною 95 мм, круглая в сечении, диаметр в сечении — 1 мм.
Находка 11. (рис. 4/10). Бронзовая подвеска в виде скульптурной фигурки птицы, которая имеет широкий клюв и ярко выраженные уши или рога, хвост треугольной формы и сквозное круглое отверстие в области туловища. Высота изделия — 30 мм, длина — 30 мм. Подвески в виде фигурок птиц с треугольными хвостами и «рогатыми» головами [32] известны из могильника Верхняя Рутха, который датируется началом I тыс. до н. э. (Крупнов Е.И., 1960).
Тлийского могильника (X век до н. э.) (Крупнов Е.И., 1960). Такие же подвески были обнаружены у села Терезе (Биджиев Х.Х., Козенкова В И., 1980), в могильнике «Индустрия I» (Афанасьев Г.Е., Козенкова В.И., 1981).
Находка 12. (рис. 4/11). Керамический корчагообразный сосуд. Был частично раздавлен камнями обкладки могилы. После реставрации удалось восстановить форму верхней и нижней части тулова. Диаметр венчика — 66 мм, диаметр горла — 55 мм, диаметр верхней части тулова — 165 мм, диаметр дна — 80 мм. Верхняя часть тулова была орнаментирована сосцевидными налепами. Диаметр налепа — 8 мм, его высота — 8 мм.
Находка 13. (рис. 4/12). Керамический сосуд — кружечка. Часть венчика утрачена, на тулове имеются глубокие трещины. Сосуд имел слегка отогнутый венчик, узкое горло и широкое округлое тулово; ручка соединяет устье и широкую часть тулова, в сечении она круглая. Диаметр устья около 55 мм, диаметр горла — около 48 мм, диаметр тулова — в самой широкой его части — 87 мм, высота сосуда — 87 мм.
Находка 14. (рис. 4/13). Керамический сосуд — кружка. Сосуд имеет слабо выраженный венчик и широкое горло, тулово слегка расширено по сравнению с устьем, дно округлое. Ручка прикреплена к венчику и самой широкой части тулова. Верхняя часть ручки возвышается над венчиком. По центру внешней стороны тела ручки имеется желобок глубиной 2 мм и шириной 4 мм. Диаметр венчика — 103 мм, диаметр горла — 100 мм, диаметр тулова — 110 мм, высота сосуда 78 мм.
Анализ погребального инвентаря и конструктивных особенностей грунтового захоронения № 10 Татарского могильника № 2 позволил установить их несомненную близость с аналогичными материалами могильников Северного Кавказа, оставленных племенами кобанской культуры (комплекс из Березовского могильника, из могильника Индустрия I, из могильника Верхняя Рутха, из Верхне-Кобанского могильника и др.). Наибольшие аналогии здесь прослеживаются с материалами погребений, относящихся, по определению В.И. Козенковой, к 3-му этапу развития кобанской культуры, датируемому ей сер. X — нач. VII вв. до н. э. Это позволяет отнести погребение № 10 ко времени, синхронному названным памятникам и датировать его в пределах так называемого третьего этапа развития кобанской культуры, то есть к сер. X — нач. VII вв. до н. э. Это позволяет считать погребение № 10 наиболее древним по сравнению со всеми другими захоронениями, открытыми ранее на могильнике №2 Татарского городища (Кудрявцев А.А., Галаева В.Н., 1999), относящимися к V—III вв. до н. э.
Однако проникновение и развитие кобанских племен на территории Ставропольской возвышенности и других районов Центрального [33] Предкавказья имело свою специфику, что, несомненно, нашло отражение и в хронологических аспектах бытования тех или иных предметов материальной культуры (возможность сохранения в отдельных элементах материальной культуры кобанских племен орхаизмов). Более точная датировка выявленного грунтового погребения № 10 станет предметом дальнейших исследований на Татарском городище. Раскопки грунтового погребения № 10 дают основание предварительно определить нижнюю дату функционирования всего Татарского могильника № 2 в пределах сер. X — нач. VII вв. до н. э., что, в основном, соответствует времени существования здесь крупного кобанского поселения. Подавляющее большинство выявленных к настоящему времени захоронений могильника укладываются в хронологические рамки V— III вв. до н. э.
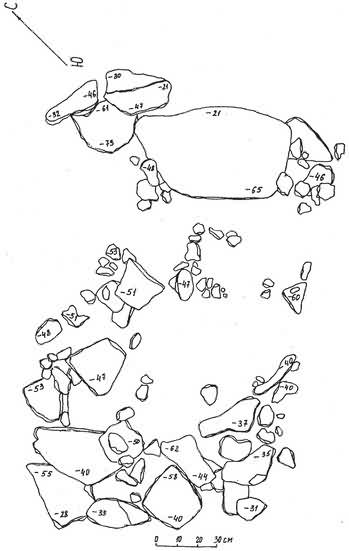
Рис. 1. [34]
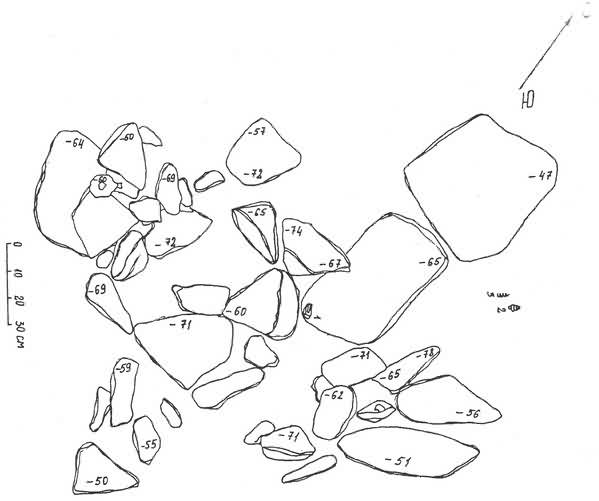
Рис. 2. 1 — зуб лошади, 2 — подвеска бронзовая витая, 3 — подвеска бронзовая витая.
(В книге показан вертикально) [35]
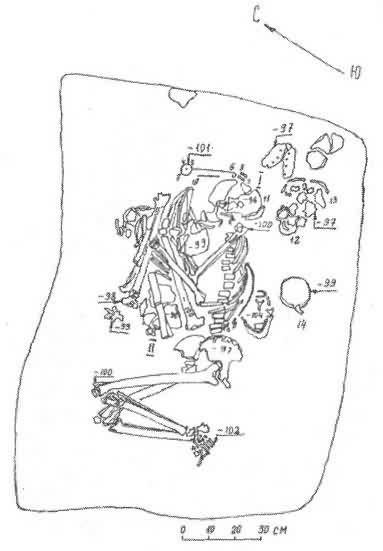
Рис. 3. 4 — бляшка бронзовая круглая, 5 — пронизка бронзовая витая, 6 — булавка бронзовая, 7 — булавка бронзовая, 8 — пронизка с волнистыми стенками, 9 — пронизка бронзовая витая, 10 — игла железная, 11 — подвеска в форме птицы, 12 — керамический сосуд — кружечка, 13 — керамический сосуд — корчага, 14 — керамический сосуд — кружка. [36]
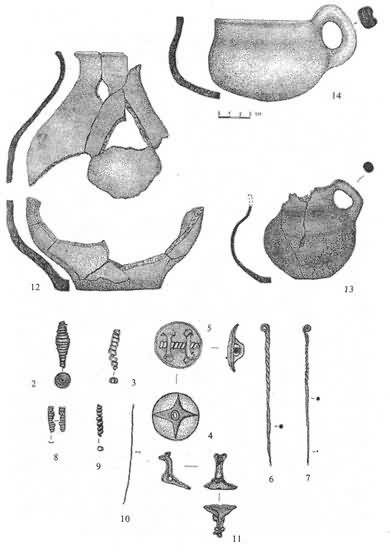
Рис. 4. [37]
В структуре Северного Причерноморья скифо-античного времени исследователи выделяют отдельные культурно-исторические районы, где ранние взаимодействия эллинов и варваров происходили наиболее активно. Одним из таких районов на Юге России являлась область р. Танаис. Именно этот район уже в конце VII — первой половине VI в. до н.э. являлся одной из зон, где греко-варварские контакты отчетливо фиксируются археологическими материалами (Книпович, 1935; Копылов, 1996; 1999). Нам представляется теоретически оправданным рассматривать культурно-историческое развитие Северо-Кавказского региона в указанный период, прежде всего как систему взаимодействий варварских общественно-политических образований, контролировавших данную территорию, с милетской колонией в районе Таганрога, известной в литературе как Таганрогское поселение (Копылов, 1995; 1999; Ю.Г. Виноградов, 1999).
Для правильной оценки раннего этапа греко-варварских связей в этом регионе необходимо точное установление времени существования этой греческой колонии на юго-восточной окраине Геродотовой Скифии. Последние работы по уточнению хронологии архаической, прежде всего восточно-греческой керамики (Cook, Dupont, 1998; Rizzo, 1990; Kerschner, 1997; Монахов, 1999; Копылов, 1996; 1999; Бахтина, 2000 и др.) позволили установить, что Таганрогское поселение было основано не позднее третьей четверти VII в. до н.э. и погибло в третьей четверти VI в. до н.э. (Копылов, Ларенок, 1998). Материалы из Таганрогского поселения позволяют, как нам кажется, еще раз обратиться к вопросу о локализации гавани Кремны, упоминаемой античными авторами. Упоминание Геродотом Кремн в связи с изложением мифа об амазонках, предполагает существование этой гавани уже в архаический период. Сегодня археологические материалы позволяют только Таганрогское поселение идентифицировать с Кремнами. Материалы из этой милетской колонии являются ценнейшим источником, которые позволяют выявить ее роль в экономической, политической и культурной жизни Северного Кавказа и дают возможность правильно оценить значение этого поселения в формировании греко-варварских взаимоотношений. Учитывая, что Таганрогское поселение располагалось на одном из путей регулярных миграций скифской кочевой орды из Предкавказья в районы Нижнего Подонья, Приднепровья и Крыма, установление контактов было неизбежным (Копылов, 1994,). Характерно, [38] что этот путь в Северо-Восточном Приазовье и в районе Боспора хорошо маркируется скифскими погребениями, в инвентаре которых присутствует греческая керамика. Попытка привязки раннескифских погребальных комплексов, содержащих в наборе инвентаря греческую импортную керамику, к путям регулярных миграций номадов (Бахтина, 1991) заслуживает самого пристального внимания, однако, заключение о поступлении греческого импорта в варварский мир в конце VII — первой половине VI в. до н.э. только из Борисфена (о. Березань) нуждается в корректировке. Нам представляется, что ионийские сосуды в погребения скифов Крымского полуострова (Темир-гора, с. Филатовка) и Самаро-Орельского междуречья (Шандоровка) могли попасть из Таганрогского поселения. Рассматривая греко-варварские контакты в Северо-Кавказском регионе, необходимо отметить, что следы их фиксируются уже в конце VII — начале VI в. до н.э., то есть в тот период, когда на Боспоре Киммерийском греческих колоний еще не существовало и нам еще предстоит выяснить роль милетской колонии Кремны в процессе греческой колонизации Боспора.
Впервые ранние контакты греков с кочевыми скифами в Северо-Кавказском регионе отметила Т.Н. Книпович (1935). Не располагая данными о наличии в районе Таганрога греческой колонии архаического времени, она предположила, что образцы ионийской керамики конца VII — начала VI в. до н.э., обнаруженные в этом районе, могут свидетельствовать о доколонизационной торговли греков с кочевым населением области реки Танаис. В подтверждение своих выводов Т.Н. Книпович опубликовала обломки двух восточно-греческих сосудов, которые она датировала концом VII — началом VI в. до н.э. (Книпович, 1935). К сожалению условия находки ионийского сосуда из Хоперского округа нам не известны, тогда как горло ионийского сосуда в форме головы барана происходит из скифского погребения близ пос. Криворожье на р. Калитве. Сегодня количество свидетельств о контактах греков со скифами Подонья в конце VII — первой половине VI в. до н.э. значительно увеличилось за счет открытия скифских погребальных комплексов содержащих в наборе инвентаря греческую импортную керамику. Крайне важно, что в 4 комплексах обнаружены греческие амфоры (Копылов, 2000). Это самосская и хиосская амфоры конца VII — начала VI в. до н.э. из погребения могильника Красногоровка III (Парусимов, 1996), Милетская амфора второй четверти VI в. до н.э. из Ново-Александровского комплекса, амфора «круга Клазомен» конца VII — первой половины VI в. до н.э. из Хапровского комплекса и расписная милетская амфора первой половины VI в. до н.э. из могильника Бушуйка (Беспалый, Парусимов, 1991). Поступление этих амфор кочевникам Подонья из милетской колонии в районе Таганрога не вызывает сомнений (Копылов, 1998). Самой восточной находкой, свидетельствующей о связях Таганрогского поселения с номадами является ионийская [39] расписная амфора из скифского погребения могильника Аксай (Дьяченко, Мейб, Скрипкин, Клепиков, 1999), которую по характеру росписи можно датировать первой половиной — серединой VI в. до н.э. (Cook, Dupont, 1998).
Археологическими данными о наличии контактов населения Таманского полуострова с греками в столь раннее время до недавнего времени мы не располагали. Однако, недавняя находка в районе пос. Алексе-евка близ Анапы (Новичихин, 1993) фрагмента восточно-греческого килика, украшенного фризом с изображением ромбов и птиц, который датируется не позднее конца VII в. до н.э. (Kerschner, 1997), позволяет говорить о перспективности поисков других свидетельств о ранних греко-варварских связях в этом районе. Очевидно еще к первой половине VI в. до н.э.. относится и ойнахоя из погребения у Цукур лимана (Amandry, 1965).
Данных о ранних связях греков с Прикубаньем известно несколько больше. Возможно наиболее ранним свидетельством о греко-варварских контактах является серебряное зеркало второй половины VII в. до н.э. из 4-го Келермесского кургана, которое некоторые исследователи связывают с продукцией восточно-греческих центров (Галанина, 1997). Следует обратить особое внимание на отсутствие в материалах Келер-месских курганов греческой импортной керамики. К концу VII — первой половине VI в. до н.э. относятся клазоменские и «круга Клазомен» амфоры из могильника Лебеди V и из станицы Анапской (Монахов, 1996). Морфологические особенности позволяют отнести к клазоменским и амфору из кургана 7 могильника Циплиевский кут у пос. Ахтырский, которую можно датировать концом VII — первой четвертью VI в. до н.э. К первой половине VI в. до н.э. относится и восточно-греческий килик из кургана 15 могильника у аула Уляп (Ксенофонтова и др., 1987).
Для других районов Северного Кавказа данными о раннем этапе греко-варварских связей мы пока не располагаем, однако тщательное изучение археологических коллекций, хранящихся в научных учреждениях региона, возможно позволит выявить следы этих контактов.
В 1998 г. совместной экспедицией Института археологии РАН и МГУ им. М.В.Ломоносова при поддержке Российского Гуманитарного научного фонда и ГП «Наследие» при Министерстве культуры Ставропольского края был раскопан крупнейший курган скифского могильника [40] Новозаведенное-II (курган № 7). Данный курган к моменту раскопок имел высоту около 8 м, диаметр около 70 м и был окружен заплывшим рвом первоначальной шириной 14 м, глубиной 4,5 м, ограждавшим площадку около 120-124 м в диаметре.
Помимо трех впускных погребений, открытых в верхних слоях насыпи и оставленных кочевниками Золотой Орды в XIV в., было исследовано основное погребение кургана, относящееся к раннескифскому времени. Могильная яма основного погребения была вырыта с уровня погребенной почвы в центре кургана. Она имела подквадратную форму и была ориентирована по линии ССЗ-ЮЮВ. Площадь могильной ямы составляла до 30 кв. м, а глубина — 2,64 м от поверхности погребенной почвы. Выкид из могилы был размещен вдоль ее западной и восточной сторон в виде двух валиков, вытянутых по линии ССЗ-ЮЮВ. На внутреннюю сторону обоих выкидов опирались бревна перекрытия могилы, уложенные на нескольких уровнях. Вокруг ямы на разных расстояниях от нее были открыты кострища, фрагменты керамики, кости животных и многочисленные следы от колес повозок, пересекавшие площадку во всех направлениях.
Установлено, что после завершения похорон и возведения могильного перекрытия центр погребальной площадки был ограничен кругом хвороста, отпечатки которого образовывали полосу до 5 м шириной. Затем деревянное перекрытие могилы, а также могильные выкиды и пространство вокруг могилы (в том числе и круг хвороста) были перекрыты камышом, образовавшим округлую площадку, вокруг которой был насыпан вал диаметром ок. 39-40 м, в свою очередь перекрытый плетнями. Эти плетни переходили с вала на камышовую площадку, перекрывая всю поверхность внутри вала. После сооружения данной надмогильной конструкции внутренняя часть ее была засыпана, что сформировало основу насыпи.
Погребение было разрушено и ограблено в древности; грабительский ход проходил с юга. Согласно антропологическому определению, в могиле был погребена молодая женщина. Вместе с ней в могилу были положены не менее пяти взнузданных лошадей, одна из которых, по-видимому, была верховой, в то время как четыре остальные могли составлять упряжку повозки, на что указывают обнаруженные здесь же остатки плетеного предмета (кузова колесницы?) и железного навершия.
В инвентарь погребения входили: оружие (фрагменты железного меча, копий и ножей, наконечники стрел, боевой топор); пряслица; глиняные сосуды (корчага, кувшины, чаши, мисочки и кружечки); бронзовые чаши, которые, судя по форме и орнаментации, скорее всего, являются переднеазиатским или закавказским импортом; украшения и [41] туалетные принадлежности — золотая копоушка, бусы (янтарные, сердоликовые, гагатовые, стеклянные и из египетского фаянса), золотые нашивные бляшки и накладки на пуговицы; высококачественные костяные предметы, выполненные в скифском зверином стиле.
Женщина, погребенная под курганом, принадлежала к высшей прослойке военно-кочевой аристократии, местом захоронения которой являлся могильник Новозаведенное II. Только еще один курган данного могильника (курган № 2, раскопан в 1986 г.), принадлежал погребенному столь же высокого ранга. Об этом говорят близкие размеры насыпей этих курганов, схожесть погребальных конструкций и обряда погребения, а также то, что в могилах курганов № 7 и № 2 помимо большего, по сравнению с другими, количества взнузданных лошадей, прослеживаются детали, которые могут свидетельствовать о помещении в них повозок или колесниц, что не отмечалось ни в одном из остальных курганов данного могильника.
Погребение в кургане № 7 выделяется набором оружия, составляющим почти полный набор вооружения воина-мужчины (за исключением панциря), в то время как в остальных женских захоронениях с оружием в Новозаведенском могильнике встречено только по одному виду вооружения.
Курган № 7 может быть предварительно датирован концом VII — началом VI в. до н.э. прежде всего по аналогиям предметам, украшенным в скифском зверином стиле. Костяная скульптурная головка грифо-барана по стилистике зооморфного образа и по редкому способу крепления находит ближайшую аналогию в сходном изделии из Кармир-Блура; остальные, более далекие аналогии (Келермес, Нивра, Немировское городище и др.), как и вышеприведенная урартская находка, датируются в рамках второй пол.VII — начала VI в. до н.э. Костяное навершие в виде скульптурной фигурки «припавшего к земле» кошачьего хищника, будучи в целом уникальным, вместе с тем по стилистическим и функциональным особенностям сходно с некоторыми изображениями кошачьего хищника в переднеазиатском искусстве (львы на булавках из Хасанлу и Луристана IX—VIII вв. до н.э.), а исключительно с точки зрения трактовки данного зооморфного образа ему соответствуют ряд аналогий в искусстве скифской архаики. Близка ему по стилистике и, возможно, по назначению золотая фигурка оленя из Келермесских курганов, принцип крепления которой также сходен с переднеазиатской традицией. Остальные находки в погребении кургана № 7 не противоречат вышеназванной датировке. [42]
В августе 2000 года Быстрянским отрядом Донской комплексной археологической экспедиции (начальник В.И. Гуляев) было обследовано несколько курганных могильников в междуречье рек Северский Донец и Дон в северных районах Ростовской области. Особое внимание привлекла группа насыпей, известная под названием «Частые курганы». Могильник расположен в 20-ти км к ЮЮВ от г. Белая Калитва, на землях СПК «Верный путь» у балки «Соколовчик» на водоразделе рек Быстрая и Калитва, впадающих в Северский Донец.
В настоящее время в могильнике зафиксировано 26 насыпей от 0,2 до 6 м высотой. Ранее их было, несомненно, больше. Курганы расположены цепочкой по линии В-3 в пределах одного километра, на всхолмлении, которое господствует над окружающей местностью. Значительная часть курганов имеет каменную основу.
Раскопанная насыпь, самая восточная в группе (курган № 1), сохранилась на высоту 15-20 см и выделялась на вспаханном поле пятном сильно пережженной земли диаметром около 10 м.
В ходе раскопок выяснилось, что первоначальный размер насыпи не превышал 15 м в диаметре. Поскольку поле неоднократно подвергалось глубокой вспашке, некоторые предметы, кости животных и человека, находившиеся в насыпи, были повреждены. Могильной ямы, как таковой, не было, а все захоронение находилось в линзовидном углублении площадью 25-30 м2 в центре кургана, дно которого было немного ниже уровня древнего горизонта. Следов ограбления не отмечено. Несколько групп костей от туш животных (лошадей, овец) лежали в анатомическом порядке. Всего отмечено 5 скоплений костей и находок, как на дне углубления, так и выше его.
Кости человеческих особей (не менее двух человек) были расположены в западной части захоронения. При этом часть из них была кальцинирована. Две берцовые кости, лежавшие в анатомическом порядке у бронзового котла и жаровни, пяточными костями к югу под слоем сильно перекаленной земли — следов огня не имели. Создается впечатление, что останки людей (расчлененные и обугленные?) были разбросаны, а ритуальная пища, сосуды и другие вещи (кроме узды и наконечников стрел) аккуратно складывались в определенных местах.
Предварительно весь комплекс был воспринят нами, как погребение с сожжением на уровне древнего горизонта (сообщение на Донских археологических чтениях в декабре 2000 года, предварительная публикация, отданная в 1-й том трудов Донской комплексной археологической [43] экспедиции). Однако более внимательный анализ всего материала позволил мне усомниться в этом и трактовать захоронение как кенотаф или поминально-ритуальный комплекс с человеческим жертвоприношением. Подобные памятники достаточно известны в скифо — савроматской среде и отмечены в Приуралье, Поволжье, на Северном Кавказе, на Дону и Приднепровье. Процесс сооружения кургана № 1 происходил, на мой взгляд, следующим образом.
Первоначально был разведен сильный костер, который поддерживался длительное время (толщина пережженной земли местами достигала 30 см) путем подбрасывания в него хвороста. Следов использования толстых бревен не обнаружено. После затухания середина кострища была вычищена до уровня непрокаленого грунта (этим можно объяснить углубление в центре под насыпью). На этой площади в разных местах (может быть даже не одновременно) размещали ритуальную пищу и инвентарь.
Наиболее разнообразный инвентарь был сосредоточен около бронзового котла и бронзовой жаровни. Там же было больше всего остатков туш животных (не кальцинированных) и находились разрозненные кости человеческих скелетов, часть из которых была кальцинирована. Все это было перекрыто мощным слоем пережженного грунта, который находился в заполнении котла и жаровни.
Другие скопления предметов и костей располагались на разных уровнях, иногда в небольших зольниках (зола черного цвета), но также перекрытых перекаленным грунтом.
Помимо, упомянутых, бронзового котла и жаровни, в различных местах захоронения найдены глиняные лепные сосуды (один кувшин и два горшка), фрагменты керамики, оружие (железный кинжал, бронзовые наконечники стрел различных типов, среди которых один железный) и детали конской сбруи в виде украшений узды выполненных в зверином стиле. Представляет особый интерес находка бронзовой бляхи (?) в виде ладони правой руки, четыре подвески узды (?) в виде литых объемных головок волков, фрагмент железного псалия с изображением на конце головы хищника (пантеры?), выполненного из свинца, бронзовый конский наносник в виде ушастого животного и бляха в зверином стиле со сложной композицией.
Хронология комплекса в пределах V — не позднее начала IV вв. до н.э. устанавливается по наиболее характерным вещам — деталям конской сбруи, бронзовому котлу, бронзовым втульчатым трехлопастным наконечником стрел и бляхи виде человеческой руки (подобные бляхи характерны (по В.А. Ильинской) — только для V в. до н.э.). Не противоречат этой дате и сосуды, два из которых (горшки) украшены ногтевыми насечками.
Несколько необычна находка двух фрагментов чернолощеной керамики, более древней, чем сам комплекс. Один из фрагментов украшен [44] врезным орнаментом в виде треугольников и квадратиков, расположенных между двумя линиями. Причем треугольники заполнены полосками — вдавленным палочкой(?) орнаментом, а квадраты между ними гладкие.
Комплекс кургана № 1 близок курганам Шолоховскому, Кащеевскому и особенно 25 кургану (курган кенотаф) Сладковского могильника на р. Быстрая, расположенного примерно в 50 км к СВ от могильника «Частые курганы». В данном комплексе в большей степени просматривается влияние восточных регионов (савроматской культуры по К.Ф. Смирнову), однако нельзя не отметить сходства с синхронными памятниками Среднего Дона, а также элементов скифского (западного) влияния и связей с Северным Кавказом.
В августе 2000 г. Быстрянским отрядом Донской комплексной археологической экспедиции при раскопках кургана № 1 могильника Частые курганы (20 км от г. Белая Калитва Ростовской области) в числе иных находок было обнаружено несколько металлических деталей конского снаряжения, выполненных в традициях скифского звериного стиля.
Наиболее выразительные предметы — четыре бронзовые объемные головки животного, изображение которого с достаточной долей уверенности можно отнести к волчьему хищнику. Образ волка — черта искусства прежде всего савроматского мира. В южных и юго-западных районах Приуралья он находит наиболее полное выражение. В начале V в. до н.э. изобразительный мотив волка проникает в Скифию, однако не достигает там такого развития и богатства форм как у савроматских племен. Найденные нами бронзовые головки достаточно выразительны, и в то же время отмечены простотой и лаконичностью в изображении черт реального животного. Представляется, что стиль, в котором они исполнены, в целом соответствует так называемому примитивно-натуралистическому течению в скифском зверином стиле, получившему развитие начиная с V в. до н.э.
Следующий предмет — ажурная бляха со сложным зооморфным рельефом. Максимально близкие по сюжету и стилистике предметы, которые находятся в собрании Краснодарского музея-заповедника (КГИ-АМ-З), происходят из раскопок начала XX века. Сюжет этих бляшек [45] Е. В. Переводчикова определяет как сцену терзания. Кубанские бляхи, подобные нашей, в целом характеризуются Е. В. Переводчиковой как «... близкие предметам из курганов у ст-цы Елизаветинской (IV в. до н.э.)
Обнаруженный нами бронзовый налобник относится к группе предметов, достаточно широко представленных в древностях скифо-савроматского мира на протяжении длительного времени. Данный факт, а также высокая степень схематизации нашего экземпляра, затрудняют попытки культурно-исторических и хронологических характеристик. Можно отметить, что вероятно перед нами образ синкретического существа скорее мирной, нежели хищной природы.
В числе находок из кургана № 1 — фрагмент псалия с окончанием в виде головы хищного зверя (видимо, изображен хищник из семейства кошачьих). Этот предмет предположительно выполнен из свинца на железном стержне. Сохранность предмета плохая, изображение хищника выполнено весьма лаконично. Псалии, оформленные таким образом, также известны среди широкого круга скифо-савроматских памятников, и определить, к ареалу какой культуры тяготеет наше изображение, довольно сложно. В целом нам представляется, что наша находка тяготеет к восточным аналогам.
Представляет особый интерес находка бронзового предмета в виде рельефного изображения кисти руки. Из района Нижнего Дона нам известен всего один подобный предмет — дореволюционное поступление в Новочеркасский музей истории донского казачества. Из раннесарматского погребения в Нижнем Поволжье (Старица) происходит еще один экземпляр. Серия блях в виде кисти руки известна по материалам скифских памятников. Время бытования этих блях в Поднепровье кратковременно и определяется серединой V в. до н.э.
Несмотря на многочисленность рассмотренной группы предметов, в ней довольно определенно прослеживаются следы влияния по крайне мере двух культурно-исторических общностей: савроматской (волчьи головки), скифской (кисть руки), и, возможно, северо-кавказской (ажурная бляха со сценой терзания). Данный факт затрудняет попытки этнической характеристики населения, оставившего данный погребальный комплекс. Тем более, что регион, в котором расположен могильник «Частые курганы», является очевидной контактной зоной между скифским и савроматским мирами. В то же время элементы восточного влияния в материалах данного комплекса представляются более ощутимыми.
Вероятная датировка погребального комплекса, из которого происходят анализируемые нами находки, определяется (учитывая обряд и наличие иных предметов — бронзового котла, жаровни, керамики и бронзовых наконечников стрел) в пределах последней трети V в. до н.э. [46]
В 1881 г. состоялся V археологический съезд в Тифлисе, повлиявший на общее развитие исторического, археологического и этнографического изучения всего Кавказа. Съезду предшествовали археологические разведки и раскопки, были поставлены новые проблемы.
В 1879 г. в результате раскопок, произведенных В.Б. Антоновичем, К.И. Ольшевским, А.М. Казбеком, графом А.С. Уваровым и П.С. Уваровой около станции Казбек на Военно-Грузинской дороге были исследованы «три смежные гробницы, лежавшие под общею крышей, состоявшей из каменных плит...» (многокамерный склеп?). В трудах Предварительных комитетов V археологического съезда (1882 г.) профессором В.Б. Антоновичем было опубликовано краткое описание этих раскопок и найденных предметов, поступивших в собрание графа Уварова (Антонович В.Б., 1882).
В последствии П.С. Уварова в своей монографии «Могильники Северного Кавказа», отметив публикацию В.Б.Антоновича, переиздала обнаруженные у ст.Казбек вещи с рисунками и дополнениями (Уварова П.С., 1900, с. 152-155). По мнению Б.М. Керефова, эти материалы датируются III—I вв. до н.э. (Керефов Б.М., 1974).
Одновременно с могильниками Северной Осетии стали изучаться памятники района Пятигорья. Так железноводский доктор Иванов сообщил профессору Д.Самоквасову, что в 1878 г. проездом между горами Верблюдом и Бештау он заметил на возвышенности, в двух верстах от Горькой речки, у подножия горы Верблюд торчавший из земли каменный ящик, сложенный из четырех больших плитообразных камней и закрытых сверху таким же камнем. Верхняя плита была убрана рабочими. В гробнице были встречены пять человеческих скелетов, из которых четыре были в сидячем положении, находились в углах гробницы и помещались выше пятого, занимавшего середину дна могилы, в вытянутом положении. При лежачем костяке были найдены бронзовые трехгранные наконечники стрел, крупные мозаичные бусы и др. (Самоквасов Д., 1908).
В 1881—1882 гг. в районе Пятигорья проводил раскопки профессор Д. Самоквасов. Он посетил место раскопок Иванова. Узнав от местных жителей, что владелец хутора, расположенного поблизости свез на свой Двор с окрестных полей до 20 больших плитообразных камней, составлявших гробницы, Д. Самоквасов подробно расспросил хозяина. Хуторянин указал на кубический дольмен, стоявший на правом скалистом берегу р. Горькой, сложенный из четырех плитообразных камней, [47] перекрытых пятым. В одном из боковых камней имелось круглое отверстие. В близи этого дольмена, по указанию хозяина хутора, были найдены два полуразрушенных сооружения, формы удлиненных четырехугольных ящиков, сложенных из каменных плит. На дне гробниц были найдены человеческие кости, глиняные черепки, окисшие железные удила, маленькие трехгранные железные наконечники стрел и стеклянная подвеска формы яичка с ушком. Как отметил Д. Самоквасов, каменные гробницы окрестностей хут. Дыденки относятся к скифской эпохе (Самоквасов Д., 1908). Судя по описанию, эти материалы датируются IV—I вв. до н.э.
В 1899 г. из Ставропольской губернии в Императорскую археологическую комиссию поступили предметы, обнаруженные в ходе грабительских раскопок большого кургана, известного под названием «Султановского», расположенного у одноименного селения на горе Брык. Данные находки вызвали у ученых повышенный интерес к султановским древностям. Это побудило Императорскую археологическую комиссию поручить художнику В.А.Владимирову изучение кургана. В 1900 году И.А.Владимиров исследовал Султановский курган, под насыпью которого оказался склеп, сооруженный в греческой манере.
Высота кургана была около 8,5 м, окружность — 75 м, диаметр площадки наверху — 17 м. Склеп был сложен их тесаного камня — тщательно обработанных квадр.
При исследовании кургана И.А.Владимировым были найдены различные вещи. Раскапывая верхнюю часть кургана (методом квадратного колодца), в перерытой грабителями земле он обнаружил предметы, в том числе геральдические накладки, датирующиеся VII в. (видимо, впускное погребение).
В склепе были найдены: коготь, клык (по И.А.Владимирову — медвежьи), несколько медных (видимо, бронзовых) чешуек от панциря и два предмета из обработанной кости. Один — в виде удлиненного треугольника, другой — прямоугольной формы с одной закругленной стороной и отверстием в верхней части. Кроме этого, в склепе были обнаружены пять стеклянных бус, медная (бронзовая?) ворворка, два железных четырехгранных втульчатых наконечника стрелы и др. (OAK, 1902).
В данной ситуации нужно обратить внимание на некоторые документы, хранящиеся в Государственном архиве Ставропольского края (ГАСК).
23 ноября 1898 г. приставом был произведен осмотр кургана у горы Брык близ села Султановского (ГАСК, ф. 101, Оп. 4, ед. хр. 2623).
Учитывая исследования И.А. Владимирова и описание находок пристава, можно сделать предположительную реконструкцию богатого погребения в склепе. Внутри камеры находилось парное захоронение. В число погребального инвентаря входили: керамический сосуд, [48] золотая чаша, подвеска с уздечкой (возможно, удила с псалиями), фигурка льва из слоновой кости, бронзовый чешуйчатый панцирь, колчанный набор (сохранились две железные втульчатые стрелы), бусы, два предмета из обработанной кости, клык и коготь медведя, а также ворворка. Перечисленные вещи следует датировать IV—III вв. до н.э. (Прокопенко Ю.А., 1998).
В начале XX в. в Ставрополе на Варваринском кладбище (сейчас здесь находится здание строительного техникума) было открыто погребение в склепе. Описание склепа не сохранилось. Известно только, что во рту погребенного находилась золотая древнегреческая монета (Минаева Т.М., 1965).
В советское время (послевоенный период) склеповые могильники были обнаружены в различных районах Центрального Предкавказья: Карачаево-Черкессии, Ставропольской возвышенности, в Пятигорье, Кабардино-Балкарии.
В 1961 г. Е.П. Алексеевой был осмотрен подземный дольменообразный склеп Коба-Баши между ст. Сторожевой и Преградной. В плане склеп прямоугольный, ориентирован с юга на север. Сооружение, похожее на дольмен, имело вход — лаз. Этот вход был детально изучен Л.Г. Нечаевой при осмотре склепа в 1966 г. По рассказам местных жителей, в склепе было восемь костяков. Все лежали головой на север. Здесь же, в северной части, были обнаружены кости животных (овцы и др.), галька и др. предметы, датирующиеся, по Е.П.@) Алексеевой, III в. до н.э. — III—IV вв. н.э. (Алексеева Е.П., 1971).
В 1968 г. В.Б. Виноградов и Н.Н. Михайлов открыли коллективное погребение у подножия Кабан — горы на окраине Кисловодска. Могильная яма подквадратной формы (3,0 * 2,4 м.) была вытянута с юго-запада на северо-восток. Три стены её были обложены вертикально стоявшими каменными плитами. В склепе найдено не менее 14 погребенных, лежавших в два яруса и ориентированных на северо-восток и на северо-запад. Все они, кроме центрального, лежавшего в скорченном положении на левом боку, были вытянуты на спине. (Виноградов В.Б., Рунич А.П., 1969). Материалы склепа (керамика, типы вооружения и т.д.) датируются IV—I вв. до н.э.
В 1979 г. группа ставропольских школьников во главе с учителем С.Колосовым обнаружила склеповый могильник (7 склепов) на левом берегу ручья Вербовка (северо-западная окраина гор. Ставрополя). Ими была найдена разграбленная гробница (№ 1) . Доследовав склеп, школьники сдали обнаруженные предметы в Ставропольский краеведческий музей. В 1981 г. могильник был обследован сотрудниками музея Н.А. Охонько и В.Г. Остапенко. Весной 1982 г. во время повторного ограбления была практически разрушена гробница № 1, тогда же грабители начали копать гробницу № 2. В мае 1982 г. она была доследована Н.А. Охонько и А.Б. Белинским. При очередном осмотре могильника [49] весной 1992 г., была зафиксирована попытка ограбления ещё одной гробницы, получившей порядковый № 3.Этот склеп был раскопан отрядом Ставропольского государственного педагогического института (СГПИ) под руководством Ю.Н.Литвиненко. Всего в гробнице был обнаружен прах, по меньшей мере, 10 человек. Датируется склеп IV—I вв. до н.э. (материал не опубликован) (Охонько Н.А., 1988).
В 80-х годах подобный склеповый могильник был обнаружен в 8 км. западнее северо-западного района г. Ставрополя, в лесном массиве «Русская лесная дача» на левом берегу балки Беспутки (Белинский А.Б., Ольховский B.C., 1994).
В 1989 г. в результате разведок археологической экспедиции СГПИ под руководством А.Б. Белинского между Ставропольскими высотами и Кавминводами, на Сычевых горах (х. Раздольный) были выявлены аналогичные подкурганные склепы (Белинский А.Б., 1994).
В начале 90-х годов на территории Татарского городища ( в 3 км. к югу от г. Ставрополя ) в юго-западной части Центрального городища на нижней террасе левого берега безымянной балки был обнаружен могильник № 1 , расположенный за валом в 242 м. В группе предварительно выделены 4 склеповые сооружения, вытянутые вдоль террасы в направлении с-ю.
Склеп № 1 исследовался в 1992—1993 гг. первоначально В.И. Каминским, затем В.Ю. Малашевым. Погребальная камера размерами 2,95 * 2,15 м. была ориентирована по линии ЮЗ-СВ, выстроена из 11 вертикально вкопанных плит. Дно было выложено рваным камнем. К юго-западной стенке примыкал дромос в виде поставленных на ребро плит длиной около 1,5 м. Многочисленный погребальный инвентарь типичен для памятников Центрального Предкавказья сарматского времени и представлен железными наконечниками стрел и копий, ножами, бронзовыми зеркалами и предметами украшения из бронзы, бусами, вставками, керамикой, включающей фрагменты античной черно-лаковой посуды и другими изделиями (Малашев В.Ю., 1994).
В 1998 г. исследователями А.А. Кудрявцевым, Ю.А. Прокопенко и Р.Р. Рудницким был доследован разграбленный склеп № 2, расположенный в 16 м южнее склепа № 1, Камера склепа прямоугольной формы (2,9 * 1,9) ориентирована длинной стороной по линии В-З. Стены склепа сооружены из плит, поставленных вертикально. Вход-дромос был устроен в южной стене. Вокруг склепа устроена курганообразная каменная наброска. На расстоянии 2,25 м от края склепа в насыпи сооружен кромлех из крупных валунов и плит, поставленных на ребро, часть из них повалена. Придонный слой был насыщен человеческими костями, костями животных (лошадь, баран), керамикой и другими находками. В дромосе и среди камней также были обнаружены человеческие кости и артефакты: керамика, бусы, ножи, железные втульчатые наконечники стрел, предметы конской упряжи и т.д., датирующиеся IV—III [50] вв. до н.э. — II в н.э. (Кудрявцев А.А., Прокопенко Ю.А., Рудницкий P.P., 1999).
В 90-х годах за пределами Татарского городища (50-70 м. к востоку от стен) был обнаружен еще один склеповый могильник, состоящий из курганов с каменной курганообразной обкладкой и склепом с дромосом в центре. Могильник получил порядковый № 2. В 1996—1997 гг. археологическая экспедиция Ставропольского государственного университета и Ставропольского краеведческого музея (Прокопенко Ю.А., Березин Я.Б. и др.) под руководством А.А. Кудрявцева исследовала склеп № 1. При расчистке погребальной камеры и каменной обкладки был обнаружен ряд предметов, из числа которых выделяются фрагменты черно-лаковых керамических сосудов, амфорная керамика, предметы конской упряжи и др. Материалы склепа и ритуальной площадки (южная пола кургана) датируются IV — рубежом III—II вв. до н.э. (Кудрявцев А.А., Кудрявцев Е.А., Прокопенко Ю.А., 2000). В настоящее время изучается курган № 2 этого могильника.
В 90-х годах погребальные сооружения в виде склепов были обнаружены и в других районах Центрального Предкавказья: Кабардино-Балкарии (склеп у с. Зарагиж) (Атабиев Б.Х., 2000) и на территории Кавминвод.
Поздней осенью 1990 г. житель пос. Быкогорка пытался провести планировку участка для строительства хозяйственной постройки. Но сразу же под слоем дерна оказались массивные каменные плиты, которые он сдвинул в сторону с помощью экскаватора. Раскапывая обнаруженную гробницу, местные жители наткнулись на человеческие кости и глиняную посуду. Однако начавшийся дождь помешал окончательно разграбить древний склеп. Позже, по настоятельной рекомендации местного милиционера, образовавшаяся яма была засыпана, а о находке сообщено археологам.
Весной 1991 г. Пятигорский археологический отряд раскопал полуразрушенный склеп у пос. Быкогорка. Склеп расположен у южного подножия мысообразной возвышенности, находящейся между жилой застройкой пос. Быкогорка и западным склоном горы-лакколита Бык в 5 км. к северо-западу от города — курорта Железноводска.
Склеп ориентирован углами по сторонам света и имел форму, близкую к прямоугольной (длинная ось склепа ориентирована по линии северо-запад — юго-восток). Вероятно, склеп имел перекрытие из каменных плит, уничтоженных кладоискателями. Были зафиксированы две каменные стенки гробницы. Имели ли каменное оформление северо-западная и юго-восточная стенки, выяснить не удалось из-за сильной поврежденности склепа. Возможно, что в момент сооружения и функционирования склеп был полуподземным, о чем свидетельствует близкое к поверхности расположение верхних краев плит юго-западной стенки и следы неоднократного ограбления склепа. [51]
В верхних слоях заполнения было найдено множество человеческих костей (судя по числу нижних конечностей, не менее 26 скелетов (взрослых и детей)) и находок: глиняных сосудов, подвесок, бус, железных наконечников стрел, бронзовых браслетов и др.
На самом дне склепа на каменной вымостке из плиток бештаунита и сланца были расчищены два человеческих скелета, ориентированных на юго-восток (без вещей).
Ряд предметов из склепа были переданы местными жителями: бронзовые браслеты, железные наконечники стрел и др. Все вещи переданы в Железноводский краеведческий музей. Судя по погребальному инвентарю и конструкции погребального сооружения, нижнее парное захоронение следует датировать IV—III вв. до н.э., а верхнее (многократное) — более поздним временем, предположительно II—I вв. до н.э. (Прокопенко Ю.А., Рудницкий P.P., Фоменко В.А., 2000).
В 90-х гг. у терренкура (г. Развалка) был обнаружен разграбленный склеп. Стены камеры состояли из поставленных вертикально плит. Вокруг склепа прослеживается каменная наброска. Из инвентаря найдены только три бусины III—I вв. до н.э. (Прокопенко Ю.А., Рудницкий P.P., Фоменко В.А., 2000).
Ещё один склеп был обнаружен на левом берегу реки Подкумок (севернее лесхоза г. Кисловодска). Разграбленный склеп в 1998 г. был доследован краеведами В.А. Лученковым и М. Гуськовым. Инвентарь из грабительских отвалов и доследованной части склепа в настоящее время хранится в Железноводском краеведческом музее.
Данное склеповое сооружение ориентировано длинной стороной по линии В-З. Вход в камеру был устроен в южной стенке. Западная стена, юго-западный и юго-восточный угол укреплены каменными плитами. Склеп был ограблен еще в древности и человеческие кости находились в беспорядке. В грабительских отвалах и в доследованной части камеры были обнаружены: фрагменты бронзовых пластин, каменный оселок, бусы, фрагмент железного ножа, височные кольца, железные втульчатые наконечники стрел, целые формы и фрагменты керамических сосудов и др. Материалы имеют многочисленные аналогии в памятниках IV—III вв до н.э. — последних веков до н.э. (Прокопенко Ю.А., Рудницкий P.P., Фоменко В.А., 2000).
Таким образом, следует отметить, что история изучения склеповых погребальных сооружений насчитывает более 120 лет. Карта распространения склепов в Предкавказье (верховья Кубани, Ставропольская возвышенность, район Кавминвод, Кабардино-Балкария, Северная Осетия) маркирует регион, население которого в то время выделялось сходством своих культурно-религиозных традиций. [52]
С III в. до н. э. в материальной культуре и погребальной обрядности племён Северного Кавказа фиксируется ряд новаций. Эти изменения принято связывать с сарматизацией местного населения. Вместе с тем, уже довольно давно обращалось внимание на то, что некоторые индикаторы сарматизации не характерны для собственно-сарматской АК (Каменецкий И.С., 1965). Уточнение хронологии сарматских древностей показывает, что именно в III в. до н.э., савромато-сарматские памятники к западу от Волги отсутствуют (Берлизов Н.Е., 1998). Вместе с тем, весь набор вновь появившихся на Кавказе в III—II вв. до н.э. новшеств фиксируется в памятниках поздних скифов Крыма и Нижнего Дона.
В Скифии археологически фиксируются некие потрясения на рубеже IV—III вв. до н.э.: гибнут городища на окраинах степи, утрачивается «скифская триада», наконец, в нач. III в. до н.э. скифские памятники между Днепром и Доном исчезают. Считается, что к этому времени Скифию опустошили и завоевали сарматы. Однако, никаких следов проникновения сарматов западнее Северского Донца для кон. IV — нач. III вв. до н.э. найти не удаётся, а в III в. до н.э. они уходят ещё дальше на восток — за Волгу. Вместе с тем, именно на рубеже IV—III вв. до н.э. скифские памятники появляются в подозрительной близости от дельты Дона (Новочеркасск, Беглицкая Коса) и даже на донском левобережье (Высочино, Ново-Александровка). На разрушенных в это время лесостепных городищах Скифии частой находкой являются железные втульчатые наконечники стрел, обычные в позднескифских погребениях IV в. до н.э. (Беглицкая Коса, Кульчук, Беляус п. 114). Обычной находкой в пограничье лесостепных скифоидных культур IV в. до н.э. являются типично-скифские акинаки при полном отсутствии прохоровских мечей. Напомню, что эти находки обоснованно считаются результатами пограничных конфликтов древности (Медведев А.П., 1999). Позволительно предположить, что изменения в Скифии в эпоху поздней классики связаны с деятельностью самих скифов, а не с сарматской инвазией.
Синхронно описанным выше процессам в некрополях Синдики и Прикубанья распространяются коллективные погребения в грунтовых катакомбах и индивидуальные — в подбоях, а на Ставрополье — коллективные захоронения в подкурганных каменных склепах с дромосом, у меотов появляется обычай связывать ноги в голенях и помещать одну или обе руки кистями в область таза. Погребённых всё чаще [53] выкладывают головой на В или на З. Распространяется традиция помещения в могилы зеркал, румян с белилами, обшивки погребальных одежд бусами. Всё это можно отметить в синхронных и более ранних погребениях Беглицкой Косы, Акташа, Тавеля, Беляуса и Кульчукского некрополя (Бессонова С.С, Бунятян Е.П., Гаврилюк Н.А, 1988; Дашевская О.Д, 1978; ее же, 1980; ее же, 1991; Прохорова Т.А., 1993; ее же, 1997; ее же, 1998).
Со II в. до н.э. на Кубани (Ладожская, Владимировская, Прочноокопская) и в Кабарде (Нижний Джулат, Чегем) распространяется культура бескурганных могильников с погребениями в катакомбах и, реже, подбоях и ямах. Погребальные сооружения, позы погребённых, характер и размещение в могилах инвентаря совпадают с позднескифскими (Берлизов Н.Е., 1990; его же, 1996). Дальнейшая эволюция этих памятников ведёт к формированию западного и центрального вариантов аланской АК эпохи средневековья.
Возможность перемещения значительной части поздних скифов на восток и в т.ч. на Кавказ как будто подтверждается другими группами источников. Так европейские скифы упоминаются в числе союзников Александра Македонского в его персидском походе (Кв. Курций Руф, IX.2.31 ;Пс. Каллисфен, I.26), скифов на Кавказе знали Страбон (XI.III.4; XII.V.1); Цензорин (35). Иосиф Флавий называл скифами алан (О войне иудейской, VII.7.4). В грунтовых катакомбах Чегема, Нижнего Джулата и Алхасте зафиксирована свойственная для скифов долихокрания (Абрамова М.П., 1993; Дебец Г.Ф., 1948). Типично-скифские протоевропеоидные черепа известны и в каменных гробницах III—I вв. до н.э. в Закаспии (Гинзбург В.В., Трофимова Т.А., 1972).
Возможно, в 330-е гг. до н.э. значительная часть скифов вместе с савроматами и сарматами продвинулась на восток на северные рубежи разваливавшейся империи Ахеменидов, где и задержалась вплоть до новой стабилизации обстановки в кон. II в. до н.э. Активизировать переселение могли упадок греко-скифской хлебной торговли и неблагоприятные экологические условия. При этом часть скифов могла задержаться на Кавказе в качестве подданных Боспора (на Тамани и в Прикубанье) и как самостоятельная сила. Отлив варваров на запад после образования Греко-Бактрии, Парфянской державы и государства Сюнну мог быть причиной роста позднескифского населения как на Кавказе, так и в Крыму. При этом местное кавказское и сарматское влияние привело к трансформации культуры кавказских поздних скифов в средневековую аланскую. [54]
1. Северный Кавказ входит в число особых исторических территорий, именуемых контактными зонами», где на протяжении многих веков и целых тысячелетий происходили соприкосновения и взаимовлияния оседло-земледельческих и пришлых кочевых культур.
Уже с эпохи бронзы здесь проходила граница не только между крупнейшими этническими массивами, но между двумя мирами с различной экономикой, образом жизни, хозяйством, культурными традициями. Скотоводы-кочевники и оседлые земледельцы в своем историческом развитии продвигались различными путями, опираясь на разные формы производящего хозяйства, мировоззрения и культурные ценности, но это — две стороны одной медали, именуемой древней цивилизацией, генезис которой во многом определялся их постоянными контактами и взаимовлияниями.
К числу регионов, где подобные взаимосвязи и взаимовлияния нашли отражение в многочисленных объектах культурно-исторического наследия, относится Центральное Предкавказье. Здесь одним из ярких памятников, где засвидетельствован подобный симбиоз кобанской и пришлой скифской культур, является Татарское городище, входящее в число наиболее крупных и значимых объектов культурного наследия Центрального Предкавказья и всего Северного Кавказа.
2. Городище, общая площадь которого достигает 200 га, расположено в одной из важных исторических зон, отмеченных повышенной активностью контактов и взаимовлияний оседло-земледельческих и кочевых племен, среди которых были и упомянутые скифы, появившиеся на данной территории ещё в VII в. до н. э.
Городище представляет собой сложный многослойный памятник, состоящий из трех автономных, хорошо укрепленных частей, функционирующих на протяжении почти 2 тысячелетий: с IX—VIII вв. до н. э. по X—XI в. н. э. Все составные части городища были объединены хорошо продуманной системой коммуникаций и фортификационных сооружений, включавших мощные земляные валы и каменные стены, усиленные башнями и рвами. Особенно сильно была укреплена северная, наиболее доступная часть городища, слабо защищенная рельефом. Здесь весьма посредственные в военном отношении возможности местности компенсировались мощной системой тройных валов и рвов протяженностью около 500 м. На всех остальных направлениях фортификационные сооружения Татарского городища дополнялись естественными [55] преградами — сильно пересеченным рельефом местности с глубокими оврагами и балками.
Очевидно, благодаря наличию столь мощной оборонительной системы городище просуществовало весьма длительное время и функционировало на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского, хазарского. Скифам принадлежит особая роль в истории всего Предкавказья, в том числе и в формировании одного из наиболее значительных его городов, остатками которого является Татарское городище.
В результате их тесного взаимодействия с местными племенами сформировались новые культурные традиции с уникальным, неизвестным ранее, обрядом захоронения, новым типом погребальных сооружений в виде каменных склепов с большими курганными насыпями, новыми социально-экономическими отношениями.
Археологические исследования, проводимые в последние годы на Татарском городище под руководством автора, позволили выявить здесь уникальный могильник конца V—III вв. до н. э., на котором со всей очевидностью зафиксированы симбиоз местной кобанской и пришлой скифской культур, элементы заимствования и трансформации погребальных обрядов скифов, связанных со сложными процессами оседания кочевников на землю и изменением их культурных традиций под влиянием местной этнической среды.
3. Раскопанные на могильнике захоронения представлены двумя типами погребальных сооружений, первый из которых — это типичные для кобанцев грунтовые ямы с каменными закладами или наброской по верху с индивидуальными захоронениями, второй — неизвестные ранее коллективные каменные склепы длиной 3,2-3,7 м, шириной 2,7-2,9 м, высотой 1,5-1,7 м, расположенные в центре большого каменного кургана (диаметром 25-28 м). Здесь типичное для кочевников погребальное сооружение — курган дополнялся специфичной коллективной усыпальницей — камерой-склепом из крупных плит, находящихся в самом кургане, а не под ним.
Склепы возводились из массивных каменных плит (размером 1,7-2 * 1,3-1,4 м) и являлись коллективными усыпальницами, соединенными с поверхностью каменными коридорами — дромосами, в которых на протяжении довольно длительного периода хоронили от 10 до 60 человек, представителей одного рода или большой семьи.
Конструктивные особенности склепов и внушительные размеры кургана, многочисленные захоронения коней с полным набором узды и ритуально пробитыми конскими украшениями, богатый погребальный инвентарь, включающий оружие, украшения, дорогостоящую чернолаковую греческую посуду (Аттика), разнообразную местную и импортную керамику среди которой отмечены греческие (Родос) и причерноморские (Пантикапей, Колхида) амфоры с клеймами — все это [56] свидетельствует о весьма высоком социальном положении в местном обществе людей, похороненных в этих курганных склепах.
4. Погребальный обряд и инвентарь, выявленные при раскопках склепов, свидетельствуют об этнической принадлежности покойников к кочевым племенам скифского круга, испытавшим сильное влияние местных земледельческих культур. Любопытно отметить, что типичные для кобанцев захоронения в грунтовых могилах группируются вокруг курганов, вдоль кромки насыпей или рядом с ними, как бы подчеркивая господствующее положение последних, что может являться дополнительным свидетельством (наряду с инвентарем и погребальным обрядом) более высокого привилегированного положения в местной этнической среде представителей отдельных групп населения Татарского городища, связанных со скифскими общими культурными традициями.
К середине VI в. до н. э. налаженные связи скифов с Передней Азией и Закавказьем постепенно ослабели, и происходит их переориентация на Северное Причерноморье, где устанавливаются прочные торгово-экономические и политические отношения с греческими городами-колониями.
В этот период основная масса скифов перемещается в причерноморские степи, где на территории Нижнего Поднепровья начал складываться политический и экономический центр Скифии.
Однако, как показали исследования, часть скифских племен осталась кочевать в степях Северного Кавказа и Предкавказья, сохраняя здесь свое господствующее положение, но все больше смешиваясь, в результате длительных контактов, с местным населением и воспринимая от последнего многие культурные традиции и черты оседлого образа жизни. Переход к оседлости способствовал постепенной ассимиляции скифов в местной этнической среде, что привело к значительной трансформации их погребальных обрядов, жилища и других элементов традиционной материальной культуры.
Данная работа посвящена изучению технологии производства керамики найденной во 2 склепе 1 Татарского могильника и опубликованной в статье А.А. Кудрявцева, Ю.А. Прокопенко и P.P. Рудницкого «Склеп № 2 Татарского 1 могильника», Ставрополь, 1999.
В настоящее время наиболее подробной работой характеризующей керамический комплекс городищ скифо-сарматского периода [57] Ставропольской возвышенности является публикация Найденко А.В., Прокопенко Ю.А., Деопика Д.В. «Керамика Грушевского городища» (Найденко А.В., Прокопенко Ю.А., Деопик Д.В., 1998). Также следует отметить публикации о керамике Татарского городища (Малашев В.Ю., 1994; Гутова Л.П., 1999; Кудрявцев А.А., Прокопенко Ю.А., Рудницкий P.P., 1999), однако они касались морфологии, построения типологических рядов и описания найденной керамики. Есть еще одно короткое сообщение (Дубровин Д.В., 1994), непосредственно посвященное изучению технологии изготовления сосудов, однако в нем делается попытка только моделирования в современных условиях изготовления подобной керамики на материалах Татарского городища и в меньшей степени затрагиваются вопросы изготовления конкретной древней керамики.
Для удобства автор использует нумерацию керамики как она дана в опубликованной статье авторов раскопок.
1. Миска (рис. 1,7). Чашевидная, чернолощеная, орнамент проведен поверх лощения. Тесто с примесью песка, органики и ракушки (Кудрявцев А.А.; Прокопенко Ю.А., Рудницкий P.P., 1999). В качестве органической добавки можно предположить навоз, так как после его выгорания в черепке образовались многочисленные пустоты — лакуны. Кроме него в тесте присутствуют растительные частицы (не переваренные останки растений в навозе или просто в качестве связующей добавки). Тесто хорошо отмучено, раковин улиток мало и они сильно измельчены. Поверхность затерта мокрым предметом (вероятно кожей), на дне затирание отсутствует. Среда обжига восстановительная, можно предположить обжиг в печи или яме, температура около 500 гр. Хороший образец столовой посуды.
2. Миска (рис. 2, 1). Чернолощеная миска. Тесто хорошо отмучено, заметны добавки кварца и мелкопросеянного песка, нет характерных толченых раковин улиток, по лакунам в черепке можно судить, что в качестве пластификатора использовалась органическая масса — скорее всего навоз. Тесто слоится на изломе — это можно объяснить недостаточной температурой обжига для спекания и, возможно, усиленным лощением (сильным нажатием на лощило), что приводит к отслаиванию. Среда обжига восстановительная (без доступа кислорода), хорошая водонепроницаемость подразумевает температуру обжига около 700 гр. При обжиге миска стояла дном вверх, что объяснимо сплошным
черным цветом на внутренней стороне сосуда, и неравномерным цветом на внешней. Внешняя сторона затерта, внутренняя залощена. Орнамент нанесен поверх затирания. На миске есть следы наклонной под
ставки для сушки. Данный сосуд можно отнести к парадно-столовой посуде.
3. Миска (рис 6, 3). Цвет неоднородный — черный, серый, светло-коричневый. Тесто слоится, что говорит о плохой вымешанности, очень [58] много добавлено толченой раковины улиток (для крепости сосуда при сушке и обжиге). Много лакун в черепке — пластификатор — навоз, имеется следы растительных отпечатков. Внутренняя сторона затерта, внешняя — нет. Обжиг неравномерный, что предполагает обжиг в костре. Среда восстановительная. Температура обжига приблизительно 300 гр. Сосуд воду не держит. Кухонная лепная керамика.
4. «Курильница» (рис. 5, 4). По своим размерам сосуд вряд ли мог нести утилитарные функции. На имеющемся фрагменте есть отверстие достаточно большое для такого сосуда. Отверстие было выполнено во время сушки. Тесто слабо перемешано, в нем присутствует много толченых улиток, встречаются достаточно крупные фрагменты. Поверхность и внутри и снаружи затерта предположительно мокрой кожей. Сосуд лепной. В качестве пластификатора использовался навоз — по всему черепку встречаются лакуны. Примерная температура обжига — 300-400 гр. Обжиг неравномерный, посему вероятно обжигали в костре. Среда восстановительная. Культовый сосуд.
5. Фрагмент сосуда (рис. 1, 9). Сосуд, вероятно средних размеров, сложной гончарной формы, которая объясняет присутствие в тесте крупных кусков разнородного шамота. В тесте так же присутствует толченая раковина улиток. Тесто плохо перемешано — имеются крупные пустоты (форма пустот не подразумевает выпадения из них кусков шамота). Пластификатор — навоз? Растительных отпечатков не обнаружено. Внешняя сторона затерта и поверх нее продавлен орнамент тупым предметом. Внутренняя сторона небрежно заглажена. Сосуд обжигался дном вверх предположительно в примитивном горне. Двухслойная окраска черепка на изломе говорит, что он обжигался в несколько этапов. Среда окислительная (с доступом кислорода). Внутренняя сторона черная, внешняя — кремово-серая. По качеству изготовления можно утверждать, что сосуд был или кухонным или был специально изготовлен для положения в погребение.
6. Ручка (рис. 2, 2). Из-за добавления значительного количества мелкого песка и кварца в тесто поверхность сосуда была шероховатой и матовой, несмотря на затирание. Тесто хорошо вымешано, органических добавок мало. Хорошее спекание черепка обеспечила довольно высокая температура обжига — 800-900 гр., что подразумевает обжиг в печи. Принадлежит, вероятно, столовой или парадной посуде.
7. Фрагмент ручки (рис. 4, 2). Хорошо отмученная глина с добавлением органического пластификатора. Совсем немного мелко дробленого шамота. Орнамент прочерчен поверх лощения. Залощена только наружная часть сосуда и ручка. Внутренняя стенка сосуда затерта не ровным орудием (мокрая грубая кожа?) — что подтверждают характерные полосы. Обжиг равномерный, среда восстановительная. Судя
по спеканию глины, температуру можно назвать около 700-800 гр. Фрагмент принадлежит к столовой или (и) парадной посуде. [59]
8. «Учебный» сосуд (рис. 5, 5). Сосуд (фрагмент) представляет собой кусок глины с кулак величиной, в центре которого сделано углубление. Стенки толстые, тесто плохо вымучено, слоится. Примеси — пластификатор, крупно дробленый камень, улитки. Большое количество крупного шамота предполагает, что сосуд делали наскоро, — недолго сушили и быстро обожгли при наборе небольшой температуры, иначе бы его разорвало. На внешней стороне отчетливые следы пальцев при формовке. Сосуд обжигался в костре, вверх дном (внутри среда восстановительная). Температура обжига не превышала 200-300 гр.
9. Фрагмент крупного чернолощеного сосуда.1) Хорошо отмученное тесто, присадки — мелко дробленый кварц (в пыль) и крупный шамот (немного) для придания крепости сосуду при усадке глины (Чухаркин А.Л., 2000). Пластификатор — навоз (?), есть растительные отпечатки. Данный сосуд замечателен техникой производства — ленточно-жгутовой. Формовочные полосы толщиной 0,7 см и шириной 1-1,5 см (уже к венчику) укладывались одна на другую и прижимались пальцами и заглаживались. Позже сосуд был и внутри и снаружи обмазан более жидкой глиной толщиной 1-2 мм (отдельные фрагменты внутренней поверхности осыпались). Внешняя сторона залощена некрупным орудием (костью — ?) — имеются неровные полосы. Внутренняя поверхность затерта шероховатым орудием — характерные шершавые полосы. В одном месте внутри имеется приклеившийся кусочек обмазки (видно упал при работе). Есть обширные лакуны в местах соединения лент, характерно, что сосуд разбился именно поленточно. Среда обжига восстановительная, температура за 700 гр. Держит жидкость. Обжиг производился в специализированной печи. Сосуд можно отнести к столовой посуде.
10. Большое блюдо. Тесто хорошо отмучено, присутствует много органики, если судить по пустотам. Примеси — мелко дробленый камень (совсем немного) и крупные куски (до 3-5 мм) красной охры (?) (не размешанные). Черепок на изломе имеет два цветовых слоя — внешний темно серый и внутренний — светло серый. Блюдо изготовлено на поворотной платформе. Внутренняя и внешняя стороны залощены, позже проведен орнамент по сырому тесту. На внешней стороне есть следы пальцев по лощению. Среда обжига окислительная, температура — 800-900 гр., держит воду. Посуда, судя по всему парадная или столовая (можно предположить, что использовалась для мытья рук или мяса).
Подведем итог. Вышеперечисленные единицы керамики, за исключением 2, 2 и 5, 1, принадлежат к местному производству (Кудрявцев А.А., Прокопенко Ю.А., Рудницкий P.P., 1999) и хотя и подразделяются нами на кухонную, парадную и др., по месту своей находки вся [60] является культовой. Хотя данная выборка не может считаться репрезентативной, однако выводы в основном подтверждаются подъемным материалом. При анализе технологии изготовления теста вырисовывается картина, когда для изготовления более качественной керамики раковины улиток не используются, для нее характернее использование в примеси дробленого кварца. Отличительной чертой менее качественной керамики (кухонной, тарной) является именно использования толченых улиток (скорее всего живых для повышения пластичности теста). Это можно объяснить тем, что столовая и парадная посуда (часто одно и тоже) делались чаще всего на кругу или поворотной платформе, а как ранее уже было замечено (Дубровин Д.В., 1994) тесто с раковинами улиток имеет высокие абразивные качества и обычно посуда из него лепная, а это уже другой уровень производства. Растительные отпечатки на черепках следует, наверно, отнести к навозу или прилипшей случайно при сушке траве, массовых находок отпечатков, характерных для технологического использования растительного материала, не наблюдается.
В 90-х гг. в южных районах Ростовской области — Песчанокопском (могильники Новопалестинские I и II) и Азовском (могильники Степнянский II и Спичаковка) был открыт целый ряд раннесарматских комплексов II—I вв. до н.э. совершенно непрохоровского облика (В.П. Глебов, 2000). Все погребения впущены в курганы эпохи бронзы, погребальные конструкции: катакомба II типа по К.Ф. Смирнову, подбои, узкие прямоугольные ямы, ориентация погребенных неустойчива, преобладает западная и южная. Инвентарь: серолощеные и красноглиняные кувшины и миски, наконечники копий, наконечник дротика, однолезвийный меч, железные втульчатые трехлопастные наконечники стрел, колчаны, украшенные бронзовыми бляшками, бронзовое зеркало с отверстиями для крепления ручки, разломленное на две части, фрагментированная фибула среднелатенской схемы, бронзовый браслет, подвески, бусы и др. В двух погребениях зафиксированы остатки гробов. Захоронения сопровождались напутственной пищей — передняя нога барана с лопаткой или бок барана, почти во всехслучаях с ножом.
Исследованные комплексы принадлежат к кругу сарматских памятников степного Предкавказья и дают возможность уточнить границу [61] между двумя массивами раннесарматских памятников — доно-волжским и предкавказским, сопоставимых с аорсами и сираками Страбона. Юг Ростовской области (Песчанокопский район), судя по отсутствию там погребений раннесарматской культуры доно-волжского варианта, входил в зону безраздельного господства сираков, севернее (Азовский район) встречены захоронения обоих вариантов.
Вновь открытые погребения служат ключом к проблеме определения культурно-хронологической принадлежности некоторых нижнедонских комплексов — в первую очередь, известного погребения 20 из кургана Крестовый могильника Алитуб и ряда погребений из могильника Койсуг. Койсугские комплексы (курган 5, погр. 12; курган 7, погр. 31 и др.) считались савроматскими и были датированы IV—III вв. до н.э. на основании втульчатых наконечников стрел и западной ориентировки, захоронение из Крестового было отнесено к наиболее ранним прохоровским и датировано II в. до н.э. в результате занижения даты сковороды Айлесфорд (В.Е. Максименко, 1983). Близкое сходство этих комплексов с сарматскими памятниками Предкавказья и открытие в непосредственной близости на юге Ростовской области аналогичных по обряду и инвентарю погребений, служащих как бы связующим звеном между ними, позволяют датировать Крестовый I в. до н.э., койсугские захоронения II—I вв. до н.э. и интерпретировать эти и ряд других комплексов как результат проникновения сиракских этнических групп в среду сарматов Нижнего Подонья (А.В. Захаров, в печати).
Показательно, что во всех случаях погребения кубано-ставропольского облика находятся в окружении прохоровских захоронений, часто впущенных в тот же курган или в соседние насыпи. Факт проживания небольших групп сираков в самой гуще нижнедонских аорсов указывает на вероятное этническое родство тех и других. Это предположение нуждается в детальной разработке, так как значительное своеобразие сарматских памятников степного Предкавказья по сравнению с классической прохоровской культурой и противостояние аорсов и сираков в войне 49 г. н.э. породили мнение об их разноэтничности и исконной враждебности (К.Ф. Смирнов, 1964; В.Б. Виноградов, 1964).
Известно, что кочевой мир отличается пестротой и подвижностью. При этом, во всех случаях, когда военно-политические события или неблагоприятные изменения природно-климатических условий приводили к миграциям больших масс кочевников, какая-то часть этноса всегда оставалась на родине (примеры: юэчжи, хунну, кипчаки, калмыки и др.). Таким образом, подразделения одного родо-племенного коллектива могли оказываться в различных регионах степного пояса (этим, возможно, объясняются случаи одновременного упоминания одних и тех же этнонимов в самом различном географическом контексте), входить в разные этно-политические образования, причем в одних случаях в качестве гегемонов, в других — на положении вассалов. Такая [62] «рассеянность» отнюдь не означала прекращения отношений родства и сообщения друг с другом — см. упоминание Диона Кассия о сношениях языгов и роксолан через территорию римской Дакии (LXXI.19.2). Оговоримся, что такие родственные коллективы совсем не обязательно должны были иметь идентичный погребальный обряд, не говоря уж о материальной культуре. Погребальный обряд консервативен лишь в стабильном обществе, любые экстраординарные события (военные поражения, миграции, резкое социально-имущественное расслоение, изменение хозяйственного уклада и др.) неминуемо вызывают дестабилизацию и духовной сферы общества, что ведет к ослаблению канонов обрядности, в том числе и погребальной. Изменения погребального обряда особенно динамичны в условиях миграций, расселения на новых территориях, интенсификации контактов с другими этносами.
Исходя из этих теоретических посылок, раннесарматскую культурно-историческую общность II—I вв. до н.э. можно охарактеризовать как ряд этнополитических объединений (племенных союзов), состоявших из близкородственных этнических групп, зачастую одних и тех же, но возглавляемых различными племенами-гегемонами. Поэтому нет смысла искать за конкретным этнонимом античных авторов (сираками, аорсами, роксоланами, языгами) чистый этнос и пытаться соотнести его с каким-либо одним типом погребальных памятников. Этноним обозначает лишь племя-лидер, объединившее на какое-то время другие родоплеменные единицы, хотя, конечно, в рамках таких объединений может происходить некоторая унификация погребального обряда и комплекса материальной культуры (см., например, более поздние сведения Аммиана Марцеллина об аланах — XXXI.2, 13, 17). Более перспективным путем представляются поиски соответствия между этнонимами и различными вариантами раннесарматской культуры — группами памятников на определенных территориях во всем их разнообразии, объединяемых в археологическую общность только на региональном уровне.
Действительно, раннесарматские памятники Приуралья, Поволжья, Нижнего Подонья, Северного Причерноморья, несмотря на локальное своеобразие, очень близки друг другу. Сарматы Предкавказья — гораздо более сложное явление. Существенные отличия от классической раннесарматской культуры в области погребального обряда и материальной культуры, видимо, объясняются сложностью этногенеза сираков — участием в нем савроматов, меотов. Тем не менее, весомый вклад прохоровцев в формирование культуры степного Предкавказья раннесарматского времени не подлежит сомнению (катакомбы, значительный процент южной ориентировки, широкое распространение прохоровских вещей).
Таким образом, мы вправе предполагать достаточно высокую степень этнического родства предкавказских сарматов с остальным [63] раннесарматским миром, в том числе и с донскими аорсами. Враждебные отношения между сираками и аорсами носили, скорее всего, лишь эпизодический характер.
Светлой памяти друга моего археолога Евгения Беспалого
В 1882 году В.Ф. Миллером была опубликована запись осетинского обряда получившего в этнографической литературе название «посвящение коня покойнику». Цель обряда состояла в том, чтобы обеспечить умершего человека конем, который должен довести покойного до места ему предназначенного. Положив покойника в могилу, к могиле приводили коня, приносили шкуру зарезанного в день погребения барана и ушат браги. Коня нагружали дарами. Пока покойника зарывали конь стоял в стороне. Затем его подводили к изголовью погребенного. Народ, присутствующий на похоронах, становился в кружок. Один человек в центре этого круга перед конем произносил речь. Произносимая речь в значительной степени перекликалась с осетинскими эпическими сказаниями группы «Сослан в стране мертвых». По окончании речи коня трижды обводили вокруг могилы, давали выпить браги, кормили просом и отрезали ему кончик уха (Миллер, 1882, с. 132-133).
Обряд «посвящение коня покойнику» в некоторых важных деталях сопоставим с описанием жертвоприношения скакового коня, которому в Ригведе посвящается 162 гимн мандалы I. Коня сопровождает предварительная жертва — многоцветный козел. В осетинском обряде такой предварительной жертвой являлся баран. Коня к месту жертвоприношения ведут в праздничном убранстве, нагруженного добром. Затем его трижды обводят вокруг жертвенного столба. В осетинском обряде коня, нагруженного дарами, трижды обводили вокруг могилы. В Ригведе описывается как тушу заколотого коня разделывают по правилам: расчленяют сустав за суставом, называя один за другим, не повреждая при этом отдельных частей тела. Считалось, что конь не умирает, не терпит ущерба, а идет к богам легкими путями в сопровождении коней Индры и Морутов*) и осла Ашвинов. В осетинском обряде умерщвление коня заменено тем, что у него отрезается ухо или хотя бы делается надрез.
Не менее важен и интересен тот факт, что описание обряда жертвоприношения коня, анализируемого гимна Ригведы имеет соответствия в археологическом материале. [64]
В 1986 году в кургане № 1 могильника «Дачи» на окраине города Азова Беспалым Е.И. было исследовано разграбленное сарматское погребение второй половины I в. н.э. Под насыпью кургана на уровне погребенной почвы был зафиксирован комплекс, который исследователь определил как тайник. Этот, так называемый тайник, был устроен на глинистом выкиде до совершения захоронения. На дно тайника, по мнению автора, были положены сложенная в несколько раз накидка на лошадь (?) и, возможно, два стяга, расшитых штампованными золотыми бляшками. Поверх накидки был уложен парадный уздечный набор, парадный кинжал в богато украшенных ножнах и браслет. В насыпи кургана были найдены угли от костра, кости быка, зуб коня. В заполнении ограбленного погребения обнаружены кости барана (Беспалый, 1992, с. 175-183).
В древнеиндийском описании заклания коня с заколотого скакуна снимают принадлежащие ему — узду, сбрую, ножные путы и кладут на верхнее покрывало. Туда же кладут предназначенные для него золотые вещи (РВ, I, 162, 16). Таким образом, представляется, что в кургане № 1 могильника «Дачи» обнаружено такое верхнее покрывало принесенного в жертву скакуна с принадлежащей ему уздой и предназначенными для него или погребенного под курганом царя золотыми вещами — кинжалом и браслетом. Роль предварительной жертвы в ритуале играл баран, кости которого зафиксированы в заполнении погребения. Жертвенный конь мог быть сожжен на костре. В насыпь кургана попали лишь холодные угли и зуб коня.
Выявленные соответствия в ведической, сарматской и осетинской обрядности восходят к общему первоисточнику периода индо-иранского этнического единства.
Детальное изучение вооружения позволило автору выделить в позднемеотском периоде три этапа развития военного дела оседлых племен.
1 ЭТАП. 50 г. до н.э. — 50 г. н.э. Основным оружием является копье с листовидной, лавровидной или ромбовидной формой пера с выступающими боковыми углами. Клинковое оружие представлено мечами и кинжалами с кольцевым навершием и прямым перекрестием или без него, Длиной 40-60 см., реже до 90 см. Клинок меча прямой по всей длине лишь на конце сужается к острию. Они найдены в Усть-Лабинском, [65] Елизаветинском, Габукайском, Цемдолинском и др. могильниках, а так же при случайных находках под Сочи. Дротики довольно редки в погребениях. В Елизаветинском могильнике найден дротик с наконечником в виде ласточкиного хвоста с опущенными концами. Такие дротики были распространены в среднемеотский период и попали на Кубань скорее всего от крымских скифов. Находки стрел в погребениях так же немногочисленны. Втульчатые наконечники сменяются черешковыми трехлопастными. Появляется так же сложносоставной лук гуннского типа высотой более полуметра (1,6 м.),+) сменивший ставший уже традиционным, скифский лук. Стрелы характерны в основном для приграничной зоны оседлого и кочевого мира (Усть-Лабинский, Старокорсунский и др. мог.). В это же время появляется новый вид оружия — боевой крюк, служивший для стаскивания с седла воинов противника — главным образом катафрактариев. Защитное вооружение встречается довольно редко (Цемдолина п. 9, Габукай п. 6). Оно представлено кольчугами, форма которых трудно восстановима из-за плохой сохранности и редкости находок. Скорее всего это были короткие кольчужные рубашки длиной до бедер. Возможно использовалась дополнительная пластинчатая броня. Остатки щитов, шлемов и другого защитного вооружения мне не известны. В это время войско делится на конницу и пехоту. Кавалерия в свою очередь подразделяется на тяжелую и легкую. Основное отличие первой от последней является наличие панциря. Набор оружия стандартен и одинаков. Пехота состоит из копьеносцев, меченосцев и лучников. Полный набор вооружения мной не зафиксирован. Иногда встречаются по два вида оружия в различном сочетании, в т.ч. и с боевым крюком. Войско возглавляет вождь со своей дружиной. В случае большой войны, созывалось ополчение.
2 ЭТАП. Около 50 — 130 гг. н.э. Набор вооружения в это время претерпевает определенные изменения. Сравнительно короткие мечи с кольцевым навершием сменяются длинными кавалерийскими мечами боспорского типа с напускным каменным навершием и без перекрестия. Мечи имеют короткий черенок и длинное узкое лезвие подреугольной формы, постепенно сужающееся к острию, приспособленного для пробивания кольчуги. Они носились в деревянных ножнах, обтянутых кожей, нередко с металлической скобой, с помощью которой меч цеплялся к поясу воина в свободном состоянии на левом боку. Кинжалы довольно редки и в целом относятся к тому же типу, что и вышеописанные мечи, только меньших размеров (длина 25 см.). Копья имеют небольшой наконечник листовидной формы с ребром жесткости, переходящим в нижней части во втулку. Боевые крюки употребляет в основном кавалерия. Стрелы встречаются еще реже чем раньше. Один раз они встречены в погребении катафрактария (п. 6 х. Городского), для которых они вообще не характерны. Дротики достоверно не известны. Защитное вооружение представлено шлемом конусовидной формы, склепанного из [66] железных полос, кольчугой и дополнительной пластинчатой броней, которая могла прикрывать не только корпус тела, но и конечности ног. Такая пластинчатая броня воина в виде «юбки» изображена на стеле Афения. Возможно, в это время уже используются кольчужные штанины, известные позднее. Так же можно пока только предполагать о применении конской катафракты. Перечисленный набор вооружения полностью встречен в п. 6 х. Городского. Войско состоит из пехоты и конницы. Пехота вооружена длинными мечами боспорского типа, реже копьями. Боевые крюки и стрелы для пехоты этого времени не характерны. Конница делится на тяжелую и легкую в соотношении примерно 1:1. Основное их отличие заключается в использовании металлического защитного вооружения в тяжелой кавалерии. Наличие, как основного оружия ближнего боя, длинных мечей в пехоте и легкой кавалерии предполагает использование кожаных доспехов или по крайней мере деревянных и плетневых щитов, которые упоминает Страбон при описании вооружения языгов.
3 ЭТАП. Около 130—210 гг. н.э. Основным оружием остается длинный боспорский меч. Он модернизируется. Увеличивается длина меча и длина его черенка. Меч более приспособлен для пробивания именно кольчуги. Исчезает пластинчатая скоба на деревянных ножнах. Как и в раннее время мечи носятся слева на поясе в свободном состоянии. Наконечники копий стандартны, листовидной формы чаще без ребра жесткости. Исчезают боевые крюки и стрелы, зато снова появляются дротики, причем только в части погребений катафрактариев. Их наконечники либо повторяют форму пера наконечника копья только меньших размеров, либо имеют треугольное перо, чем-то напоминая дротики среднемеотского периода с опущенными концами. Защитное вооружение представлено находками кольчуг и шлемов. Шлемы ажурные, склепаны из внахлест из железных пластин образуя конусовидную форму. По бокам шлемов имеются скобы для крепления, скорее всего, кожаных нащечников, как это видно на языгских катафрактариях с колонны Трояна. Кольчуги имеют штанина обертывавшиеся вокруг ног. Длина рукавов из-за сохранности самих кольчуг не совсем ясна. На стеле Афения — рукава кольчуги до локтей, на колоне Трояна и фресках Дура Эвропос доспех прикрывает руки до запястья. Сазонов считает что она была до локтей. Войско состоит из тяжелой и легкой кавалерии, в меньшей степени, по-видимому, из пехоты. Тяжелая кавалерия представлена катафрактариями закованных с ног до головы в кольчужный доспех, иногда вместе со своим конем. Ее состав ограничивался дороговизной доспеха. Такие воины составляли хорошо вооруженную дружину вождя, который являлся первым среди равных, отличаясь от остальных наличием гривны и дорогой импортной посуды с царскими знаками. Вся легкая кавалерия была вооружена длинными мечами, реже и копьями. Таким образом, первый этап позднемеотского периода является [67] естественным продолжением предшествующего среднемеотского периода, но уже существенно отличаясь от него. Сами отличия были связанны с изменением внешнеполитической обстановкой в регионе. Второй этап периода существенно отличается от первого. В сер. I в. н.э. гибнет большая часть городищ на правобережье Кубани и в Восточном Приазовье, что , возможно было связанно с сирако-аорской войной 49 г., в которой принимали участие и меотские племена. В то же время городища появляются в Закубанье (Тахтамукаевское, Гатлукаевское и др.), но они уже не имеют столь мощных укреплений в отличие от более ранних. В то же время увеличивается роль коневодства, что говорит об изменении образа жизни оседлых племен. Эти данные говорят, что оседлое население становится полуоседлым. Увеличивается процент погребений с оружием. Появляются дружинные кладбища типа х. Городского. Параллельно им функционируют чисто «мирные» могильники (напр., Тахтамукаевский), что говорит о разделении общества на воинов-профессионалов и мирных жителей. Статус воина подчеркивает свободного члена общества. Во главе войска стоят катафрактарии, которые выдвигали из своей среды своих вождей. Катафрактарии полностью заковываются в броню, что позволило не использовать щитов. В отличие от соседних сарматских и особенно парфянских катафрактариев, меотские воины имели несколько облегченный вид доспеха, особенно на 3 этапе, но целиком облегающим все тело. Реже используется конская броня. Использование кольчужной или пластинчатой бармицы опровергается тремя фактами. Во-первых, ни на одном изображении этого времени ее нет. Во-вторых, отсутствуют ее находки в самих погребениях, наконец, в-третьих, на самих шлемах нет отверстий, за которые бы она крепилась. Поэтому если она и была, то к чему крепилась? Интересна также закономерность, встречаемая в погребениях воинов с двумя конями. Они, в отличие от погребений с одним конем, всегда сопровождаются серпом. Как мы, знаем, два коня были удобны при дальних походах, когда на ходу можно было менять лошадей. Возможно, серпами скашивали сено, для фуража, т.к. не всегда в походе можно было найти траву для коня (тем более для двух коней), особенно зимой. Наличие двух коней не зависит от статуса воина. Они встречаются как в погребениях вождей, так и в погребениях простых катафрактариев и легковооруженных воинов. Изображаются два-три коня вместе с всадниками и на боспорских надгробных стелах. Эти данные говорят о большой мобильности меотского войска, особенно на 2-м и 3-м этапах. Широкое развитие коневодства и полуоседлый образ жизни создал предпосылки передвижению большей части населения на другие территории. Толчком же к этому движению могла послужить победа боспорского царя Савромата II в 193 г. н.э. над скифами, сираками и пиратами. Сходство материальной культуры и образа жизни сарматов и меотов, особенно во II в. н.э., свидетельствует о том, что под [68] сирками могло подразумеваться и автохтонное население Кубани. В кон. II — нач. III вв. н.э. основная часть местных и кочевых племен уходит на запад, осев на территории современной Украины среди готов, а также, возможно, алан-танаитов на Дону, потеряв свой оригинальный облик, но при этом сохранив свои некоторые древние традиции.
Как известно, этноним алан фиксируется впервые в I в. н. э. Наиболее ранними сообщениями об аланах являются соответствующие упоминания Сенеки, Лукана, Валерия Флакка, Плиния Секунда и Иосифа Флавия. Д.А.Мачинский, обратившийся к источниковедческому и сравнительному анализу письменных известий, пришел к заключению, что аланы в степях Восточной Европы появляются между 50 и 65 гг. и являются этническим массивом, имеющим восточное, массагетское происхождение (Мачинский, 1974). Восточное происхождение алан подтверждается и присутствием в их материальной культуре многочисленных центральноазиатских элементов, о чем в последние годы все чаще пишут археологи.
Если появление алан в Европе в сер. I в. н. э. действительно связано с их миграцией из Азии, было бы весьма интересным рассмотреть политические события и этнические процессы, происходившие в Центральной Азии во вт. четв. I в. н. э. с тем, чтобы попытаться найти причины названной миграции.
Обозначенный период был довольно бурным, насыщенным военно-политическими событиями и миграциями. В 22 г. н. э. в Восточном Туркестане разразилась катастрофическая засуха, заставившая мигрировать хунну на запад. В Ханьской империи резко обостряются внутренние противоречия. Политическая неразбериха и массовые крестьянские восстания отвлекли Китай от Западного края. Владения, ранее признававшие вассальную зависимость от Китая, вышли из под его контроля. В 25 г. Лю Сю объявил о реставрации династии Хань, но ему понадобилось более десяти лет, чтобы преодолеть сопротивление других претендентов на власть. Слабость Китая позволила хунну серьезно усилить свои позиции в Западном крае. В 30-е г. они одержали ряд крупных военных побед и предложили императору Гуан У-ди (Лю Сю) признать Хунну империей, равной Китаю. Территория хуннских кочевий значительно расширяется, набегам стали подвергаться даже внутренние районы Китая.
Пока хунну успешно воевали с Ханьской империей, в Западном [69] крае усиливается княжество Согюй (Соцзюй). Это владение, располагавшееся юго-восточнее Давани (Фергана), настолько быстро возвышается и становится серьезной военной силой, что даже попытка выяснения причин этого явления ставит нас в тупик. Обратимся к источникам. Еще в 65 г. до н. э. по сведениям «Цянь Хань шу» население Согюя составляло 16 373 чел., а войско — 3 049 чел. (Бичурин, 1950, с. 189), а в 29 г. н. э. согюйскому владетелю Кану подчинились все 55 государств Западного края, как сообщает об этом «Хоу Хань шу» (Бичурин, 1950, с. 230). В 30-е годы Согюй продолжает успешные военные действия, покоряя одно за другим окружающие владения. К концу 40-х годов этой печальной участи не избежала и Давань, пытавшаяся было уменьшить дань, выплачивавшуюся Согюю (Бичурин, 1950, с. 232). В то же время Кангюй несколько раз нападает на Давань, своего традиционного союзника. В начале 50-х годов правитель Согюя Сянь совершает поход на «князя сырдарьинских саков» и смещает его, а затем возводит своих ставленников на престол в Давани и даже в Кангюе, одном из наиболее мощных в этот момент государств, имевшем 120000 войско (Бичурин, 1950, с. 186; Кюнер, 1961, с. 175). Мы не располагаем более подробной информацией о данных событиях, но можно предположить, что старая кангюйская знать была вынуждена спасаться бегством на запад.
Говоря о Кангюе, необходимо отметить, что в интересующий нас хронологический отрезок (до момента подчинения Согюю) он сам проводит довольно активную внешнюю политику. Наиболее интересным ее фактом является подчинение приаральского владения Яньцай. Нам представляется перспективным предположение о том, «исполнителями» акции были кангюйские аланы. В таком случае становится понятным и второй факт, сообщаемый «Хоу Хань шу» — переименование Яньцай в Аланьна.
После подчинения Согюем, чья этническая принадлежность остается загадкой, определенная часть кангюйского населения (возможно, аланская) мигрирует на запад. Предполагаемое передвижение алан, отразившееся как в европейских письменных источниках, так и в археологических материалах Юго-Восточной Европы, таким образом, могло быть в какой-то степени вызвано экспансионистской политикой усилившегося Согюя.
Если первое упоминание алан в западных источниках действительно отражает политические и этномиграционные процессы, корни которых уводят нас в Центральную Азию, то временем появления алан в Европе нужно считать вторую половину — конец 50-х годов I в. н. э. Здесь мы имеем в виду крупную, значительную миграцию, что не противоречит проникновению отдельных аланских групп на запад и в более раннее время. Вполне вероятно, что какая-то часть алан уже в 35 г. была в Предкавказье и приняла активное участие в иберо-[70]парфянском конфликте (Гаглойти, 1995, с. 47-50). Б.А. Раевым и С.А. Яценко высказано предположение, что аланы были в Предкавказье уже в середине I в. до н. э. Орда аланского вождя Анавсия принимала участие в закавказской войне с Помпеем в 65 г. до н. э. (Раев, Яценко, 1993, с. 117-118). Мы не исключаем вероятности раннего, до 50-х гг. н. э., проникновения алан в Предкавказье, но такое развитие событий требует серьезного подтверждения археологическими, письменными и другими источниками, которых пока явно недостаточно.
Наиболее лингвистически и исторически обоснованным считается решение о возведении этнонима «алан» к Arya (allan < *al(y)ana < *aryana < *arya) (Абаев В.И., 1949, с. 247; Gershevich, 1955, р. 486; Zgusta L., 1955, s. 264; Ахвледиани Г., 1960, с. 217; Гагкаев К.Е., 1967, с. 199; Гамкрелидзе Т.В., 1984, с. 755; Оранский И.М., 1988, с. 72; Кузнецов В.А., 1992, с. 6; Яйленко В.П., 1995, с. 66 и др.). У иранских народов термина arya в его социальном значении продолжал традицию, унаследованную от общеиндоевропейского корня, прилагаясь в целом к вооруженным свободным общинникам, а в более узком значении — к воинской элите, кормившейся грабежом. Он был более значим не для внешней, а для внутриполитической ориентации. Его квазиэтническое значение усиливалось на перифериях индоевропейского мира в условиях контактов и противостояния, включая идеологическое, с иноэтничным населением (Лелеков П.А., 1982, с.148-161). Наблюдения за появлением этнонима «алан» у ираноязычных кочевников Евразии позволяет связать его с юэчжийско-тохарской элитой, объединявшей в своем лице военные и сакральные функции. Собственное название «тохар» звучит в названии осетин-дигоров digor.
В то же время самоназвание другой части осетинского народа iron большинство исследователей возводят непосредственно к arya (Gershevich, 1955, р. 486; Zgusta L., 1955, s. 232; Ахвледиани Г, 1960, с. 218; Гагкаев К.Е., 1967, с. 199; Миллер В.Ф., 1992, с. 239; Гуриев Т.А., 1962, с. 122-125; Harmatta J., 1950, р. 23; Harmatta J., 1970, р. 80-81; Турчанинов Г.Ф., 1990, с. 24-28 и др.). Элемент ir отмечается в варварских именах кон. II — нач. III вв. н.э. Хракас, Ирамбустос, Ирауадис, Ирбис, Ирганос, Фореранос (Абаев В.И., 1949, с. 158; Zgusta L., 1955, s. 232, № 438; Harmatta J., 1970, р. 80-81; Турчанинов Г.Ф., 1990, с. 24-28; Миллер В.Ф., 1992, с. 14). Хотя В.И. Абаев (1949, с. 245) присоединяется в интерпретации имени главы аланских переводчиков HrakaV через airyaka, но в целом не допускает соответствующего развития ir. Автор отмечает, [71] что в противном случае пришлось бы допустить, что осетины-дигоры забыли свое собственное самоназвание «арии» и впоследствии заимствовали ir у иронов. Однако самоназвание «арии» никогда не существовало у предков дигоров, которые сохранили самоназвание своих предков тохаров.
Все исследователи считают, что ir является относительно более поздним образованием по сравнению с allan. Фиксация древними источниками названий «ареаты», «арии», «алы», «аланы», «олонды», «Алонта» относится к периоду распространения в Восточной Европе среднесарматской культуры, в которой представлены яркие центральноазиатские инновации. Известные факты по истории центральноазиатского региона подтверждают данное наблюдение. К ним следует отнести и наблюдения за частью лексики осетинского языка (Миллер В.Ф., 1992, с. 598; Harmatta J., 1970; Harmatta J., 1952; Bailey H.W., 1977). В среднеазиатский регион ведут фольклорные связи осетинского эпоса и алано-асская топонимика (Толстов С.П., 1948, с. 493; Снесарев Г.П., 1975, с. 76, 85, 93; Дзиццойты Ю.А., 1992, с. 181-182; Толстова Л.С., 1984, с. 187; Цуциев А.А., 1999, с. 132). Последующая выработка ir оказывается связана с позднесарматской средой, вероятно, воспринявшей существующую традицию «ариев», но уже развившую ее в качестве этникона.
Известная по дагестанским хроникам страна Ирхан/Ихран с одноименной столицей (область Иркувун персидских источников, Иритав турецкого путешественника Э. Челеби) соотносится с восточной частью Алании (Гадло А.В., 1984, с. 121), которую прежде всего связывают именно с историей осетин-иронов. В то же время на одной из итальянских карт XIV в.н.э. на Кубани располагается Иркания, название которой носят и два города на самой Кубани и на Дону. В Иркании видят отголосок сведений древности и раннего средневековья (Нарожный Е.И., 1995, с. 10-11). Видимо, итальянские карты фиксируют появление «иров», носителей позднесарматской культуры. Последующее появление иров в Центральном Предкавказье может быть связано с миграцией примеотийского аланского населения после готского нашествия, что прослеживается археологически.
Но не исключено, что iron связано со сред, авест. vir — «муж» (Bielmeier R., 1988, s. 99-106). В сравнении с термином «алан-арий» он должен был обозначать иную социальную группу общества. Вероятно, он изначально прилагался к рядовым общинникам, составлявшим вооруженное ополчение в отличие от «алан», профессиональных знатных воинов, обладавших и сакральной властью. В позднесарматской культуре, в отличие от предшествующих, практически исчезает сложный погребальный обряд и золотой антураж, имевшие глубоко осмысленные сакральные образы, предполагающие зрителей и многоступенчатые церемонии. В целом исчезает очевидная социальная и этнографическая [72] обособленность элиты общества. В позднесарматской культуре выделяется «всадническая» группа, которая меньше заботилась о священных костюмах и атрибутах власти, и более — об оружии и конском уборе. Высокая степень унификации воинской экипировки, отражение в погребальной практике социальной специфики группы предполагает развитую форму военной иерархии, видимо, по дружинному принципу (Безуглов С.И., 1997, с. 137-138). Возможно, мы имеем дело с приходом к власти у носителей позднесарматской культуры новой дружинной аристократии (под руководством «второго царя»?), осуществленным силами дружинников vir-ов (такая организация могла быть у ревксиналов — «белые мужи», входивших в состав роксолан — «белые аланы»). В результате, новый социальный термин впоследствии благодаря более широкой социальной базе его носителей становится самоназванием части ираноязычных номадов. Для окружающего мира они остаются «аланами» в силу этнокультурной близости с прежним ираноязычным населением Восточной Европы. Возможно, именно об этих аланах писал Аммиан Марцеллин (XXXI.2.25), что у них все благородного происхождения, а в судьи выбирают тех, кто отличился военными подвигами.
Сама постановка вопроса покажется кавказоведам странной: всем известно, что никаких шаманов у осетин не документировано. Однако, (если обратиться не к общепринятому мнению, а к фактам) в осетинском материале по служителям культа нетрудно обнаружить прямые параллели с шаманством как ирано-язычных (таджики), индоиранских (кафиры) и индоарийских (дарды) народов, так и тюркоязычных народов Средней Азии и Кавказа в этногенезе которых общепризнан аланский компонент (туркмены, карачаевцы и балкарцы), а также с шаманством народов Южной Сибири, в сложении которых предполагается иранский (сакский) пласт (Саяно-Алтайское нагорье).
Наше внимание привлекает, прежде всего, группа служителей культа, именовавшихся осетинами dæsny («знаток», «искусный»), а русскоязычными учеными и путешественниками — «знахарь», «колдун» (курыс — мэ — цок и др.). О работе «знахарей» подробнее всего писал один из первых осетинских ученых Б. Гатиев, ещё заставший последнего влиятельного мужчину этой группы Мисирби (ССКГ, вып. IX, 1876, с. 66-71). Весьма ценная информация есть в статьях И. Тхостова (1866), Д. Шанаева (1870), В.Ф. Миллера (1881) и монографиях В.Ф. Миллера (1882, ч. 2), А.Х. Магомедова (1974), Л.А. Чибирова (1984), И. Бламберга (1992). «Знахари» (женщины и мужчины) занимались в основном [73] лечением, реже — предсказаниями и указанием воров, а также участвовали в особых общественных обрядах, гарантировавших плодородие.
Сеанс (проводимый Мисирби днем) сводился к следующему. 1) Для него стелилась шкура. 2) Он вводил себя в транс, на губах выступала пена. 3). При этом он совершал особый танец, аккомпанируя себе колокольчиками. 4). Он собирал «войско» духов — покровителей (для борьбы с враждебными силами), называя их по очереди. 5). Во время сеанса он вступал в незримую борьбу с враждебными духами и «знахарями». (Можно предполагать, что раньше «оружием» служила войлочная плеть, что отразилось не только в нартском эпосе, но и в этнографии балкарцев и карачаевцев). 6). С помощью духов — покровителей (которые представлялись в антропоморфном облике) Мисирби в конце концов находил в доме «заколдованный» предмет, с помощью которого и была наслана болезнь. 7). После окончания сеанса он указывал на необходимость принесения жертв конкретным божествам. Другие авторы указывали, что «знахарка» «сажала» духов на специальный большой прямоугольный кусок белой ткани (Миллер, 1881), что для гадания использовали сосуд с жидкостью (Миллер, 1882), а в жертву духам приносилась курица (Тхостов, 1866).
Все названные действия осетинских «дасны» имеют прямые параллели в шаманстве т.н. таджикского («земледельческого») комплекса Средней Азии, принципиально отличающегося от другого тюркского («скотоводческого») по В. Н. Басилову (1973). Для этого комплекса, как известно, свойственно следующее. 1) Духи — покровители имели антропоморфный облик. 2). Сеансы происходили в основном днем. 3) Инструменты характерны не струнные, а колокольчик (Муродов, 1975) или бубен. 4). В конце сеанса обнаруживается заколдованный предмет — главная «причина» болезни. 5). Во время сеанса особую роль играл большой прямоугольный кусок ткани (он использовался также шаманами туркмен и народов Саяно-Алтая). 6) Для гадания употреблялась чаша с жидкостью (молоко, кровь). 7) В жертву приносилась курица. 8). Эту работу раньше выполняли в основном женщины (тоже первоначально отмечалось у осетин, а также у индоиранских кафиров до активного распространения ислама и христианства с конца XIX в.).
Шаманы индоиранских и иранских народов, как известно, наряду с лечением и гаданиями, выполняли и общественные ритуалы. В этом смысле интересен обряд, в котором ежегодно участвовали осетинские «знахари». Их души незримо (человек выглядел спящим) под Новый Год летали верхом на собаках, козлах или некоторых бытовых предметах в Верхний мир — на волшебный Луг мертвых Курыс для того, чтобы похитить растущие там семена чудесных трав, содержащие в себе всяческие блага или семена сельскохозяйственных культур, и принести их в родную общину. Духи мертвых преследовали их, стреляя из луков (Шанаев, 1870; Гатиев, 1876; Чибиров, 1984). Подобный ритуал назван [74] Д. Шанаевым ежегодной священной «битвой за урожай». Интересно, что в ходе обучения молодых шаманов на Саяно-Алтае их также обязательно учили «летать» в Верхний мир, в Страну волшебных трав, где их следует собирать (Ксенин-Лопсан, 1987).
Есть все основания полагать, что у алано-осетин с древнейших времен существовало шаманство индоиранского облика (свойственное, видимо, далеко не всем народам этой группы). Вместе с тем показательно, что в Осетии «знахари» пользовались гораздо меньшим авторитетом, чем жрецы почитаемых святилищ (хотя и большим, чем другие категории причастных сверхъестественному лицу гадателей на прутьях и гадателей на бараньей лопатке, обычных людей «с добрым глазом»). Аналогичную картину мы наблюдаем в остальном индоиранском мире (кафиры, таджики). Также, несомненно, дело обстояло и в древности.
Иными словами, у ранних аланов было шаманство, но не было шаманизма (есть шаманские верования и обряды, но они не являлись центральным элементом религиозной системы). В свете известных нам этнографических данных попытки сарматологов выявить археологические следы рядовых женщин-шаманок будут заведомо обречены на неудачу: ведь почти все атрибуты делались из органических материалов (обычно не сохраняющихся в древних погребениях), и к тому же их не было принято вообще помещать в могилу, т.к. они наследовались...
В последние десятилетия XX века в научных кругах стала популярна тема аланской истории. Это неудивительно. Ещё в 1922 году российский учёный-эмигрант М.И. Ростовцев писал: «В большинстве работ, посвященных эпохе великого переселения народов, роль сарматов и алан в завоевании Европы почти игнорировалась. Однако мы не должны забывать, что аланы долгое время проживали в Галлии, что они вторглись в Италию, вместе с вандалами перешли в Испанию и завоевали Северную Африку».
Учитывая роль, которую этот народ сыграл в политических событиях раннесредневековой Европы, его влияние на культуру и динамику этногенеза евразийских народов, понятен интерес как российских, так и зарубежных учёных к этой проблеме.
Зарубежные исследователи проявляли интерес к кавказским народам ещё в XIX веке (К. Роммель, Боденштедт, Р. Эккерт, К. Кох и др.). Однако только в XX в. в связи с усилением на Западе интереса к событиям [75] великого переселения народов начинается изучение собственно аланской истории.
Для нас представляет интерес исследования англо-американских коллег по данному вопросу, т.к. большой толчок их работе дали труды российских эмигрантов В.Ф. Минорского, М.И. Ростовцева, Г.И. Вернадского, А. Калмыкова и др. Кроме того, за многие годы англо-американскими учёными накоплен обширный материал по аланской проблеме, определённый положительный опыт, который до сих пор целенаправленно не изучался и не систематизировался в российской науке.
В данной статье хотелось бы остановиться на общем анализе источниковой базы в работах англоязычных авторов, т.к. зарубежная и российская исследовательские школы прежде всего отличаются отношением к различным группам источников.
При изучении вопросов аланской истории возможно использование трёх групп источников: археологических, письменных, этно-лингвистических.
Археологическая культура как правило соответствует этнической общности и поэтому археологические памятники играют огромную роль при решении вопросов этнической истории. Археологические материалы являются также ценнейшим источником при рассмотрении вопросов социально-экономической истории, в частности, о состоянии ремесла и домашнего производства, обмена, о характере поселений и т.д. Ввиду немногочисленности письменных источников по древней и раннесредневековой истории алан воссоздание некоторых периодов аланской истории возможно только на базе археологического материала.
Однако для англо-американских исследователей в целом характерна слабая опора на археологический материал. Во-первых, большая часть материала эпохи древности и раннего средневековья сосредоточена на территории бывшего Советского Союза и на протяжении многих лет для зарубежных исследователей была доступна лишь в публикациях российских учёных. Во-вторых, необходимо учитывать, что с продвижением аланских племён на Запад в эпоху великого переселения народов резко усиливается племенная чересполосица, происходит нивелирование культуры восточных кочевников в результате тесных контактов с другими этническими группами. Это черезвычайно затрудняет выделение собственно аланских древностей. На малоперспективность опытов этничесих определений в Европе указывали И. Вернер, Р. Хахман, Б. Бахрах. Но, по справедливому замечанию В.А. Кузнецова, «не истина — наши методы и исследовательские процедуры слишком несовершенны, и поиск должен продолжаться».
Привлечение данных российской археологии к изучению аланской истории начинается с работ М.И. Ростовцева, Г.И. Вернадского. Они в основном ссылались на результаты исследований дореволюционных [76] археологов (В.М. Сысоева, Н.И. Веселовского, Е.Д. Фелицина, А.А. Миллера, В.В. Саханева и др.). В сочетании с анализом письменных источников это позволило М.И. Ростовцеву подтвердить версию ираноязычного происхождения аланских племён, поставить проблему влияния сармато-аланской культуры на культуру европейских народов, а Г.И. Вернадскому — пролить свет на генезис сармато-алан и его роль в этногенезе славянских народов.
Специализированных работ по археологии алан в англоязычной историографии (в отличии от венгерской, немецкой) практически нет. Можно привести исследование Г. Филда и Е. Простова, которые на основе антропологического анализа костного материала из Верхнесалтовского городища (Украина) сделали вывод об иранском происхождении его населения. С учётом данных российской археологии, свидетельствующих о номадистском характере занятий населения Верхнесалтово, можно предположить, что жителями городища в 8-9 вв. были сармато-аланы. Необходимо упомянуть работы Е. Минз — её исследования о происхождении звериного стиля, получившего своё развитие в аланской культуре.
Попыткой обосновать генетическую связь сарматов-савроматов-сираков-аорсов-роксолан-алан, является работа Т. Сулемирского. Ссылаясь на результаты исследований российских археологов, он анализирует эволюцию погребального обряда, структуру погребального инвентаря, подробно останавливается на обычае искусственной деформации черепов. И хотя деформация черепа не служит этническим показателем и была распространена у целого ряда древних народов, необходимо учитывать, что она широко практиковалась в среде сармато-аланских племён. По мнению Т. Сулимирского, распространение этого обряда на Западе в период великого переселения народов связано с появлением в Европе аланских племён, и с опорой на письменные источники может быть способом этнического определения сармато-аланского субстрата. Т. Сулимирским составлена сводка распространения деформированных черепов на Западе. Подобная попытка предпринималась И. Вернером и Б. Бахрахом.
Выделение аланских древностей в массе западного археологического материала — дело непростое. Первая попытка была предпринята немецким исследователем Э. Бенингером. М.И. Ростовцев пытался определить некоторые находки в Европе как аланские по наличию изделий с цветной инкрустацией (так называемый полихромный стиль) — например, погребение в Унтерзибенбруне. И хотя изделия полихромного стиля не могут служить способом этнического определения, т.к. были распространены среди степной аристократии не только сармато-алан, но и гуннов, готов, огромное количество вещей типа Унтерзибенбрун позволяет говорить если не о распространении, то о влиянии стиля, на что ссылается Т.Т. Райс, Е. Минз, Г. Вернадский. [77]
Гораздо более основательно англо-американские учёные останавливаются на исследовании письменных источников. Для периода 1-4 вв. — это в основном свидетельства римских авторов. Подробнейший анализ их работ даётся Г. Вернадским, А.В. Босуортом, О. Меншен-Хельфеном, К. Брэйди, Б. Бахрахом. Работу последнего можно считать наиболее полным и ценным исследованием по аланской проблеме на Западе.
Б. Бахрах использовал широкий круг порой труднодоступных для нас раннесредневековых источников, что позволило ему дать высокую оценку той роли, которую аланы сыграли в истории некоторых стран Западной Европы. В своих исследованиях автор исцользовал так называемый номиналитский метод, т.е., если источники содержали латинский термин Alani, то автор считал, что это относится непосредственно к предмету исследования. Если же речь шла о каких-либо других кочевниках, а об аланах упоминание отсутствовало, автор считал, что это непосредственного отношения к его работе не имеет. В результате за пределами его внимания оказались сведения об аорсах, роксоланах, языгах и др. позднесарматских племенах. То есть несмотря на то, что Б.Бахрах признаёт полиэтничность аланского субстрата, этническое содержание термина «аланы» значительно сужается.
Напротив, в работах Г. Вернадского применялся конкретно-исторический метод, что делает его выводы более чёткими и убедительными, и позволяет пролить свет на пёструю этническую картину сармато-аланского мира.
Богатейший материал содержится в работах В. Минорского, привлекавшего к исследованию арабские, греческие средневековые источники, С. Доусета, Д. Данлоупа, П. Голдена, использовавших византийские и хазарские документы, А. Муле, К. Еноки, Г. Вернадского, опиравшихся на китайские источники, И. Ричмонда, привлекавшего британские документы.
К сожалению, исследование письменных источников англо-американских учёными слабо подкреплено опорой на этно-лингвистический материал. Блестящим исключением являются работы Г.Вернадского, использовавшего данные лингвистики, фольклора, топонимики в решении проблем этногенеза аланского народа.
А. Калмыков, как и Г. Вернадский, используя материалы лингвистики, этнографии, пытается показать значительную роль иранского элемента в этногенезе славянских народов.
Серьёзным исследованием по истории иранских диалектов является работа И. Харматы.
В последние годы предпринимаются попытки изучения аланской религии. Примером может служить работа Ф. Тордарсона. Однако вне поля зрения исследователей остаётся такой бесценный источник как нартский эпос. [78]
Таким образом, большое количество работ, появившихся в последние десятилетия, свидетельствует об усилении интереса к аланской истории. Дальнейшее плодотворное исследование проблемы возможно было бы путём координации усилий российских и зарубежных учёных.
В V—VI вв. н.э. на Восточном Кавказе, на знаменитом Прикаспийском пути Сасанидский Иран предпринял грандиозное фортификационное строительство — сооружение так называемых длинных стен, фортов, крепостей, укрепленных городов, призванных стать надежной преградой от усиливавшегося натиска новых волн воинственных кочевых племен. Начало этому строительству было положено сооружением сырцовых оборонительных укреплений в Дербентском проходе в правление шаханшаха Йездигерда II (439—457) (Кудрявцев А.А., 1978; 1979; Гаджиев М.С, 1980; 1989). Венцом же этого процесса создания мощной кордонной линии стало возведение в VI в. при шаханшахе Хосрове I (531—579) грандиозного Дербентского оборонительного комплекса, включившего собственно город Дарбанд с цитаделью и двумя городскими стены, которые перегородили узкую (3,5 км) полоску приморской равнины, и Горную стену Даг-бары с серией фортов и крепостей, протянувшуюся от цитадели в горы на расстояние ок. 45 км.
В 1998—2000 гг. Дербентская археологическая экспедиция Института ИАЭ Дагестанского НЦ РАН и ДГУ благодаря финансовой поддержке РГНФ (проекты №№ 98-01-18015е, 99-01-18080е, 00-01-18084е) и Центра «Интеграция» (проект № К0856) вела исследования памятников этого фортификационного строительства.
На раскопе XIX были завершены исследования форта 1 — первого в системе Горной стены и расположенного в 145 м к ЮЮЗ от цитадели Дербента. Стратегическая роль форта определялась его местоположением: с него хорошо просматривается цитадель, собственно город и на несколько километров (на С и на Ю) Приморская равнина, он контролировал проход со стороны расположенного к С от него ущелья, по которому противник мог обойти город и его цитадель. Форт представляет собой прямоугольное в плане укрепление (внутренние размеры 23,5*14,5 м, толщина куртин 2,0-2,6 м) с 4-мя угловыми башнями (d = 4 м). Еще одна полукруглая башня (d = 4 м) фланкировала вход в форт в центре юго-восточной куртины. Установлено два периода его функционирования, с которыми связаны соответствующие культурные слои и архитектурно-бытовые остатки: VI—VIII вв. и IX—XII (нач. XIII) вв. [79]
В 1-ый период существования форт представлял цельное, неразделенное внутри, пространство. Архитектурно-конструктивные особенности форта аналогичны иным позднесасанидским оборонительным сооружениям Дербентского комплекса и характеризуются сухой панцирной кладкой из крупных прямоугольных блоков с забутовкой тела на известковом растворе. На цокольных блоках сасанидской кладки зафиксировано три врезных знака мастеров-строителей.
В начале 2-го периода в интерьере форта возводится 8 помещении расположенных по периметру, вдоль куртин. В XI в. в центре форта сооружается водосборный бассейн (ок.4,5*2,6 м; гл. 2,7 м; V = ок. 30 т), к которому вел водовод из керамических труб, проложенный сквозь юго-восточную куртину, а южная часть форта укрепляется обводными стенами (толщиной ок. 2 м), увеличившими диаметр восточной, южной и западной башен до 8 м, а соединяющих их юго-восточной и юго-западной куртин — соответственно до 4,5 м и 3,7 м. Этот факт наглядно демонстрирует военно-политическую обстановку на Восточном Кавказе в X—XI вв., когда происходят периодические военные столкновения между Дербентом и Ширваном, нашедшие яркое отражение, как и неоднократные ремонтные работы по укреплению оборонительных сооружений Дербента в кон. X в. — 60-х гг. XI в., в хронике «Тарих ал-Баб». Проведенные исследования дали веские аргументы для отождествления данного форта с кала Сул «Тарих ал-Баб» и Баб Сул Хордадбеха, а также идентификации раннесредневекового Чора (арм. Чор // Чол, груз. Чора, сир. Торайе, греч. Тзур, Зуар, араб. Сул), выступавшего важным военно-политическим и религиозно-идеологическим центром Восточного Кавказа, с Дербентом (Кузнецов Н. 1893; Marquart J. 1901; 1903; Артамонов М.И. 1962; Кудрявцев А.А. 1978; 1979).
Внутренняя структура форта, сформировавшаяся в арабское время, находит аналоги среди подобных памятников этого периода на территории Передней Азии и Магриба и характеризует укрепленное поселение-форт, известное под термином араб. рибат (Creswell К.А.С, 1989; Vanden Berghe L., 1990; Gregory S., 1996). Исследуемый форт также близок по планировке, структуре римским и ранневизантийским castellum, quadriburgium на восточной границе империи, имеющим подквадрат-ный план укрепления с башнями и расположенные по периметру внутренние помещения (Poidebard A., 1934; Gregory S., 1996). Подобные форты известны и собственно на территории Ирана в сасанидское время (см., напр.: Vanden Berghe L., 1990).
В 1999—2000 гг. были проведены археологические исследования на Белиджинском городище Торпах-кала, расположенном в 20 км к Ю от Дербента. Оно имеет трапециевидную форму площадь ок.100 га, по периметру было защищено рвом (глубина 2-3 м, ширина 20-25 м). Высота валов 7,5-8 м, ширина 30-39 м. С внешней стороны в верхней части валы имеют полукруглые выступы (d = 5-6 м), расположенные через [80] каждые 28-30 м и фиксирующие местонахождение башен. Всего зафиксировано 144 башенных выступа при общей протяженности городской оборонительной стены ок. 4350 м. В каждом валу имеются разрывы, указывающие на расположение здесь ворот, фланкированных башнями. Оплывшие валы скрывают некогда мощные стены, сложенные цепным способом из сырцового кирпича (38-42*38-42*8-12 см) на глиняном растворе и на глинобитном основании толщиной не менее 2 м.
Восточный угол городища занимает холм (ок. 80*100 м), с двух сторон ограниченный оборонительной стеной и представляющий не специальную платформу, а «вписанное» в угол городища поселение эпохи ранней бронзы, о чем свидетельствуют материалы заложенного здесь раскопа. С территории холма и городища происходит также показательная керамика, аналогичная керамике Дербента позднесасанидского времени (V—VII вв.), в т.ч. и исследовавшегося форта, и памятников сасанидского Ирана. Керамический комплекс городища, идентичность строительного материала и конструкции его оборонительных стен сырцовым укреплениям Дербента V в., возникшим в период строительной деятельности шаханшаха Йездигерда II на Восточном Кавказе, позволяют датировать городище сасанидским временем. Вместе с тем, полученные новые материалы дали еще более веские основания связать возникновение городища Торпах-кала с градостроительной деятельностью Йездигерда II в Дербентском проходе и идентифицировать этот памятник с городом Шахристан-и Йездигерд (Гаджиев М.С., 1980). По сообщению сирийской хроники этот «царский» город был возведен шаханшахом в 440-х гг. в области Чол (Hoffmann G., 1880), и эта информация перекликается со сведениями древнеармянских авторов о строительной деятельности Йездигерда в этой же области, «на границе албанов и хонов». Не исключено, что именно об этом городе-крепости писал Егише, разрушением которого во время восстания 450-451 гг. «был крайне удручен» шаханшах, т.к. «начав издавна, только-только смогли построить...» (Егишэ, 1971).
Подобная эшелонированная оборона существовала и на северовосточной границе Ирана, где вдоль р. Гурган, от побережья Каспия и до восточных склонов Эльбурса и Араб-дага, протянулась грандиозная сырцовая стена, известная под названиями перс. Садд-и Искандар («Стена Александра»), Садд-и Пируз, Садд-и Анушираван, тюрк. Кызыл-Алан. Вдоль нее, помимо фортов, были построены и крупные опорные укрепленные пункты (Kiani M.Y., 1982; 1982а), многие из которых — Кале-Даланд, Кале-Харабе, Кале-Гуг, Кале-Габри и др. — близки по планировке, структуре, характеру фортификации Белиджинскому городищу Торпах-кала, но уступают ему по размерам. Не вдаваясь сейчас в достаточно сложный и специальный вопрос датировки «Стены Александра» (см., напр.: Huff D., 1981; Kiani M.Y., 1982; Charlesworth M., 1987; Harmatta J., 1996), заметим, что на вскрытых [81] участках она сложена из кирпичей, близких по формату (Kiani M.Y.. 1982) кирпичам укреплений Дербента и Торпах-калы V в., а также укажем на близость керамики сасанидского времени из раскопок «Стены Александра» (Kiani M.Y., 1982) керамике Торпах-калы и Дербента V—VI вв. И в этом аспекте весьма важными представляются будущие исследования Торпах-калы, предстающей одним из центральных памятников Восточного Кавказа сасанидской эпохи, корреляция материалов, полученных в ходе исследований этого памятника (а также Дербента, Гильгильчайской и Бармакской оборонительных стен), с материалами подобных памятников Южного Туркменистана (Губаев А., 1965; 1967), Северного Ирана, Гиркании (Bivar A.D., Fehervary G., 1966) и особенно расположенными вдоль грандиозной «Стены Александра». Эти комплексные исследования позволят внести существенный вклад не только в решение сложной и важной проблемы возникновения и времени функционирования «Стены Александра» и связанных с этой проблемой актуальных вопросов военно-политической истории региона, взаимоотношений кочевнического и земледельческого обществ Прикаспия в парфянский и сасанидский периоды, но и приступить к комплексному изучению Limes Caspius — колоссальной системы кордонных «длинных стен» и укреплений, опоясавших Каспий на востоке и западе, на границе оседло-земледельческого и кочевническо-скотоводческо-го миров.
В VII в. сразу два источника упоминают о государственном образовании гуннов на территории в Дагестане: в «Истории страны Алуанк» Мовсеса Каланкатваци приводятся важные данные о «царстве гуннов (хонов)» во главе которого стоял «великий князь» Алп-Илитвер, о столице — «великолепном городе» Варачане и т.д.; в «Армянской географии» («Ашхарацуйц»), автором которой принято считать армянского ученого Ананию Ширакаци, кратко сообщается о «царстве гуннов (хонов)», локализуемом на территории Приморского Дагестана, о городах, в том числе и о Варачане (Вараджан).
М.И. Артамоновым (1962) было высказано мнение о том, что «царство гуннов» было основано савирами, завоевавшими дагестанские предгорья в VI в. Предположение о савирском характере «царства гуннов» в Дагестане было поддержано Я.А. Федоровым (1972) и Л.Б. Гмыря (1980). Ю.Р. Джафаров (1985) также полагает, что савиры участвовали в этногенезе дагестанских гуннов. Однако, по мнению А.В. Гадло [82] (1979), гунны Прикаспийского Дагестана VII в. были отличны от савир.
Как представляется, определенную ясность в обозначенный вопрос этнических, политических связей, соотношения прикаспийских (дагестанских) гуннов и савир VII в. позволяют внести данные «Армянской географии». Прежде всего, бросается в глаза, что ее автор четко различал савир и население «царства гуннов (хонов)»: «К северу (от Дарбанда) близ моря находится царство Гуннов, на западе у Кавказа город Гуннов, Вараджан, а также Чунгарс и Мсндр (Семендер). К востоку живут Савиры до реки Талта (читай: Атль), отделяющей Азиатскую Сарматию от Скифии...». В данном пассаже река Талта (Атль), разделяющая Азиатскую Сарматию и Скифию, это, несомненно, Волга, на что неоднократно указывали исследователи. Ширакаци в своем сочинении, в основе которого лежит перевод «Географии» Клавдия Птолемея, ввел современное ему наименование Волги (Атель, Этель, Аттила византийских авторов; см.: Pritsak О., 1956; Moravcsik Gy., 195-8) вместо фигурирующей у Птолемея реки Ра, которая у греческого географа также выступает восточной границей Азиатской Сарматии (Ptol. Geogr., V, 8, 13) и которая общепринято идентифицируется с Волгой. Что же касается указания Анании Ширакаци на то, что савиры живут восточнее «царства гуннов», то оно на первый взгляд кажется ошибочным, так как с востока «страну гуннов» в Дагестане омывало Каспийское море. Однако армянский географ был хорошо знаком с этнической и политической географией Кавказа, и предполагать, что он допустил здесь ошибку, не следует. Кажущееся недоразумение можно объяснить тем, что на карте Птолемея (а труд Ширакаци, как указывалось, является переводом его сочинения) очертания Каспийского моря сильно искажены по сравнению с реальной его конфигурацией, и Каспий, согласно существовавшим представлениям, изображался вытянутым не в меридиональном направлении, а в широтном (см. также изображение Каспийского моря на Карте Пейтингера). Согласно этой карте устье реки Ра (Атль, Волга), имеющее координаты 87°30':48°50', действительно находится восточнее прикаспийской части Кавказской Албании (от реки Албан до реки Соаны), которой соответствует территория Приморского Дагестана. И в передаче Ширакаци, следовавшему в определенной степени за картографической системой своего времени, савиры и река Талта (Атль) помещаются к востоку от «царства гуннов» в Дагестане. Таким образом, на современной карте Северо-Западного Прикаспия область обитания савир по данным «Армянской географии» VII в. должна локализоваться на территории от нижнего течения Терека до низовий Волги. При этом учитываются уровень стояния Каспийского моря и иная гидрографическая картина этой зоны Прикаспия в VI—VII вв.
Другой важный вывод, вытекающий из данных «Армянской [83] географии», состоит в том, что в VII в. савиры и дагестанские гунны (хоны) представляли собой две различные этнические группы, и высказываемое порой априорное отождествление их друг с другом является ошибочным. Вполне возможно, что между ними существовали этногенетические связи, но в пользу этого предположения пока не выдвинуто веских доводов. Не является таковым замечание Феофана — «гунны, именуемые савир» (Theoph. Chron., I.161.28), у которого этноним гунны несет собирательный характер; ср. у Евагрия — «гунны-массагеты» (Euagr. Eccl. Hist., III, 2) и др.
В 70-90-х годах на территории Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья исследована значительная серия (не менее 120 комплексов) раннесредневековых кочевнических захоронений хазарского времени, совершавшихся в курганах с ровиками. В настоящее время, считается, что эти памятники оставлены группой тюркоязычного населения, с достаточной долей вероятности соотносимого с самими хазарами. Представляется весьма актуальным вопрос о месте этого населения в сложной этнической структуре Хазарского каганата. В связи с этим, приобретает значимость анализ некоторых элементов погребального обряда и отдельных категорий погребального инвентаря с целью выделения признаков, характеризующих культурные особенности данной группы кочевнических памятников. В этом плане интерес представляет немногочисленная, но достаточно показательная серия серег из погребений в курганах с ровиками. На территории Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья нами учтено 14 экземпляров. Все серьги имели овальное несомкнутое кольцо с боковым шипом в верхней части и удлиненную подвеску. Среди них выделяется две группы вещей: золотые и бронзовые. У экземпляров, изготовленных из золота, сохранились подвижные подвески, как правило, имеющие удлиненную трубочку, в ряде случаев с сохранившейся нанизанной на подвеску бусиной. Серьги, изготовленные из бронзы, происходят исключительно из женских погребений, тогда как золотые находились как в женских, так и в мужских погребениях, которые являлись захоронениями воинов кочевников, довольно высокого социальною ранга. Имеющиеся материалы дают основания рассматривать золотые серьги из погребений в курганах с ровиками как социально значимую категорию инвентаря. Серия серег из погребений в курганах с ровиками, несмотря на различия в [84] материале и формах подвесок, довольно едина типологически. Общим признаком для них является форма округлого, слегка вытянутого кольца, с несомкнутыми краями и шипом в верхней части. Наиболее близкие аналогии имеются в раннесредневековых памятниках Среднего Поволжья конца VII — первой половины VIII веков, известных в литературе как памятники новинковского типа, а также в синхронных им памятниках Крыма и Северного Причерноморья. Корреляция анализируемых серег с материалами комплексов, в которых они были обнаружены, в том числе с серией византийских солидов второй половины VII — первой половины VIII вв., позволяет ограничить хронологические рамки их бытования концом VII в. (возможно последней четвертью VII в.) — началом IX в. Происхождение этой разновидности украшений, в настоящее время, связывается с византийским влиянием на моду, существовавшую в среде кочевников Восточной Европы (Сташенков Д.А., 2000). По мнению Д.А. Сташенкова распространение серег рассматриваемого типа в Крыму, Северном Причерноморье и Среднем Поволжье свидетельствует как о хронологической близости памятников, так и о родственности населения оставившего кочевнические памятники конца VII — VIII вв. (Сташенков Д.А. — 1999). Материалы из курганов с ровиками существенно дополняют данную схему. В настоящее время, можно говорить о целом ряде параллелей в материальной культуре памятников конца VII — VIII вв. Среднего Поволжья и курганов с ровиками Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья. Помимо серег, отметим сходство в типах зеркал, конструкции сложносоставного лука, снаряжения коня. Также имеются общие элементы в поясной гарнитуре Очевидно, вряд ли можно объяснить данное явление только синхронностью этих двух групп памятников.
Следует отметить, что серьги из курганов с квадратными ровиками, по ряду параметров (форма подвесок, пропорции кольца, способ их соединения) отличаются от аналогичной категории украшений салтово-маяцкой культуры, в рамках которой принято рассматривать данные памятники. В целом, весь комплекс украшений из погребений в курганах с ровиками выделяется своим своеобразием среди материалов других вариантов салтово-маяцкой культуры. Для погребений из курганов с ровиками характерны лишь серьги и поясные наборы, тогда как находки бус, перстней, туалетных принадлежностей единичны. Своеобразна серия бронзовых зеркал, представляющих округлый плоский диск с боковой ручкой. Отдельные типы украшений, распространенные у раннесредневековых кочевников южнорусских степей, например браслеты, в погребениях из курганов с ровиками неизвестны.
Таким образом, серьги, как и весь комплекс украшений из курганов с ровиками, можно рассматривать как своеобразный индикатор, подчеркивающий культурное своеобразие этих памятников на [85] фоне других групп многоэтничного населения Хазарского каганата. Также, они могут выступать в качестве одного из критериев для поиска на территории степей Восточной Европы памятников, имеющих общие культурные традиции с раннесредневековыми кочевническими захоронениями в курганах с квадратными ровиками Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья.
Одной из актуальных проблем отечественной исторической науки является вопрос о включении Юго-Восточной Европы в орбиту действия ВШП, начавшего функционировать еще во II в. до н.э. С первых веков н.э. парфяне, а затем и сасаниды монополизировали посредническую торговлю китайским шелком и резко взвинтили его стоимость. По свидетельству Флавия Сиракузянина, во времена императора Аврелиана (270—275 гг.) фунт шелка стоил фунт золота. В эдикте о ценах 301 г. императора Диоклетиана фунт золота оценивался в 50 тысяч динариев, а фунт пурпурного шелка-сырца — в 150 тысяч (Прокопенко, 1999).
Начавшаяся в VI в. война Византии с Персией привела к изменению трассы ВШП. Византийцы сделали все от них зависящее, чтобы она проходила через перевалы, контролируемые их союзниками — западными аланами. Западная Алания полностью или почти полностью была включена в «экономическое пространство ВШП» (В.А. Кузнецов). Совершенно очевидно, что аланы извлекали немалые выгоды из функционировавшего на их территории международного торгового пути. Они, несомненно, взимали с купцов весомую торговую пошлину.
Судя по материалам Центрального Кавказа, восточные аланы были связаны не только с Византией, но и с Ираном. В катакомбах из могильника Мокрая балка под Кисловодском найдены сасанидские монеты, которые указывают на связи местных алан не только с Византией (византийская монета найдена в катакомбе Рим-Горы, а индикации в катакомбах VII—VIII вв. и в Джагинском скальном могильнике, и т.д.), но и с Ираном. Об этом же свидетельствует значительное количество сердоликовых бус, на торговые связи со Средиземноморьем указывают раковины каури, а большое количество янтаря — на торговлю с Поднепровьем (или с народами севера) (Рунич 1975).
Заниматься торговлей на столь опасном пути, в столь неспокойное время могли лишь отчаянно смелые люди, способные обеспечить собственную безопасность и сохранность грузов. Не удивительно, что купцы, как правило, либо находились под патронажем вождей и «царей», [86] либо состояли из ближайшего окружения последних. Это характерно не только для Северного Кавказа.
Викинги известны в первую очередь своими бесчисленными морскими экспедициями, в ходе которых опустошительным набегам подвергались прибрежные районы европейских стран. Не ограничиваясь военными набегами и грабежами, предприимчивые норманны не отказывались и от торговых операций, там, где они представлялись более выгодными, чем операции военные. Война, пиратские наскоки и торговля являлись их тремя постоянными занятиями, тесно переплетаясь между собой (Пушкарев 1991). Так, во время набега викингов на итальянское побережье в 860 г. епископ и граф г. Луны обещали их вождю Хастингу: «Мы дозволяем вам также, по свободному соглашению между нами и вами, покупать (курсив мой — А.Д.),#) что вы захотите!» О месте пребывания викингов — воинов и купцов — можно судить по руническим надписям. Для своих военных и торговых походов викинги использовали преимущественно уже сложившиеся торговые магистрали. Некоторые впечатления о такого рода поездке с участием фризских воинов и купцов передает Римберт в рассказе о путешествии Ансгария в Данию и Швецию. На полпути им встретились «разбойные викинги. Купцы на их корабле защищались мужественно и сперва даже успешно; но при повторном натиске нападавшие их одолели; пришлось вместе с кораблем отдать им все свое добро» (Херрман, 1986).
Викинги Рюрика хорошо известны в истории славян под именем русы. По свидетельству арабского географа Ибн-Рустэ в начале X в. русы находились в Новгороде. Помимо войны, «единственное их занятие — торговля соболями, белкой и другой пушниной, которую они продают любому, кто согласится ее купить». Викинги торговали и с народами Кавказа. Уплатив пошлину, русы получали доступ к местным рынкам, где продавали свои товары, приобретая местные для перепродажи на берегах Каспия. Наиболее отчаянные продолжали свой путь в Константинополь (Викинги, 1996).
По предположению Г.В. Вернадского, викинги были хорошо знакомы с аланами. В начале VIII в. аланы испытывали сильное давление со стороны арабов. В поисках новых союзников, аланы нижнего Дона и Приазовья, обратили свои взоры на варягов, появившихся в районе верхнего Донца и освободивших к тому времени донецких асов. Ученый допускает возможность обращения алан к викингам за помощью где-то около 739 г. Весьма вероятным считал Г.В. Вернадский установление контроля скандинавскими дружинами над районами низовьев Дона и Приазовья. «Отряд шведов, контролировавших местные племена асов и рухс-асов (русь), не был многочисленным, и постепенно шведы... приняли их название и сами стали известны сначала как асы, а затем как русь». [87]
Ученый обратил также внимание на то, что скандинавские саги полны легенд об асах; они представляли собой часть скандинавской мифологии и входили в число богов под властью Одина. В «Саге об Инглингах» земля к востоку от Дона «называлась Асландом или Асхеймом, а главный город в этой земле назывался Асгард (Асград, т.е. Город асов)». Среди скандинавов получили распространение мужские и женские личные имена Ас (ср.: Асмунд, Аскольд и т.д.) и Аса. Несколько норвежских княгинь IX в. и позднее носили имя Аса.
В свое время П.И. Шафарик в своих «Славянских древностях» отмечал, что скандинавские саги «много говорят баснословного о народе Алан или Аланах... От этих Алан происходил Один, знаменитый герой Скандинавских повестей, которого после Готы и Свеоны причислили к лику богов». Анализируя Эдду, П.И. Шафарик пришел к выводу, что «Скандинавы заимствовали многие религиозные обряды у Алан... Собственное (домашнее, родное) название Алан именно Асы еще в глубокой древности принесено было в Скандинавию скитавшимися Норманнами...»
Распространенной фигурой раннего средневековья был (знатный) воин-купец. Альфред в своем историческом сочинении сообщает о бонде, купце, воине Охтхере из Халогаланда, области в Северной Норвегии. Арабы встречались с балтийскими воинами-купцами на южных торговых путях и перевалочных центрах. Ибн-Фадлан в 922 г. имел возможность наблюдать группу купцов при дворе булгарского царя. «Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились на реке Атиль... У каждого из них имеется секира, меч и нож, и он никогда не расстается с тем, о чем мы упомянули. Мечи их плоские, с бороздками, франкские».
Наряду с Великим шелковым путем, важную роль в европейской торговле играл «путь из варяг в греки». По его маршруту от Волхова до Днепра располагались торговые города. Они нуждались в вооруженной охране торговых путей. Созданные ими собственные дружины для охраны своих караванов были недостаточны для успешной борьбы со степняками. Поэтому славяне прибегали к помощи скандинавов, нанимая варягов для охраны торговых магистралей.
Археологические находки с различных территорий Северного Кавказа свидетельствуют о значительной роли народов региона в торговле Востока и Запада. Хазары и аланы стремились создать для иноземных купцов все необходимые (возможные в то неспокойное время) условия. Например, в Итиле для мусульманских купцов и ремесленников, чувствовавших себя в безопасности, выстроили не только мечети, но и медресе, где дети могли изучать Коран. Каждая из проживавших здесь общин — иудейская, христианская, мусульманская и языческая — имела собственных судей. Эта сложная этническая структура была свойственна для многих городов того времени (в том числе для Киева, вспомним [88] хотя бы летописное сообщение о том, что Святослав «приведе к Киеву ясы и касоги»); из торговых центров Северного Кавказа отметим Семендер (от которого шел прямой путь на Итиль), аланские города (Магас, Нижний Архыз и др.), подконтрольные хазарам и аланам причерноморские центры (Таматарха, Фанагория, Керчь и др.).
Торговые пошлины (десятина) были важнейшей статьей доходов северокавказских «царей». Контролировать громадные территории иногда с полиэтничным населением даже при эффективной налоговой службе проще, контролируя транзитные пути международной торговли. Этот «секрет» знали и ахемениды, и сасаниды, и Александр Македонский, и славяне, и аланы, и хазары. Аланы и хазары, как неоднократно отмечалось в литературе, являлись важными звеньями ВШП. В караванной торговле на этом пути важную роль играл начальник каравана; он не только субсидировал купцов, но и сам шел с караваном, возглавляя его охрану. Поэтому главы фактически всех территорий, через которые проходили важные торговые магистрали, были заинтересованы в безопасной проводке караванов по контролируемой ими земле. В свою очередь, купцы всячески задабривали местных владык, помимо уплаты пошлин, вероятно, преподносили им «сувениры». Интересно в этой связи отметить, что в памятнике юридической мысли Ирана «Сборнике Ишобохта» (VIII в.) среди основных опасностей, подстерегавших караваны, названы море, огонь, враги и власть.
Пошлины с купцов, очевидно, были очень значительными. Б.А. Рыбаков даже считает, что Хазария являла собой пример «паразитарного государства», ведшего транзитную торговлю и вошедшего в историю только благодаря исполнению функции своего рода таможенной заставы на важнейших торговых путях между Хорезмом и Западной Европой, Персией и Русью, Византией и Волжской Булгарией.
Аналогичная картина, судя по археологическим находкам, наблюдалась и в раннесредневековой Алании. Напомним в этой связи некоторые интересные примеры на эту тему. В Мощевой Балке на р. Большая Лаба в захоронении купца найдены обрывки китайской картины на шелке, образцы великолепных шелковых тканей из Китая, Согда, Ирана и Византии, переплет рукописи; в Алагирском ущелье (Северной Осетии) — серебряный сасанидский кубок; в сел. Лезгор (Северной Осетии) — прибалтийская бронзовая пластина с выемчатой эмалью, бусы из янтаря; в Джераховском ущелье (Ингушетии) — отлитый в VIII в. в Басре бронзовый орел. Найденные на Центральном Кавказе византийские монеты и ювелирные изделия, шелковые ткани и посуда говорят о прочных связях с Константинополем.
Аланские и хазарские купцы, вполне возможно, являлись не только посредниками последних; не случайно вплоть до IX в. арабские источники именуют рахдонитами, т.е. знатоками путей (Семенов, Сергеев, 1998). [89]
Военная мощь алан использовалась соседними владельцами для охраны торговых магистралей. Так, в стырфазском могильнике на территории Грузии найдены искусственно деформированные черепа, явно относившиеся к аланскому этносу. Индивидуумы с деформированными черепами найдены и в погребениях Армазис-Хеви (Мцхета). Аланскими признаны катакомбы, исследованные сотрудниками Жинвальс-кой экспедиции. В могильнике VI—VII вв. Квемо Алеви (Ленингорский район Южной Осетии) обнаружено погребение мужчины, экипированного особым воинским поясом. Таким образом, в четырех районах Восточной Грузии отмечены следы аланского населения VI—VII вв. К этому следует добавить 14 захоронений того же периода из сел. Едыс Южной Осетии. Среди сопровождающего инвентаря выделим 3 серебряных сасанидских монеты Хормизда IV (579—590 гг.) и Хосрова II (590—628 гг.).
Р.Г. Дзаттиаты (1992) обратил внимание на факт обнаружения аланских памятников в определенных местах — торговых центрах Восточной Грузии. Не исключая возможности переселения в эти города аланских купцов и ремесленников, археолог больше склоняется к признанию этих алан-переселенцев воинами, специально нанятыми центральной властью для охраны торговых путей и торгово-экономических центров.
Археологические памятники эпохи хазарского каганата на нижнем Дону уже более 250 лет волнуют умы историков и археологов. Первой «археологической» экспедицией по изучению хазарских древностей на Дону можно считать поездку в 1742—1743 г. инженер-капитана Ивана Сациперова для съемки плана и «окапывания» остатков стен Правобережного Цимлянского городища («Буй-городка»).
Наши нынешние представления основываются на работах донских краеведов Х.И. Попова, И.М. Сулина, Б.В. Лунина ..., трудах археологов В.И. Сизова, А.А. Миллера, М.И. Артамонова, И.И. Ляпушкина, С.А. Плетневой, B.C. Флерова, Е.И. Савченко... Основной объем источников по салтово-маяцкой археологической культуре был накоплен к середине 60-х гг. Прежде всего это результаты масштабных исследований Волго-Донской археологической экспедиции под руководством М.И. Артамонова в зоне строительства Цимлянского гидроузла. Фундаментальная работа С.А. Плетневой «От кочевий к городам» стала итоговой для этого периода.
В 70—80-е гг. база источников пополняется. B.C. Флеров проводит археологические разведки в северо-восточном Приазовье и раскопки [90] Семикаракорского городища. Советско-болгарская экспедиция возобновляет работы на Правобережном Цимлянском городище. Е.И. Савченко начинает исследования Крымского городища и могильника. В.Я. Кияшко вскрывает значительную часть культурного слоя VIII—X вв.a) на Раздорском многослойном поселении. Накапливается археологический материал из новостроечных экспедиций, исследовавших в основном курганные могильники при мелиоративном строительстве. Главный итог этих работ — открытие серии подкурганных захоронений VII—Х вв.
В 90-е гг. по программе инвентаризации памятников археологии Ростовской области картографировано более тысячи новых средневековых поселений. Эта работа не завершена. Финансирование программы, как и многих других по сохранению культурного наследия, прекращено в ходе российских реформ.
Попытаемся изложить доступные нам сведения о хазарских памятниках Нижнего Дона (в административных границах Ростовской области). Картина эта не бесспорна и не совпадает со сложившимися представлениями.
Археологические памятники VII—Х вв. позволяют выделить на территории области несколько районов. Отличия между районами в уровне их социально — экономического развития.
1. Район городищ — военно-административный центр каганата. По течению реки Дон от Волго-Донской переволоки до Аксайского займища — полоса протяженностью с запада на восток около 200 км и шириной около 15-20 км. В этот район также входят как бы ответвляющиеся территории в нижнем течении притоков Дона — рек Маныч, Сал, Северский Донец. Здесь концентрируются известные нам городища, селища и грунтовые могильники. Памятники группируются гнездами, когда городище и прилегающие к нему селища окружены как бы ореолом из многочисленных сезонных стойбищ.
А. Городище «Золотые горки» расположено на правобережье старинного русла реки Дон — Аксае, между станицами Бессергеневской и Мелиховской к западу от впадения в Аксай реки Керчик. Занимает мыс высокой террасы в приустьевой части балки Камышевской, обращенный стрелкой к СВ. Площадь городища около 100*60 м. Памятник открыт Новочеркасской археологической экспедицией (руководитель Раев Б.А.). Раскопки на памятнике проводились в 1986—1987 гг. без «Открытого листа». Научный отчет не представлен. Сохранившаяся часть коллекции и полевой документации хранятся в Таганрогском музее-заповеднике. Судя по этим свидетельствам, на городище прослежены остатки стен, сложенных из рваных известняковых плитчатых камней, шириной до 2 м. Возможно, это остатки привратной части крепости. У стен расчищены два погребения. Керамический комплекс памятника [91] представлен тарной, столовой и кухонной керамикой салтовского облика. Среди обломков тарной керамики выделяются фрагменты красноглиняных пифосов северо-причерноморского производства.
У городища расположена цепочка селищ по первой террасе правого берега Аксая и поселение в приустьевой части балки Камышевской. К Золотым горкам тяготеют поселения VIII—Х вв., открытые в бассейне реки Керчик, на островной части между Аксаем и Доном. Возможно, западную границу этого узла маркируют памятники у г. Новочеркасска, у ст. Заплавской.
Б. Сухой Донец, х. Крымский и округа. Центральная часть комплекса расположена на высоком правом берегу старичного русла Дона — реки Сухой Донец в нижней части Крымской балки. Одно из первых описаний древностей у х. Крымский принадлежит полковнику Василию Михайловичу Пудавову: «Здесь, при постройках жилищ, находили в земле тесаные камни известковой породы, составлявшие, судя по широте кладки, в одних местах античную мостовую, а в других — стены зданий; много вырывали черепков больших глиняных сосудов, употреблявшихся в древности для хранения вина». В настоящее время считается, что под хутором Крымским находится 1-е городище, где в 1905 г. геолог В.В. Богачев обнаружил остатки керамического водопровода, а в 1963 г. экспедиция Ростовского государственного университета зафиксировала на усадьбе одного из жителей шесть больших пифосов и остатки каменного жилища. Второе городище расположено к СЗ от первого по левому борту Крымской балки. У юго-западной окраины х. Крымский в 1975—1979 г. Е.И. Савченко раскапывал синхронный им могильник, вскрыто 140 погребений. По его данным комплекс городищ дополняют четыре неукрепленных селища. Фортификация крымского комплекса не изучена. Не ясно, использовался ли камень для сооружения стен на первом Крымском городище. Для второго крымского городища Е.И. Савченко предполагал эскарпирование склонов оврагов вокруг площадки мыса.
Округа крымского комплекса, видимо, охватывает селища на излучине Сухого Донца, от устья Северского Донца до станицы Раздорской, и остров, на котором расположена современная станица Кочетовская.
В. Усть-Сальский комплекс. Семикаракорское городище. Это гнездо памятников занимает левобережье р.Дон у впадения в него реки Сал. Поселения и кочевья концентрируются вокруг Семикаракорского городища. Округа городища изучена слабо. Салтовские кочевья и поселения по течению р. Сал разведаны С.А. Плетневой. Выделяется среди них Кузнецовское поселение на левом берегу реки, на мысе первой террасы, на котором, как и на Семикаракорском городище, отмечены следы железоделательного производства. На городище металлургические шлаки были найдены B.C. Флеровым в 1973 г. при раскопках башни. [92] На Кузнецовском поселении шлаки были нами собраны в 1973 г. при осмотре памятника.
Наименее изучена широкая пойма левобережья р. Дон. В 1998—1999 гг. экспедиция Донского археологического общества (руководитель Цыбрий В.В.) вела, исследования кочевья VIII—X вв. «Тополиха» на СВ окраине г. Семикаракорска, в зоне строительства осетрового завода. Погребальные комплексы из этих раскопок можно сопоставить с салтовскими погребениями, открытыми у ст. Багаевской на левом же берегу р. Дон М.И. Артамоновым в Артугановском урочище и С.Н. Братченко при строительстве шоссе «Ростов-на-Дону — Цимлянск».
В 2000 г. работами археологической экспедиции областной инспекции по охране и эксплуатации памятников истории и культуры выявлен аналогичный могильник в Монастырском урочище близ Старочеркасска.
Семикаракорское городище — первые раскопки, видимо, проведены В.И. Сизовым в 1883 г. В 1971—1974 гг. памятник исследовал B.C. Флеров. Приведем общую характеристику городища, сопоставив описания В.М. Пудавова и B.C. Флерова. С юга и запада изгибистые колена Сала, а с севера Дон, образуют значительный кут (заливной луг), ограждавший некогда существовавший тут город; с востока же лежит открытая низменная равнина. Городище расположено на плоской возвышенности (на грядине, как называют казаки подобные места), имеющей крутой спуск к Салу. План его составляет фигуру пятистороннего полигона, образуемого большим валом, три бока, саженей по сто в длину, а четвертый составлен из двух меньших линий. С северной, южной и западной сторон заметны следы ворот. На валу в трех местах видны основания башен из кирпича. На стороне же, обращенной к реке, при самом вале, находится весьма большой курган с признаками кирпичной постройки. В середине этой ограды есть следы замка четырехугольной, почти квадратной, фигуры с башнями; в замке приметны остатки фундамента большого здания, составлявшего или дворец, или храм. Недалеко от замка, в ограде вала колодезь. Вне вала, с северной стороны, еще приделок укрепления четырехугольной фигуры. Против городища, на обоих берегах реки, в воде находятся тесаные, большие камни, показывающие место существования тут моста. Вокруг городища земля перемешана с черепками глиняной посуды и в некоторых местах с золою. Семикаракорское городище — один из самых больших памятников крепостной архитектуры Хазарского каганата. Основу крепости составляет прямоугольник размерами примерно 250*250 м. К северной стене его примыкают два больших овальных выступа, значение которых не совсем ясно. В северо-восточном секторе расположена квадратная цитадель размером 90*90 м. В настоящее время контуры крепости и ее цитадели прослеживаются в виде расплывшихся, не более одного метра высотой «валов», скрывающих остатки кирпичных стен. [93]
Все оборонительные стены (их выявлено четыре) имели одинаковую конструкцию. Массив стен состоит из сырцовых кирпичей, а внешние и внутренние поверхности покрыты панцирем из обожженного кирпича. Общая толщина стен около 2,3 м. Стены возведены без фундамента. Лишь в основании северной крепостной стены лежит один слой обоженного кирпича. Но назвать его фундаментом нельзя.
Внутри цитадели, в шести метрах от южной стены, выявлена вторая, параллельная ей стена. Не исключено, что она прикрывала находившееся здесь ворота, ведущие из крепости в цитадель.
Характеристику городища дополняет М.И. Артамонов: «Загадочной особенностью Семикаракорского городища является кольцевой вал со рвом, находящимся внутри обведенного им пространства, расположенный вблизи основного квадратного укрепления, к северу от него».
Г. Остров Куркин. Этот остров расположен на р. Дон близ станицы Ново-Золотовской, почти напротив места впадения в Дон реки Северский Донец. Северо-восточная часть острова имеет заметное возвышение, описанное донским краеведом Е.П. Савельевым как городище. Исследования этого памятника в последние годы ведет М.И. Крайсветный. Первые результаты раскопок были доложены им на VII Донской археологической конференции в 1998 г. Выдвигается гипотеза о существовании на перекрестке водных торговых путей крупного военно-таможенного центра. В комплексе с островным городищем рассматриваются каменные стены в приустьевой части Северского Донца. Эти стены известны в описании начала 19 века инженера А.Л. Де-Романо.
Д. Прицимлянский комплекс. Литература по этому комплексу огромна. Археологические исследования тесно связаны с локализацией крепости Саркел, описанной Константином Багрянородным и русского города Белая Вежа. Большая часть памятников этого узла затоплена при сооружении Цимлянского водохранилища. Открытие в 90-е гг. городища Саркел-3 во многом меняет наши представления об этом районе.
Таковы в общих чертах основные гнезда памятников этого района по течению р. Дон. Рассмотрим теперь его ответвления по донским притокам.
Е. Северский Донец. Рыгинское городище. Это самый северный пункт района. С.А. Плетнева относит его к группе поселений с земляными укреплениями: «...здесь даже самые жалкие остатки земляных укреплений полностью уничтожены многолетней распашкой. Судить о поселении мы можем только по описанию Ив. Тимощенкова, обследовавшего памятник в начале нашего века. Большое (около 500 м в поперечнике) городище расположено на мысу правого берега Северского Донца и укреплено с напольной стороны земляным валом и рвом. Было ли рядом с ним неукрепленное поселение, остается неясным. Однако, до Ив. Тимощенкова на памятнике работал В.И. Сизов. В протоколах [94] императорского археологического общества читаем: «Последнее исследование было сделано г. Сизовым у станицы Каменской, лежащей на р. Донце. Городище, находившееся близь этой станицы, скорее походило на оставленное кочевье, чем на городище в известном значении этого слова». Наиболее яркое описание этого памятника принадлежит В.М. Пудавову: «По р. Донцу, выше Крымского городища верст 90, находится при балке Рыгиной, место жилья с полевым укреплением. Ограда его состоит из вала неправильной фигуры, образующейся прямыми линиями в виде элипсиса. В ограде множество бугров и ям с золою и черепками глиняной посуды. Не далеко от этого укрепления есть особый длинный дугообразный вал, как видно прикрывавший с юга описанное жилье».
Округа городища не исследована. Рыгинское городище можно считать опорным пунктом по водному пути от Дона к северо-западным центрам Хазарского каганата в среднем течении р. Северский Донец.
Ж. Река Маныч. Великокняжеское городище. Расположено на правобережье реки Маныч, на лимане Чепрак Пролетарского водохранилища, территория г. Пролетарска (бывшая станица Великокняжеская). Хорошо забытый памятник, археологически не обследован. Был обнаружен при строительстве в конце прошлого века железнодорожной линии Царицын — Тихорецкая. Едва ли не последнее упоминание о нем в современной литературе принадлежит М.И. Артамонову, который сообщает о находках 16-ти амфор, кирпичей квадратной формы, круглого глиняного кувшина с двумя ручками, жернова, медной круглой гирьки и других предметов. Часть этих амфор сохранилась в коллекции Новочеркасского музея.
Долина реки Маныч слывет зоной погибших археологических памятников. Действительно, в 30-е годы во время строительства каскада водохранилищ было уничтожено огромное количество археологических объектов. Научные исследования были минимальны.
В начале 80-х гг. Приморским отрядом археологической экспедиции Азовского музея (руководитель Беспалый Е.И.) была проведена археологическая разведка по обоим берегам реки Маныч от Веселовсого водохранилища до устья. Выявлено несколько десятков памятников, среди которых значительна доля кочевий и поселений VIII—X вв. На наш взгляд, Маныч можно рассматривать как одну из основных транспортно-торговых артерий каганата, связывавшую Северный Кавказ с нижним Доном и Приазовьем.
З. Река Сал. Мартыновский комплекс. С юго-востока район замыкало крупное поселение, возможно городище, в настоящее время застроенное поселком Большая Мартыновка. Одно из первых упоминаний о Мартыновском поселении, со ссылкой на записки А.А. Мартынова, приводит В.М. Пудавов. Он размещает его на правом берегу р. Сал, подчеркивая, что оно уничтожено при построении здесь Мартыновыми [95] слободы, которая и называлась в народе городищенской. В 60-е гг., из Большой Мартыновки, В.М. Косяненко в Ростовский областной музей краеведения были доставлены фрагменты крупного серолощеного трехручного кувшина, найденные при строительных работах. Для района городищ многие вопросы не решены. Не ясно соотношение городищ с селищами и кочевьями. Хронология памятников также далека от разрешения.
Среди сезонных стойбищ района загадкой остаются комплексы, выявленные при раскопках курганных могильников. Это группы так называемых хозяйственных ям, впущенных в курганные насыпи. В части ям зафиксированы погребения собак и людей. В некоторых случаях отмечается круговое построение ям на насыпи кургана. Известны они в долине реки Маныч, на правобережье Дона, в бассейне реки Керчик, на левобережье Дона у цимлянского комплекса, в дельте Дона. Попытки осмыслить эти ямы на курганах строятся по двум направлениям: а) ритуальные памятники и б) остатки сезонных стойбищ.
Концентрация городищ по нижнему Дону, на наш взгляд, связана с системой кочевания, которая сложилась с середины VII века, после включения этой территории в состав Хазарского каганата. Сезонные передвижения кочевников складываются как бы на двух уровнях. Первый уровень — это кочевание болгарских племен, которые после завоевания их хазарами теряют часть традиционных территорий для ведения хозяйства. Второй уровень — кочевья завоевателей хазар. Отметим, что перекочевки подразделений господствующего этноса в степных империях — это не только форма ведения хозяйства, но и форма управления подчиненными территориями. Археологически, с хазарами большинством исследователей отождествляются курганы с «квадратными ровиками». По этим погребальным памятникам хазарские кочевья занимают территории, на которых с середины VIII века формируются как район городищ, так и ряд районов в Подонье с большой степенью оседлости населения. Наибольшая концентрация хазарских курганов отмечена у прицимлянского гнезда.
Сложение района городищ можно отнести к середине VIII века. Строительство городищ на нижнем Дону, на наш взгляд, связано с переносом административных центров Хазарии из Дагестана в ходе войн с арабами. Так, в Поволжье появляется новая столица — Итиль. Дон становится вторым политическим центром, летней ставкой кагана.
Формирование «района городищ» было не одноразовым актом. Постройка кирпичной крепости Саркел в 30-е гг. IX века, видимо, было завершающим этапом. Крепости на нижнем Дону заменили административные центры из кочевых ставок, сложившиеся в VII веке. Наличие крепостей в центральных областях каганата, далеко от границ ставило перед исследователями вопрос — «против кого они были построены?». Нам представляется, что в укреплениях хазарского административного [96] центра на Дону большую роль сыграла инерция традиции. На донской земле воспроизводились сооружения, ранее существовавшие на Северном Кавказе. Крепости разнотипны. Каждому городищу нижнего Дона по планировке, строительному материалу и т.д. подбирается аналог на Северном Кавказе.
Нижний Дон как военно-административный центр каганата был полиэтничным. С Северного Кавказа перемещается часть ремесленного населения, что определило «взрыв» керамического производства и быстрое насыщение степи глиняной посудой, которая с середины VIII века маркирует все типы поселений и сезонных кочевий. Хорошо известны сведения о тюркском (гузском) гарнизоне Саркела. На Дон переселяются и жители с северного пограничья каганата — славяне. С конца IX века происходит замещение на многих традиционных кочевьях «аборигенов» — печенегами. Археологически это фиксируется в появлении у стойбищ подкурганных захоронений с новым обрядом. У Саркела складывается курганный могильник.
2. Кочевые районы и зоны оседлости. Район городищ окружают территории кочевий, кратковременных стойбищ. На подавляющем большинстве памятников культурный слой не сохранился. С юга — это степные пространства за левобережьем р. Сал. Материалы, собранные краеведом из г. Зимовники В.Г. Лушиным со стойбищ в долине реки Куберле, по составу теста лепной и столовой керамики позволяют предположить, что кочевание в Сальских степях проходило в меридиональном направлении. Конечными точками маршрутов перекочевок были с юга — предгорья Северного Кавказа, с севера левый берег среднего течения реки Сал.
С севера от района городищ зона кочевий охватывает платообразное водораздельное возвышение между рекой Дон и притоком Северского Донца — рекой Белая Калитва. С востока эту зону ограничивает долина р. Чир, а с запада — Северский Донец.
По реке Белой Калитве и ее притокам, а так же по нижнему течению реки Чир выделяются зоны, где сосредоточены селища с хорощо выраженным культурным слоем.
Таким образом, в большой излучине Дона наметились районы по Белой Калитве и Чиру, где проходило оседание кочевников.
Как зона преобладания кочевого хозяйства, по разведочным сборам, выглядит междуречье Белой Калитвы и Деркула. Это — своеобразная буферная полоса между зонами оседания кочевников по Белой Калитве и в Среднедонечье.
3. Северо-восточное Приазовье. Кочевники и «маятниковая» торговля. Побережье Таганрогского залива и дельта р. Дон хорошо известны по археологическим разведкам. Первые результаты сборов были обобщены М.А. Миллером и подтверждены сборами Северо-Кавказской экспедицией ГАИМК А.А. Миллера. В 50-е — 60-е гг. на северном [97] побережье Таганрогского залива Н.Д. Праслов открывает ряд новых памятников. На части из них С.А. Плетнева провела небольшие раскопочные работы.
В то же время разведочные работы И.С. Каменецкого по р. Кагальник и Л.М. Казаковой по р. Мокрая Чумбурка, проведенные в начале 60-х гг., оказались забытыми и обнаруженные ими средневековые памятники не учитывались в сводках салтово-маяцких древностей.
Основные сведения о памятниках VIII—Х вв. в северо-восточном Приазовье собраны B.C. Флеровым в разведках 70-х г.г., и нами, в начале 90-х г., при проведении инвентаризации памятников археологии. В 1995 г. В.А. Ларенок было исследовано более 1000 квадратных метров территории стойбища Ломакин 4 на правобережье Миусского лимана. Значительные по площади раскопки В.К. Гугуева на Нижне-Гниловском некрополе в 1988—1991 г. раскрыли и большую часть поселения VIII—Х вв.
В целом район северо-восточного Приазовья можно оценивать как классический пример развития кочевого хозяйства в рамках «степной империи». Вхождение территории в Хазарский каганат привело к упорядочению маршрутов сезонных перекочевок, выделению зимников и летников. Хозяйственные циклы приазовских кочевников оказываются прочно связанными с меновой торговлей с Причерноморьем, с Крымом. Побережье Таганрогского залива выглядит как сплошная «полоса обитания», фиксируемая археологами преимущественно по обломкам амфор. Рыба, икра и продукты кочевого хозяйства в течении навигации на море обменивались кочевниками на крымские вина, определяя «маятниковый» характер торговли. Парадокс развития этого района состоит в том, что в придельтовом районе Дона не возникает крупного торгового центра, как это было в античности и позже в золотоордынское время. Возможно, объяснение этому кроется в том, что Нижний Дон был глубинным районном каганата. Хазарские военно-административные центры на Дону появляются довольно поздно и возникают не столько на пересечениях крупных торговых артерий, а на местах сезонных кочевий.
Из всего массива предметов погребального инвентаря, обнаруженных на могильниках салтовской культуры монеты, керамика и поясные наборы являются достаточно надежными хронологическими маркерами. За годы исследования (1984—1994) Красногорского [98] могильника (далее м-ка) Балаклеевского р-на Харьковской обл. Средневековой экспедицией ХГУ под руководством проф. В.К. Михеева было вскрыто 310 погр. Монет, за исключением фальшивого арабского дирхема (Аббасиды ал-Мансур Мадинат ас-Салама 150 г. хиджры или 767 г. н.э.) из 300 погр., на м-ке обнаружено не было. Ввиду этого авторами была предпринята попытка хронологизации материала на основе анализа керамики и поясных наборов.
Керамический комплекс м-ка представлен 189 сосудами, сортируя которые по критериям происхождения и техники изготовления, мы выделяем две группы: местного производства (159 сосудов) и привозной крымской керамики. Что касается последней, то ее разбору была посвящена специальная статья [Аксёнов B.C., Михеев В.К., 1998]. Их выводы по относительной хронологии м-ка полностью соответствуют нашим. В группе керамики местного производства выделено 2 подгруппы: гончарной (143) и лепной посуды (16). Гончарная представлена кувшинами (47), кружками (40), горшками (47) и кубышками (9). В каждой из групп выделено несколько внутривидовых вариаций, и от 4 до 12 самостоятельных типов. Выделенные типы лепных сосудов по своим пропорциям соответствуют определенным типам гончарных, что позволяет нам говорить о преемственности форм и проследить распределение посуды на м-ке непосредственно по типам.
Условно м-к можно разделить на три части: западное (З) крыло, центральная часть и восточное (В) крыло. Наряду с основными типами сосудов, относительно равномерно распределенными по всей территории м-ка, прослеживается очевидная специфика в распространении определенных типов на территории З и В крыла. Так, в З и Ю-З частях м-ка сосредоточено 11 из 16 горшков, аналогии которым имеются в пеньковской культуре и датируются 2-й пол. VIII — нач. IX вв. Все три кувшина с сильно приплюснутым туловом, широким дном, высоким горлом и прямым продолговатым сливным носиком с отгибом наружу также находились в 3 части м-ка. Три из четырех кувшинов с аналогичным сливом и менее приплюснутым туловом, плавно переходящим в невысокое горло, обнаружены в Ю части; четвертый — между З и центральной частями. Кружки со слегка приплюснутым туловом, плавно переходящим в невысокое горло с немного отогнутым венчиком, представлены четырьмя экземплярами на З и стыке З и центральной частей м-ка. Вместе с тем, кувшины без слива аналогичной формы распределены совершенно иным образом: один — в З части, ещё один — в центральной, и четыре — в В части. Для В крыла и центра характерна наивысшая концентрация (8 из 10) кувшинов и кружек с шаровидным или слегка приплюснутым туловом и средней высоты раструбовидным горлом. На В центральной части и Ю-В м-ка наблюдается наиболее яркое разнообразие сосудов. Так, именно здесь были обнаружены оба кувшина с рифленым корпусом, две бочковидные кружки с рифлением по корпусу [99] и зооморфными ручками. Единичными экземплярами представлены: двуручный столовый кувшин с поддоном, кружка-братина и стакановидный сосуд. В центральной и С-В частях было обнаружено семь кубышек. Еще одна кубышка, с высоким горлом, была найдена в Ю-3 части неподалеку от единственной на м-ке миски — обе находки датируются концом VIII — нач. IX вв.
Из 310-и вскрытых на м-ке погребений 12 содержали поясные наборы и их детали (10 игумаций и 2 кремации). Все изделия отлиты из бронзы. По размерам и стилистике оформления данные комплексы делятся на 2 группы: 1. Предсалтовские наборы; 2. Салтовские наборы. Первая группа представлена единственным наконечником из безурновой кремации № 167 — судя по технике орнаментации, он является одной из последних реплик горизонта Столбище-Старокорсунская. Из анализируемых салтовских наборов автоматически «выбывают» малоинформативные в контексте стилистики орнаментации «рамчатые» неорнаментированные пряжки из погр. №№ 219, 271 и 278, а также листовидная бляшка из погр. № 70. (Однако стоит отметить, что «петельчатое» крепление язычка к пряжке из погр. № 271 свидетельствует, видимо, о её сравнительно ранней датировке). Из оставшихся 7-и наборов все относятся к подгруппе «классических» салтовских, специфика оформления которых позволяет выделить 3 стилистические линии: 1) Линия «крупного бутона» (погр. №№ 150, 209); 2) Линия «трёх-пяти бутонов» (погр. №№ 265, 293); 3) Линия «геометрического цветка» (погр. №№ 93, 145). Набор из погр. № 77 отражает переход от линии 2 к линии 3. Планиграфический анализ демонстрирует чёткую взаимозависимость между стилистикой наборов и расположением их на территории м-ка. Так, наборы из погр. №№ 167, 209, 271 с признаками, характерными, как правило, для сравнительно ранних гарнитуров (3-я четв. VIII — нач. IX вв.), сконцентрированы в Ю-З части м-ка. Восточнее их, в порядке очерёдности, находились: набор линии 1 в «чистом» виде из погр. № 265; набор линии 1, — с переходной к поздним бляшкой-«рамкой», — из погр. № 150; набор линии 2, — с переходной к поздним бляшкой-«рамкой», — из погр. № 293. К Ю-В от последнего был обнаружен «классический» «геометрический» набор из погр. № 145. Ещё дальше к В, практически на окраине м-ка, располагались погр. №№ 93 и 77, сочетающие признаки линий 2 и 3 — с заметным преобладанием последней. Учитывая, что смена стилей не могла происходить в одночасье; что пояса набирались в течение жизни воина — и, следовательно, на них могли крепиться и крепились разновременные накладки разных стилей; наконец, что пряжки, очевидно, крепились к поясу в первую очередь — полученная картина отражает реально происходившую на данной территории эволюцию наборных поясов.
Анализ качественно-количественного состава керамики, а также стилистики оформления поясных наборов, позволяют сделать однозначный [100] вывод о том, что м-к формировался по направлению с З на В; а внекультурные аналогии и хронология собственно салтовских изделий позволяет с большой степенью уверенности датировать памятник последней четв. VII — 1-й пол. IX вв.
Ареал находок, свидетельствующих о различных верованиях алан ограничивается нами Нижне-Архызским и Кяфарским средневековыми поселениями. Археологические экспедиции, проводимые на этой территории в последние полтора десятилетия, собрали материал, количественный и структурный анализ которого может помочь приблизиться к решению проблемы дохристианских верований алан.
Предметы, происходящие из обследованных скальных погребений указанной территории, около 300, объединены в шесть комплексов. Из них нами выделено XII групп, и большинство их них напрямую связано с языческими верованиями аланского населения в VI—IX вв.
IV, V, и X группы находок (оружие и его элементы) составляют примерно 17 % от общего количества. Ограниченное число предметов этой категории объясняется не только плохой сохранностью и ограбленностью погребений. Возможно, это явление объясняется символизацией погребального инвентаря. Элемент символизации свидетельствует о магической нагрузке данной категории находок.
Наличие подобных находок объясняется, по-видимому, бытованием общеаланского культа воина-всадника и культа боевого меча. Упоминание об этом божестве встречается в осетинском эпосе «Нарты». К названной категории можно отнести и такие артефакты, как детали колчанов и лука, элементы мужского костюма и конской упряжи. Вместе с тем, эти предметы встречены в упомянутых скальных погребениях нечасто, что можно объяснить ограбленностью захоронений и плохой сохранностью железных вещей.
Другой популярный культ, причисляемый к аланским семейно-родовым культам, — почитание богини домашнего очага, материального символа семейной общности. На рассматриваемой территории из вестно пока одно изображение, связанное с культом. Это изображение надочажной цепи на Западной стене Кяфарской аланской гробницы, датируемой XI—XII вв
Другой аспект данной проблемы — возможное бытование у алан еще более древнего культа тотемов обожествляемых животных. В качестве [101] возможных культовых животных, почитаемых у алан и других ираноязычных народов, принято считать медведя, оленя, волка, коня, птиц. Среди находок в скальных могильниках Нижне-Архызского городища выделяются группы VI и XII, которые имеют определенную связь с почитанием диких и домашних животных.
Присутствие амулетов «раковина каури» среди погребального инвентаря подтверждает гипотезу о бытовании культа змеи у алан, а также осетин. Кроме этого, подобные амулеты использовались в профилактической и лечебной магии.
Почитание другого животного — оленя подтверждается различными находками, в частности, большим количеством изображений этого животного на культовых камнях Кяфарского городища. 31 % всех изображений, найденных на этом городище, связано с оленем. Эти животные изображены единично, группами, с всадниками, а также с символом креста между рогов. Некоторые исследователи (Аржанцева И.А. и Албегова З.Х.) пришли к выводу, что эти рисунки — одно из древнейших изображений св. Евстафия. Его связывают с осетинским богом охоты и диких животных Авсати).
В мае 1999 года научными сотрудниками Нижне-Архызского музея-заповедника, в ходе обследования горного хребта Мицешта напротив Нижне-Архызского городища, был найден нарисованный наскале лик Христа. Икона, размерами 140 на 80 см., написана красками на скале, обращенной почти строго на восток.
При дальнейшем археологическом обследовании близлежащей местности рядом с ликом обнаружены 2 ограбленных скальных погребения, на поверхности которых подобран фрагмент холста от одежды. Кроме того, в подошве скальной террасы, непосредственно под иконой, найдена гробница, сложенная из массивных камней и ориентированная по линии З-В. Археологически погребение не обследовалось, так как рядом были следы грабительских отвалов.
В июле 2000 года рядом с ликом (в 180 м. вниз по склону хребта) научными сотрудниками музея найден и обследован археологический комплекс, включавший в себя 5 каменных гробниц с элементами христианского обряда погребения. Очевидно, именно этот комплекс (в состав которого входила и каменная статуя воина с крестом на головном уборе, ныне утерянная) был зарисован Д.М. Струковым в 1886 году и нанесен им на план Нижне-Архызского городища под № 1. [102]
После установки ограждения, исключавшего непосредственный контакт с иконой, и публикации лика, в средствах массовой информации появилась целая серия репортажей и статей об этом уникальном явлении. К сожалению, буквально сразу же, вместо объективной информации вокруг найденного лика стала формироваться «мифология СМИ». Так, уже в первом репортаже ОРТ (октябрь 2000 г.) говорилось о какой-то «обрушившейся скале» (?), в результате чего якобы и стало возможным появление иконы. В этом же ряду (под характерным заголовком «Сенсация») стоит и утверждение газеты «Совершенно секретно» (декабрь 2000 г.) о многочисленных монашеских кельях вокруг лика.
На данном этапе изучения иконы говорить о точном времени ее создания невозможно, так как не проведены комплексные физико-химические исследования и полный иконографический анализ. Можно лишь отметить, что лик Христа, написанный в византийско-православной традиции, относится к иконографическому типу «Нерукотворный Образ» и связать время его появления в горах Северного Кавказа с «алано-византийским» периодом жизни города (IX—XIV вв.).
Севернее села Нижняя Ермоловка Зеленчукского района Карачаево-Черкесской республики расположена группа из 27 небольших курганов. В октябре-ноябре 2000 года были раскопаны два кургана, расположенных возле автодороги ст. Зеленчукская-Архыз, на левом берегу р. Большой Зеленчук. Форма насыпи в вертикальном сечении сегментовидная, в плане — округлая. Насыпи состояли из речного булыжника и чернозема. Под насыпями оказались гробницы из массивных каменных плит. Ориентация СВ-ЮЗ. Найдены разрозненные фрагменты керамики. Костяк в обоих случаях не обнаружен. В первой гробнице плиты перекрытия были разбиты, на одном фрагменте покровной плиты были обнаружены шесть чашечных углублений, расположенных в виде креста. У второй гробницы перекрытия не тронуты. Сама гробница разделена поперечной вертикальной плитой. Можно предположить, что данное погребение представляет собой кенотаф. [103]
Известно, что долгое господство ираноязычных сармато-алан в степях Юго-Восточной Европы, в том числе степях Северного Кавказа, было прервано в начале раннего средневековья выходом на историческую арену тюркских племен, которые вступили в глубокие контакты с местным ираноязычным населением. Если речь идет о центральной части Северного Кавказа, то последствия взаимодействия: этно-политические, а также в экономике и культуре становятся ощутимы с VII в., еще более в VIII—X вв. Целью настоящего сообщения является еще раз обратить внимание на характер этнокультурных процессов на Ставропольской возвышенности, географически являющейся центром Предкавказья, то есть тем регионом, где миграционные волны и культурное взаимодействие средневековых этносов было особенно выраженным.
Археологический материал помогает реальнее представить процессы, имевшие здесь место еще до времени Хазарского каганата, равно как и в период интеграции обитавших здесь племен в составе этого государства. Открытые здесь памятники в последнее время принято относить археологами к салтово-маяцкой культуре, хотя не изжито и соотнесение их с аланской. Они представляют более или менее долговременные поселения, связанные с различными стадиями кочевого или полукочевого хозяйства. По обоснованному мнению А.В.Гадло, 1979 г., Приазовская низменность и Ставропольская возвышенность в этот период представляли единый в экономическом отношении район, связанный цикличностью скотоводческого хозяйства. Наличие земледелия в эти столетия на Ставропольской возвышенности требует обоснования. На территории крупных памятников Ставропольской возвышенности (типа Татарского городища) имеются следы ремесел, бронзолитейного, кузнечного, гончарного. Легко идентифицировать керамику: лепные сосуды, горшки со сплошным или зональным горизонтальным рифлением, красноглиняные кувшины, сероглиняные пифосы, фрагменты амфорной импортной тары — так называемых, амфор салтовского типа с округлым дном и др. По данным Н.А. Охонько, 1988, всего изучено на Ставропольской возвышенности 33 поселения этого периода. Как показывают результаты разведочных работ А.В. Гадло в 1972 г., Найденко А.В., Гадло А.В. в 1973 г., Гадло А.В. в 1979 г., большинство поселений здесь возникло в к. VII в. и просуществовало до 2 пол. X в. Амфорный материал показывает, что и приазовский район и степная часть Центрального Предкавказья были ориентированы в своих связях на [104] запад. Население, обитавшее к востоку от Кумы, этих связей пока не имело.
Но именно здесь по правому берегу р. Кумы, вплоть до ее поворота на восток в сухие Прикаспийские степи, обнаружены северные памятники доподлинно аланской культуры (географически — это восточная оконечность Ставропольской возвышенности).
В основном же Ставропольскую возвышенность населяли оногуро-булгарские этнические группы, вошедшие в 70-е годы в состав Хазарского каганата. Об их появлении здесь приходится судить по несколько туманным сведениям средневековых византийских авторов, а также Армянской географии Анания Ширакаци VIII в. В последней повествуется об истории Великой (Азовской) Булгарии, ее последующем распаде после кончины хана Кубрата и расселении гунно-болгарских родоплеменных групп во главе с сыновьями хана. В свое время были содержательно истолкованы И.С.Чечуровым, 1980 г., сведения по интересующей нас проблеме в «Хронографии» Феофана Исповедника и «Бревиария» патриарха Никифора, писавших в VIII — нач. IX вв. Здесь главным историко-географическим фактором проблемы является локализация Гиппийских гор, занимавшая многих ученых, прежде всего, М.И. Артамонова, 1960, А.В. Гадло, 1979. А.В. Гадло удалось убедительно показать, что Ананий Ширакаци считал Гиппийские горы водоразделом, с которого в западном направлении к Меотиде стекают реки, не связанные с Кавказскими горами и протекающие севернее Кубани. В тоже время автор Армянской Географии систему Маныча понимал как «рукав», отходящий от двух истоков Волги к Дону, ограничивающий Гиппййские горы с севера.
Таким образом, Гиппийскими горами могла быть только Ставропольская возвышенность. Нам представляется, что именно Ставропольская возвышенность вместе с Азово-Прикубанской равниной была той частью северо-кавказской степи, над которой ханы из рода Дуло захватили власть не позднее 620-го года. (Они отложились от западно-тюркского каганата и политически связали свой народ с Византийской империей). Об этих событиях пишут оба высокопоставленных византийских писателя: и Феофан и Никифор.
Недолгая история древнейшего болгарского образования, как известно, заканчивается расселением пяти племенных групп, сильнейшая из которых под предводительством Аспаруха добралась до Дуная и вторглась во Фракию. Для нашей темы важно, что это произошло согласно Армянской географии, из области носившей название Гиппийские или Булгарские горы (Ставропольская возвышенность).
Однако, А.В. Гадло, проведя безупречное текстологическое исследование так называемого «Именника болгарских ханов», представлявшего собственную этногенетическую оногуро-булгарскую легенду, пришел к выводу, что род Дуло по происхождению связан с одним из [105] подразделений алан, соседних оногуро-болгарам. О том же говорит и имя первого хана Дунайской Болгарии — Аспаруха, имеющее несомненные древние ирано-язычные корни.
Три последующих столетия область Ставропольской возвышенности была во владении Хазарии. Отсюда происходит ее наименование в восточных источниках как Хазарских гор. Оногуро-булгарское население Предкавказья было во власти каганата, их группировки в военных целях перемещались по воле хазарских правителей, в частности, на исконно аланские земли — в районе современных Кавминвод. Эти события опять-таки исторически связаны со Ставропольской возвышенностью. О сути их подробно раскрыто в исследованиях В.А.Кузнецова. Особенно рельефно отношения алан с хазарами и предкавказскими болгарами прослежены в его «Очерках истории алан», 1992 г. Он показал шаткость и нестабильность всей северной границы Алании с территорией Хазарского каганата, его периферии, населенной тюрко-язычными болгарами. Так было и в эпоху арабо-хазарских войн (в недолгий период подчинения Алании Хазарией, оформленного в 721/22 гг.) и в последующее время.
Привлекательные географические и климатические особенности Ставропольской возвышенности вряд ли могли не заинтересовать арабов, коль скоро военные действия в моменты некоторых походов арабских полководцев на Северный Кавказ велись в непосредственной близости от нее. Таков был поход Ал-Джаррах в 723/24 гг., согласно Ибн-ал-Асира, затронувший не только горную, но и степную часть Алании. Эти чрезвычайно интересные эпизоды истории еще ждут своего раскрытия в пластах археологических памятников и Ставрополья. Нельзя исключать, что с восточной частью степного Ставрополья, если не самой возвышенностью, исторически связан оставшийся загадочным для ученых Б-л-нг-р (Баланджар). Топоним или ононим, а то и этноним понимается достаточно различно. Он звучит многократно при описании событий эпохи сасанидского шаха Хосрова Ануширвана и времени арабо-хазарских войн. Он может пониматься как название страны, города, укрепленного пограничья, а также народа.
Хазарские горы (Ставропольская возвышенность) по персидскому анонимному сочинению X века «Худуд-ал-ален» (Пределы мира) уже прочно связываются с печенегами. Здесь их кочевья, здесь «они пасут свой скот». Печенеги Предкавказья выделяются источником в особую группу — хазарских печенегов.
В завершение следует сказать: достижения в изучении истории Ставропольской возвышенности данных столетий имеют в основе тот большой вклад, который был сделан половину столетия тому назад Т.М. Минаевой. [106]
Раннесредневековый могильник, открытый Н.И. Навротским и впоследствии частично привлекавший к себе внимание А.В. Гадло, А.В. Найденко и Х.Х. Биджиева, впоследствии подвергся широкомасштабным археологическим исследованиям, осуществлявшимся силами АГПИ. Сегодня на этом памятнике изучено более сотни погребальных комплексов, подавляющее количество которых представляют собою каменные ящики, хотя в ряде случаев они соседствуют и с несколькими грунтовыми захоронениями. Безинвентарность основной массы захоронений и находка камня-надгробия с прочерченным крестом дают все основания для его трактовки как раннехристианского. Суммарная датировка объекта (Голованова С. А., 1996) ранее определялась в пределах VIII—X вв., что, вероятно, требует уточнений.
Совсем недавно подобные уточнения были предприняты М.Н. Ложкиным и С.Н. Малаховым: опираясь на целый ряд аналогий деревянным «рамам» в погребениях Горькой Балки, а также и находки на Средней Кубани каменных крестов, М.Н. Ложкин и С.Н. Малахов предлагают датировать все кресты, а также и могильник № 1 временем, не ранее «первой половины X века» (Артамонов М.И., 1958), что в литературе уже обсуждалось (Красильников К.И., Тельнова Л.И., 2000). Вместе с тем, у Горькой Балки, наряду с остатками деревянных конструкций в виде «рам», есть и иные разновидности этих дополнительных конструктивных деталей. В первую очередь, это деревянные плахи, укладывавшиеся поверх и поперек каменного ящика, выполняя, очевидно, (наряду с каменными плитами) функцию перекрытий. Внутри каменных ящиков и нескольких грунтовок прослежены и достаточно надежно реконструируемые подтрапецевидные гробовища, а также «ящики» решетчатой формы. Помимо приведенных М.Н. Ложкиным и С.Н. Малаховым аналогий им с территории СМК, укажем на то, что есть они и в Крыму, где датируются с VII в. (Крупнов Е.И., 1970; Бараниченко Н.Н., 1987). По всей вероятности, Горькая Балка и Крым — «крайние» пределы самых ранних зон распространения подобных конструкций, между которыми находятся и иные памятники, но датируемые более поздним временем и трактуемых в ином этнокультурном отношении. Между тем, на Горькой Балке появилась возможность для уточнения датировки могильника: находки небольшой серии серег позволяют их рассматривать в пределах IX в. (Дахкильгов И.А., 1978). А находка серебряного арабского дирхема (Пелих А.Л., Берже А., 1889) указывает на возможность существования на раскопанной части [107] погребальных комплексов конца VIII в. Учитывая эти обстоятельства, заметим: при явном наличии следов крымского влияния на процесс христианизации Северного Кавказа, осуществлявшегося наряду и параллельно с византийским, Горькая Балка может являться еще одним аргументом в пользу наблюдений тех авторов, которые считали возможным выявлять в регионе явные признаки христианизации «до X века» (Кузнецов В.А., 1978), в т.ч. и на отрезке времени с рубежа VIII—IX в. (Оболенский Д., 1998). Тем не менее, новые археологические работы в округе Горькой Балки, вероятно, позволят внести новые уточнения в интересующую нас проблему.
Среди многих категорий вещей, салтово-маяцких комплексов изделия из глины в виде керамики занимают особое место. Предметом нашего исследования являются кухонная посуда лепной и круговой технологии (около 200 изд.), лепные предметы и приспособления (около 70 изд.). Общая статистика различной керамики из Подонцовья выглядит в процентном соотношении примерно так:
|
Тип изделия |
Кухонная |
Столовая |
Тарная |
Амфоры |
Специальная |
Прочая |
|
Поселение |
51,2 |
12,8 |
16,7 |
10,9 |
6,9 бытовая |
1,5 |
|
Погребение |
52 |
33,7 |
3 |
1,2 |
11,1 культовая |
|
Нас прежде всего интересует кухонная керамика, в слоях кочевий ее уже до 40%, на селищах и в захоронениях свыше 51-60%. Абсолютное ее большинство изготовлено и обожено здесь же в гончарных мастерских селищ Подгаевка, Новолимаревка, Рогалик. Об этом свидетельствуют раскрытые обжигательные печи (19 ед.), 380 экз. клейм на донцах горшков, наборы приспособлений и устройств гончаров, керамический брак, изделия сработанные из однообразной керамической массы (глины) хозяйственно-бытового и специального назначения. Анализ каждой группы начнем с типологии.
Группа кухонной посуды, по технологии изготовления, подразделяется на две подгруппы: лепную и круговую, в том числе подправленную на круге. [108]
1. Лепная, ее от 0,5 до 27% — горшки, корчаги, котлы, сковородки, жаровни и другие изделия, сформованные вручную. Глина насыщена грубыми отощителями (шамот, крупный песок, дресва, мел, трава).
Тип I. Лепные горшки в формах тулов различаются на три подтипа. Подтип А: круглые, шаровидные, приземистые с низким венчиком, стенки бугристые хотя и заглаженные. Подтип Б: овальные с поднятой придонной частью. Подтип В: с промежуточным состоянием формы тулова. Стратиграфически лепные горшки находятся в слоях кочевий, ранних селищ второй половины VIII — нач.IX вв. и являются исконной посудой болгар.
Тип II. Лепные корчаги с объемом 12-17 л. Формы их нестандартные, но шаровидность тулова, зауженность днищ, резкая отогнутость венчиков и орнаментальность стенок соответствуют традициям праболгар.
Тип III. Котлы с внутренними ушками, их в степном Подонцовье от 0,1 до 1,2%. Этнодискуссия о них длится более 50 лет. Находки котлов из наших поселений свидетельствуют о подтипности форм стенок и форм ушек. Фрагменты и развалы котлов идут в основном из слоев датируемых VIII — перв. четв. IX вв. и относятся к местному варианту их производства и применения.
Тип IV. Сковородки двух подтипов: лепные и подправленные на круге, но форма их почти одинаковая, диаметр 25-3 5см, высота 6-10см.
Тип V. Специальные жаровни для приготовления мяса и птицы. Они напоминают сковородки малых диаметров, но высота стенок до 20см.
2. Круговая кухонная керамика в слоях селищ IX — нач. Х вв., ее до 45% всей керамики и 90% в кухонной посуде. По размерам она классифицируется на три типа: малые, выс. до 15 см, средние до 25 см, высокие до 35 см; по формам на два основных подтипа, подтип А: горшки низкие, приземистые, шаровидные с широким дном и подтип Б: более стройные, удлиненные. Для каждого из подтипов характерна своя упрощенная (подтип А) и более совершенная, качественная (подтип Б) технология изготовления. Между ними прослеживается промежуточный вариант горшков: подтип В. В целом кухонная посуда из Подонцовья на 76 % с шаровидностью тулова, ее изготовляли в местных мастерских праболгарские мастера. На 18% всех донец переданы оттиски клейм относящиеся примерно к 8 типам. Среди них преобладают знаки, в основе которых круги, кресты, тамги.
Изделия специального назначения:
Тип I. Лепные светильники двух подтипов: подтип А, чашевидные (диаметром 9-12 см), низкие с ручками внутри и снаружи; подтип Б, высокие (14-15 см) на массивной ножке-подставке, диаметр чаши 12-13 см.
Тип II. Лепные опорные столбообразные, конусовидные пирамиды — подставки, применяемые в печах под противни, жаровни. В сечении [109] они двух подтипов: подтип А, круглые и подтип Б — квадратные. Высота их в среднем 15-20 см, основание 10-15 см, верх 6-8 см.
Тип III. Противни-крышки, массивные лепные овальные и круглые диски диаметром 35-40 см, толщ. до 5 см. Иногда по краю сделаны выступы — ручки. С наружной стороны противня-крышки множество глубоких вдавлин выполненных пальцем или круглой палочкой.
Тип IV. Корытообразные лепные жаровни для сушки зерна (более 40 экз.). Их устанавливали над печью, очагом. В зависимости от размеров и форм они различаются на два подтипа: подтип А, легкие переносные диаметром 50 см, высота борта 5-7 см; подтип Б, тяжелые переносные и вмонтированные в печи. Их диаметр 100-120 см, высота до 20 см. Преобладают жаровни подтипа Б (60 %), они свидетельствуют о развитом зернопроизводящем хозяйстве.
Перечень изделий из глины можно было бы продолжить, но они выходят за понятие керамики как посуды, или приспособлений быта. Основной серии посуды из степного Подонцовья свойственны одинаковые признаки характерные для изделий южных зон салтово-маяцкой культуры (Саркел, Таманское и Правобережное Цимлянское городища), но особенно она тяготеет к Карнауховскому керамическому комплексу.
Кухонная керамика из Подонцовья уже с VIII в., в основном лепная, изготовлялась праболгарами в виде горшков с шаровидным туловом, позднее, в IX в., они освоили круговую, либо подправленную на ручном круге, посуду, но ведущей формой по-прежнему оставалась шаровидность. Лишь во второй пол. IX века наблюдается развитие новых, более стройных форм.
Из всего комплекса находок связанных с керамическим делом следует, что степное Подонцовье не являлось глухой провинцией Хазарии, оно вполне прочно занимало свое место рядом с уже давно обозначенными экономически развитыми регионами хазарской периферии.
В 2000 г. экспедицией Донского археологического общества под руководством Цыбрия А.В. проводились раскопки кочевья салтово-маяцкой культуры «Большой Несветай II» у восточной окраины районного центра слободы Родионово-Несветайская Ростовской области.
Памятник занимает пологий, слабо расчлененный короткой и неглубокой балочкой участок первой надпойменной террасы левого [110] берега реки Большой Несветай. По обоим бортам балочки, в местах концентрации подъемного материала было заложено три раскопа общей площадью 190 м2 и шурф площадью 12 м2 в прибрежной части правого борта балочки. Раскопками были исследованы как участки с интенсивной распашкой (огороды), так и участки, где распашка не проводилась (лесополоса).
Для всех раскопов характерна очень слабая насыщенность культурного слоя, что обусловлено отнюдь не интенсивностью его разрушения, а отражает специфику хозяйственной деятельности поселенцев, кратковременный и эпизодический характер посещений этого места, что не способствовало формированию мощного культурного слоя.
Полученный в ходе раскопок и сборов материал типичен для памятников салтово-маяцкой культуры. Абсолютное большинство находок составляет керамика, в незначительном количестве представлены фрагменты костей. Амфорная красноглиняная керамика с примесью шамота в рыхлом тесте (12 ед.) и с примесью известковых включений в тонкоотмученном тесте (13 ед.). Ручка овальная в сечении, с продольным желобком у края, стенки с волнообразным профилем, узкой горизонтальной бороздкой или многорядным врезным линейным орнаментом. Гончарная столовая керамика представлена фрагментами сероглиняных кувшинов с примесью речного (3 ед.) или очень мелкого песка (4 ед.). Венчик высокий, слегка отогнутый наружу, верхний край закруглен. Один фрагмент стенки со следами лощения. Гончарная кухонная керамика с обильной примесью речного песка и мелкодробленого шамота (22 ед., 13 из них — от одного сосуда). Венчик отогнут наружу, верхний край закруглен, шейка ярко выражена. Стенки орнаментированы глубоким врезным многорядным линейным орнаментом. Лепная кухонная керамика по составу примесей довольно разнообразна. Встречаются фрагменты с примесью очень мелкого песка (25 ед., 10 из них — от одного сосуда), очень мелкого песка и мелких белесых включений (3 ед.), мелких известковых включений (2 ед.), мелкого скатанного песка (3 ед.), мелкодробленого шамота (1 ед.), органики (1 ед.), кварцевого песка (4 ед.), крупных известковых частиц (2 ед.) и без видимых примесей (3 ед.). Венчик слабо отогнут, верхний край заужен; высокий, отогнутый наружу с цепочкой пальцевых вдавлений по верхнему краю; высокий прямой с косыми насечками по верхнему краю. Стенки орнаментированы врезной горизонтальной волной. К индивидуальным находкам относятся фрагмент массивного глиняного пряслица грубой лепки и заготовка под пряслице из стенки сероглиняного лощеного кувшина. Бедность керамического комплекса кочевья «Большой Несветай II» не позволяет установить более точную датировку памятника, чем общие хронологические рамки существования салтово-маяцкой культуры — VIII—X вв. [111]
На раскопанной площади левого борта балочки и в шурфе по правому борту было исследовано 5 хозяйственных ям колоколовидной формы диаметром 1,1-1,7 м. Все ямы довольно слабо заглублены в материк и создается впечатление некоторой небрежности и некапитальности их сооружения. Ямы описанной формы на салтовских поселениях сооружались в качестве подземных зернохранилищ. Довольно часто зафиксированы случаи их вторичного использования в качестве мусорных. В нашем случае ямы вторично не использовались — они практически лишены находок, а там, где они есть, находки встречаются лишь в верхней части заполнения, что подтверждает тезис о кратковременности пребывания людей на этой территории. Исключение составляет яма в шурфе, где на дне был найден астрагал МРС и бронзовый втульчатый трехлопастной наконечник стрелы РЖВ (!?).
Аналогичный комплекс хозяйственных ям был исследован на территории грунтового могильника у п. Новодачное на Среднедонечье (Красильников К.И., Тельнова Л.И., 1997). Отсутствие поселенческого культурного слоя и малое количество находок в заполнении привело авторов к неверной, на наш взгляд, трактовке раскопанных ям как культовой ограды грунтового могильника.
Данные этнографии позволяют более точно определить хозяйственную специфику подобных памятников. Так, кочевники-тувинцы к. XIX — н. XX вв. недалеко от весенне-осенних стоянок устраивали небольшие пашни. Посещались они лишь несколько раз и не всем коллективом, а только мужчинами — для пахоты, сева, орошения и сбора урожая. Часть собранного урожая ссыпалась в ямы, устроенные в непосредственной близости от пашни, где и хранилась до следующей весны. Одна и та же пашня использовалась подряд на протяжении 2, реже — 3 лет. 5-6 лет пашня находилась под паром до следующего посева, но могла повторно и не использоваться (С.И. Вайнштейн, 1972) Такой тип хозяйства был остроумно и точно назван С.И. Вайнштейном «кочевым» земледелием. Материальная культура кочевье «Большой Несветай II» полностью соответствует этой системе.
Памятники со слабо насыщенным культурным слоем, расположенные на открытой местности по берегам рек, широко известны практически на всей территории распространения салтово-маяцкой культуры, но, главным образом, по материалам разведок. Исследователи по-разному трактуют хозяйственную специфику этих памятников. С.А. Плетнева видит в них места летней откочевки части оседлого населения, занимавшегося отгонным скотоводством (2000). К.И. Красильников относит подобные памятники Среднедонечья к недолговременным летним стойбищам, стадиально более ранним по отношению к оседлым поселениям (1981). Г.Е. Афанасьев трактует аналогичные памятники Среднего Дона как остатки временных приречных пастушеских стоянок, связанных с близлежащими долговременными поселениями, оседлому [112] населению которых принадлежал выпасаемый на пойменных лугах скот (1993). П.А. Ларенок отмечал, что в салтовское время на Нижнем Дону господствовало полукочевое хозяйство. Циклические перекочевки совершались между весенне-летними стойбищами на побережье Азовского моря и зимниками в верховьях рек. На водоразделах устраивались отгонные пастбища (1998).
Кочевье «Большой Несветай II» дополняет эту картину и позволяет говорить о выделении среди салтовских кочевий Нижнего Дона новой группы памятников — памятников «кочевого земледелия». Основными признаками данной группы являются: 1) расположение на открытой, пригодной как для земледелия, так и скотоводства местности, 2) маломощный культурный слой, 3) наличие зерновых ям без признаков вторичного их использования.
В своем движении на запад древние венгры на некоторое время останавливались в Леведии, располагавшейся, как предполагает ряд исследователей, в лесостепной части бассейна Среднего Дона (Халикова Е.А., 1981), где они жили вместе с хазарами, участвуя в качестве их союзников во всех войнах (Константин Багрянородный, гл. 38). Именно на этой территории венгры впервые вступили в контакт со славянскими племенами (Москаленко А.И., 1972). Здесь же венграми было заимствованно значительное количество тюркских и аланских слов (Эрдели И., 1984). Однако определение собственно древневенгерских памятников как в Подонье, так и на всей территории от Южного Приуралья и Среднего Поволжья (MAGNA HUNGARIA) до Паннонии в целом связано с огромными трудностями. В настоящее время на территории между Доном и Дунаем известен ряд погребений, связываемый с венграми: Воробьево Воронежской обл. (Эрдели И., 1984), Твердохлебы Полтавской обл. (Приймак В.В., Супруненко А.В., 1994), Манвеловка и Коробочкино Днепропетровской обл. (Чурилова Л.Н., 1986, Чурилова Л.Н., 1990), могильник у с. Субботицы Кировоградской обл. (Бокий Н.М., Плетнева С.А., 1988). Эти погребения являются своеобразными маркерами маршрута движения венгров в Паннонию и их пребывания, в Ателькузе (Манвеловка, Коробочкино, Субботицы). Памятники, которые можно было бы отнести ко времени проживания венгров в Леведии, пока не известны. Это, вероятно, можно объяснить тем, что, находясь в роли союзников хазар, венгры оказались под [113] влиянием салтовской моды. И таким образом они как бы растворились среди подданных Хазарского каганата.
Однако элементы культуры древних венгров нашли отражение в материальной культуре народов входивших в состав каганата, в том числе и в культуре аланского населения бассейна Северского Донца. Так, в катакомбе № 5 Верхнесалтовского IV катакомбного могильника (Бородулин В.Г., 1990) был обнаружен поясной набор, состоящий из пряжки, 22 серебряных штампованных бляшек салтовского типа и одного серебряного штампованного наконечника. Наконечник пояса размером 3,0*1,5 см украшен по края выпуклым бордюром, состоящим из чередующихся овальных и круглых звеньев. Такой бордюр является отличительной чертой венгерских поясных наборов. К тому же в поле наконечника находилось выпуклое изображение сидящего грифона. Данный наконечник является полной аналогией лицевой стороне литого серебряного наконечника из погр. № 23 Больше-Тиганского могильника (Халикова Е.А., 1976). В катакомбе № 56 того же могильника найден серебряный штампованный наконечник пояса размером 2,8*1,8 см украшенный по краю типичным для венгерских поясов бордюром из чередующихся круглых и овальных звеньев, хотя поле наконечника было орнаментировано растительным орнаментом классического салтовского типа. Из этой катакомбы происходит второй поясной набор, в составе которого находилась литая серебряная рамчатая поясная бляшка салтовского типа, украшенная по краю орнаментом в типично венгерском стиле.
Бордюром в виде цепочки из круглых звеньев, как это имело место на некоторых поясных бляшках из погребений Больше-Тарханского могильника, были орнаментированы и серебряные штампованные бляшки из катакомбы № 40 Верхнесалтовского I (основного) могильника. Поле данных бляшек было украшено изображением сидящего по-восточному человека (Аксенов В. С, 2000), которое находит близкие аналогии в изображениях людей с бляшек и пряжки поясного набора из венгерского погребения у с. Субботицы (Бокий Н.М., Плетнева С.А., 1988). Таким образом, можно предположить, что в результате контактов с венграми, для которых характерны литые серебряные элементы поясной гарнитуры, у социальной верхушки аланского населения Северского Донца с 20-30 гг. IX в. входят в моду серебряные штампованные поясные наборы. В то же время основу салтовских поясных наборов продолжают составлять исключительно бронзовые литые поясные пряжки, бляшки и наконечники.
Консерватизм погребального обряда позволяет нам выделить если не собственно погребения венгров на грунтовых могильниках Подонцовья, то хотя бы указать на те захоронения, в которых отмечены элементы венгерского, более широко — угорского, погребального обряда. Наиболее близко, по погребальной обрядности, к захоронениям венгров [114] стоит погр. № 37 могильника у с. Лиманское Озеро (Татаринов С.И., 1987). Оно характеризуется западной ориентировкой погребенного, присутствием в головах человека остатков жертвенной пищи в виде кости лошади и одноручного кувшина, наличием у левой ноги человека в подбое стремян, сбруйных пряжек, оковок седла, украшений ремней сбруи, а также черепа коня, ориентированного резцовой частью на запад, двух передних ног коня, отрубленных ниже колен. Череп и кости ног коня встречены в захоронениях и других могильников бассейна Северского Донца — Волоконово озеро I (Татаринов С.И., Копыл А.Г., Шамрай А.В., 1986), Дроновка III (Татаринов С.И., Копыл А.Г., 1981).
Интересен в этом плане грунтовой Нетайловский могильник, расположенный на противоположном берегу р. Северский Донец, напротив Верхнесалтовского археологического комплекса. На могильнике обнаружено 10 захоронений, в которых целый костяк коня, череп и кости ног коня вместе со сбруей или только конское снаряжение были помещены в специальные ниши-подбои, сделанные в коротких стенках могильных ям. Такие ниши-подбои, с помещеными в них свернутой шкурой коня, конским снаряжением, изредка встречаются на могильниках Среднего Поволжья. Подбои и восточная ориентировка погребенных, характерные для захоронений Нетайловского могильника, приписываются древним венграм (Танкеевский могильник). Сближает Нетайловский могильник с некрополями древних венгров и расположение погребений рядами, тогда как данная черта погребального обряда не характерна для болгарских могильников салтово-маяцкой культуры. Влияние на население, которое оставило этот могильник, аланс-кого погребального обряда нашло отражение в появлении у него погребений с помещенным в нишу-подбой вместо свернутой шкуры коня целой конской туши (погр. № 23, 53, 127).
Все это позволяет предположить, что лесостепные районы бассейна Северского Донца были частью летописной Леведии венгров, и именно здесь контакты венгров с носителями салтово-маяцкой культуры были наиболее тесными.
Отражением многовековых взаимоотношений Киевской Руси и средневековой Алании служат многочисленные древнерусские предметы, найденные на территории Северного Кавказа. [115]
В последние годы на Развальском городище (север Пятигорья, Центральное Предкавказье) обнаружено несколько десятков древнерусских предметов XI—XIII вв., произведенных русскими ремесленниками. В том числе две половинки от крестов-складней.
Лицевая створка бронзового четырехконечного креста-складня с округлыми концами. Закругленные концы снабжены двумя выступа ми. Створка скреплялась с другой при помощи петелек и заклепок. Размер предмета 6,2 см. * 4 см., высота без выступов-петелек 4,9 см. Центральную часть занимает рельефное изображение распятого Христа. Крестное древо не выделено, заметны подножие и табличка над головой. Мелкие детали рельефа дополнительно проработаны резцом. В боковых долях поперечной перекладины — погрудные фигуры святых, лики крайне схематичны. В верхней доле четырёхконечный крест с надписью IС ХС. Крест, надпись и боковые изображения нанесены на плоской поверхности резцом. Хорошо заметно чернение серебром.
Лицевая створка бронзового креста-складня. Данная половинка была отлита в одной и той же форме с описанным ранее. Изделие сильно потерто. Нижняя петелька крепления отломана в древности. Сохранились следы чернения серебром.
Подобные Развальским рельефно-черневые кресты-энколпионы происходят из предмонгольских слоев древнерусских городов (2-я пол. XII — начало XIII в.). В частности такой же складень был найден в мастерской литейщика в Киеве (раскопки 1948 года), разрушенной при взятии города татаро-монголами.
Время и обстоятельства появления крестов складней на аланском городище на горе Развалка лежат в поле давней дискуссии археологов. Учёные связывают появление русских христианских предметов либо с политико-экономическими отношениями Руси и Алании до монгольского нашествия, либо (часто не исключая первое с русскими пленниками татаро-монгол, принесших с собой в кочевья степных разбойников дорогие им предметы.
С принятием христианства в X веке в Алании естественно возник спрос на предметы христианского культа. В X—XI вв. ввозились почти исключительно изделия византийского производства (в частности сиро-палестинские энколпионы). В XI—XII вв. на Руси был налажен широкий выпуск изящных предметов мелкой христианской пластики, к XII в. ставших одним из объектов торговых операций купцов Руси и Алании. Это подтверждается находкой двух одинаковых крестов-складней Киевской школы, попавших на Северный Кавказ в составе партии ремесленных изделий, вывозимых из южных пределов Киевской Руси. [116]
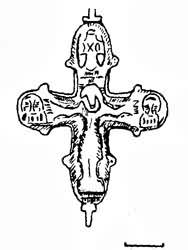
Рис. 1.
Первый раз касоги упомянуты в летописи под 965 годом, в связи с походом князя Святослава Игоревича на хазар (ПСЛ). Под 1022 годом летопись сообщает, что, тмутороканский князь Мстислав Владимирович победил в единоборстве касожского князя Редедю и подчинил себе этот народ. В ледующем, 1023 году касоги упомянуты в войске Мстислава, выступившего против старшего брата князя Ярослава Владимировича (Там же). А под 1066 годом помещено известие о сборе дани с касогов князем Ростиславом (Там же). Касоги русских летописей предстают достаточно сплоченным и воинственным народом, но, вероятно, не многочисленным. Они подчиняются одному князю и проживают недалеко от Таманского полуострова. Дополнительные сведения об этом народе можно найти в иноязычных сочинениях.
Первое упоминание о касогах принадлежит перу арабо-персидского автора Масуди, который в своем историко-географическом труде Мурудж-ад-Дзахаб («Россыпи золота») отметил: «За царством аланов находится народ называемый кашак и живущий между горой Кабх и Румским морем». (Минорский В.Ф., 1963). Кашаки по Масуди прекрасны [117] наружностью, имеют развитые ремесла и торговлю, но у них нет единства, а от набегов алан их спасают крепости на морском берегу. Автор называет их прибрежной нацией и отмечает их многочисленность (Там же). Масуди использовал более ранние источники и сам указал в тексте, что его труд завершен в 943 г. (Там же).
Автор трактата «Об управлении империей» византийский император Константин знает страну Касахию на Северо-Западном Кавказе, и помещает ее между Зихией и Аланией (Константин Багрянородный, 1989). Багрянородному известно о набегах алан, но страдают от них, по его сведениям, зихи, а касахов он никак не характеризует (Там же). Труд императора составлен около 950 г., но опирается на сведения более раннего времени, вероятно 30-х годов X века (Гадло А.В., 1994).
В письме хазарского царя Иосифа к кордовскому вельможе Хасдаю ибн-Шафруту, где сообщаются сведения о Хазарии, среди перечня народов платящих дань хазарам упоминаются «...все живущие в стране Каса...» (Коковцев П.К., 1932). Судя по контексту, страна эта помещается рядом с аланами и Абхазией, то есть на Северо-Западном Кавказе. Основное ядро письма относится к 60-м годам X века (Там же).
Анонимный автор конца X века, среди прочего, пишет о богатом купеческом городе Касек, расположенном на берегу Черного моря в стране алан (Худуд ал-Алем. 1930).
В научной литературе встречаются ссылки на более раннее упоминание касогов в армянских, византийских и грузинских сочинениях, но эти сведения не выдерживают критики. Например, косогдиане монаха Епифания писавшего в конце VIII — начале IX веков появились в результате ошибки переписчика, о чем есть информация у исследователя этого текста (Васильевский В.Г. 1909).
В науке сложилось прочное мнение, что касоги/касахи/кашаки, упоминаемые в письменных источниках X века и позднее, вместе с родственными им зихами, являлись предками современных адыгов (См. Лавров Л.И., 1955; Волкова Н.Г., 1973; Алексеева Е.П., 1992; Гадло А.В., 1994). Эти выводы сделаны преимущественно на ономастическом материале. До настоящего времени осетины называют кабардинцев — кесег/кесгон; близко ему сванское название адыгов и т.д. (Волкова Н.Г., 1973). Только у самих адыгов не сохранилось подобного самоназвания. Возможно, отголосок забытого этнонима сохранила одна родословная книга, использованная для написания «Истории адыгейского народа», в которой сообщается о прадеде знаменитого князя Инала, носившего имя Кес (Ногмов Ш.Б. 1982).
Попытки локализовать Касахию предпринимали многие исследователи. Как правило, они опирались на сведения Масуди и Константина Багрянородного, как наиболее информативные и достоверные. По Е.П. Алексеевой Касахия охватывала северные склоны кавказского хребта от бассейна Малой Лабы до предгорий Западного Закубанья [118] (Алексеева Е.П., 1954). По Л.И. Лаврову касоги занимали все пространство от реки Лабы до берегов Черного моря (Лавров Л.И., 1955). Иначе определил границы Касахии Н.Г. Ловпаче, локализовав касогов в верховьях Лабы и Белой (Ловпаче Н.Г., 1978).
Наибольший интерес представляет рабта В.Н. Каминского, который посвятил этнической карте Северо-западного Кавказа отдельную статью (Каминский В.Н., 1993). Его работа основана на детальном анализе письменных источников, данных географии и топонимики. По В.Н. Каминскому зихи занимали Черноморское побережье от п. Новомихайловского до старого русла Кубани; область Папагия с нефтяными источниками соответствует территории современного Крымского района; Касахия занимала территорию к востоку от Папагии вплоть до реки Псекупс, а восточнее простиралась Алания (Каминский В.Н., 1993). Таким образом исследователь локализовал касогов в Западном Закубанье и в примыкающих к нему с востока районах Центрального Закубанья. Проверим как эта, наиболее аргументированная локализация касогов согласуется с археологическими памятниками региона.
Но сначала вернемся к письменным источникам. Масуди среди прочего сообщает, кашаки исповедывают религию магов (Минорский В.Ф., 1963). В.Ф. Минорский, комментируя эту фразу, писал, что мусульманские авторы называли огнепоклонниками русов и норманов, неправильно истолковывая их обычаи сжигать мертвых. И далее замечает: «Я не мог выяснить, существовали ли подобные обычаи у черкесов, среди которых ко времени Масуди были и христиане» (Минорский В.Ф., 1963).
Сегодня мы можем ответить на вопрос, поставленный В.Ф. Минорским, положительно. На анапско-геленджикском побережье, в Западном Закубанье и в западных районах Центрального Закубанья вплоть до устья реки Псекупс выявлено более 17 могильников второй половины VIII — IX веков, где сожженых на стороне умерших хоронили в небольших ямах в урнах или без них (Пьянков А.В., Тарабанов В.А., 1998). Эти могильники занимают компактную территорию: северной границей служила река Кубань, южной — северные склоны Кавказского хребта, западной — берег Черного моря, а восточной — река Псекупс. Погребения этого обряда получили в научной литературе название: сожжения (или кремации) типа Дюрсо (Дмитриев А.В., 1979). Вероятно, именно эти могильники были оставлены касогами/касахами/кашаками письменных источников.
На первый взгляд заметно противоречие ареала кремационных могильников типа Дюрсо с локализацией касогов предложенной В.Н. Каминским, поскольку западные границы его Касахии не соответствуют западной границе распространения кремационных могильников. Но это противоречие устроняется, если предположить, что в первой половине X века территория касогов сократилась на западе из-за [119] передвижений зихских племен из более южных районов на север, вплоть до старого русла Кубани, где-то в конце IX — в начале X веков, после чего они заняли не только морское побережье, но и отстоящую далеко от берега Папагию. Это предположение вполне согласуется с сообщением Константина Багрянородного о расселении зихов и касогов. Последние должны были первыми испытать на себе силу аланских набегов, которые привели к ослаблению касогов и к сокращению их численности (Пьянков А.В., 1994). Могильников с кремационными погребениями X века известно немного (Бугайский бугор, Казазово 2, Псекупский и др), но к концу века сожжения начинают распространяться за пределы Касахии Багрянородного на запад, восток и даже на северный берег реки Кубань.
Сожжения типа Дюрсо по материальному облику принадлежат к салтово-маяцкой археологической культуре (культуре Хазарского каганата), и находят многочисленные аналогии погребальному обряду и инвентарю в материалах синхронных им могильников бассейна Северского Донца (кремации типа Новопокровки) (Пьянков А.В., Тарабанов В.А., 1998). Кремации типа Дюрсо не имеют корней да Северо-Западном Кавказе в предшествующий период и не могут быть признаны автохтонным кавказским народом (Дмитриев А.В., 1978). Очевидно, носители кремаций этого типа, как на Кубани так и на Северском Донце связаны со степными культурами и имеют тюркское или угорское происхождение. Вероятно, обе группы были частью одного этноса и носили общее для них имя — касоги/касахи/кашаки. В дальнейшем автохтоны зихи интегрируются с пришельцами касогами и постепенно ассимилируют их.
Эта гипотеза позволяет по-новому взглянуть на этнические процессы происходившие на Северо-Западном Кавказе в прошлом. В частности, следует поставить на повестку дня вопрос о значительном участии степных народов Хазарии в этногенезе современных адыгов.
В мае 1999 г. автором данной статьи было осмотрено и зарисовано каменное изваяние, находящееся во дворе средней школы п. Радуга Новоалександровского района (северо-запад Ставропольского края — граница с Краснодарским краем).
По словам местных жителей плита была обнаружена в начале 80-х годов в 3 км. севернее населенного пункта на территории сельского аэродрома, предположительно, на распаханном кургане. Поселок расположен на водоразделе рек Чолбас и Калалы — левого притока реки [120] Расшеватки, видимо, с этим обстоятельством связано скопление в данном районе групп курганов (в основном распаханных).
Стелловидное изваяние подпрямоугольной формы сделано из серого песчаника и изображает сидящую женщину. Размеры без отбитой головы. 1,76*0,71. На груди и по шее изображены две гривны (гладкие?). Плечо и верхняя часть правой руки отбиты. Нижняя часть правой руки частично сколота. Руки согнуты в локтях. Кисти рук с обшлагами или браслетами и четко выделенными большими пальцами соединены на прямоугольно-баночном сосуде с узким венчиком.
На нижней части живота (выше сосуда) выбита линия, возможно, обозначающая край пояса. Ноги хорошей сохранности перечеркивает выделенная линия, видимо, изображающая край одежды. На левом бедре помещено изображение предмета неясного назначения.
Подножка под ступнями отсутствует — пьедестал ниже ног плоский и ровный (Рис. 1).
Открытие половецкой статуи на Северо-Западе Ставропольского края не единственный случай находок в данном регионе подобных изваяний. На археологической карте Кубанской области, составленной Е.Д. Фелициным в 1882 г., на небольшой части Ставрополья, входившей тогда в Кубанскую область, указано тринадцать каменных баб. Из них три отмечены в районах, прилегающих к бассейнам рек Чолбас и Калалы: к северо-востоку от поселка Новопокровского; по правую сторону р. Калалы на северо-запад от станицы Ново-Александровской; у истоков р. Расшеватки, на юго-восток от станицы Ново-Александровской. Кроме отмеченных, ряд половецких изваяний был обнаружен в районе Большого Егорлыка (Минаева Т.М., 1964).
Изображение деталей костюма на стелле из п. Радуга имеет многочисленные аналогии на типологически близких статуях из других регионов половецкой степи. В частности подобные изваяния происходят из окрестностей хут. Горькая Балка в 18 км. от Армавира (собрание Армавирского краеведческого музея) (Навротский Н.И., 1995). По мнению С.А. Плетневой, большое количество стелловидных и полустелловидных статуй в коллекции из района Горькой речки свидетельствует о том, что, в целом, она может быть датирована концом XII — первым десятилетием XIII вв. (Плетнева С.А., 1995). Скорее всего, стелловидное изваяние из п. Радуга следует датировать также второй половиной XII — началом XIII вв.
По наблюдениям Т.М. Минаевой, наибольшее количество каменных баб найдено по рекам и речкам степного Ставрополья, по восточной части Краснодарского края, по юго-восточным районам Ростовской области. Территория северокавказской степи между Кубанью и Манычем, прорезанная реками Кумой, Калаусом, Большим и Малым Егорлыком, по её мнению, являлась областью основного расселения северокавказских половцев (Минаева Т.М., 1964). [121]
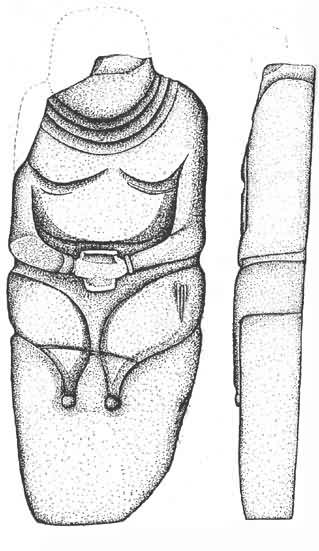
Рис. 1. [122]
«То, что в долине утеряно, отыщется в горах».
Акакий Церетели
После публикации зооморфного украшения (Голованова С.А., 1996) из полуподземного Шуанского склепа «Мохде» в горной Ингушетии, мы посчитали целесообразным вернуться к этой же находке (публикация находится в печати).
Подготавливая ее к переизданию, мы подчеркивали то, что близкие аналогии этому предмету можно было привести в виде литейной формы из Белой Вежи, опубликованной М.И. Артамоновым (Артамонов М.И., 1958). Отталкиваясь от этого сопоставления и учитывая существующие различия в декоре сравниваемых между собой предметов, мы не исключали того, что горноингушское украшение — более поздний дериват беловежских украшений, оказавшийся на Северном Кавказе вместе с русскими пленниками Золотой Орды, перемещенными сюда с территории Подонья. Параллельно эта постановка вопроса демонстрировала и значительную роль Верхнего Джулата на Тереке, как своего рода промежуточного пункта, откуда периодически происходила инфильтрация русских (впрочем, не только их) обитателей джучидского государства в соседние горы современной Ингушетии.
Развивая эту мысль, укажем еще на один предмет, отмеченный в том же склепе из Шуана, где находилась и отмечавшаяся зооморфная привеска. Речь идет о бронзовом «идоле», выполненном из листовой бронзы, с внутренней стороны которого при помощи выколотки были проработаны антропологические черты, нагрудные бляхи и детали одеяния. Позднее лист был свернут в конусообразный предмет, с нижней части закрытый «крышкой», а сверху — с петлей для подвешивания (рис. 1, 1). Для атрибуции этого предмета следует учесть и одну из половецких круглых скульптур, в 2000 году опубликованную К.И. Красильниковым и Л.И. Тельновой (Красильников К.И., Тельнова Л.И., 2000) (Подонье, Луганская область). При разнице в размерах и явном «кавказском» оформлении идола из Шуана, а также прочих отличительных чертах, заметно бросается в глаза и наличие сходных признаков. Последние, как представляется, дают некоторые основания для того, чтобы «идола» из Ингушетии рассматривать как кавказский вариант половецкого изваяния, являвшегося, как принято это считать, символом половецкого первопредка. Тогда «идол» из Ингушетии заманчиво [123] расценивался как «божество», появившееся в горах Северного Кавказа вместе с другими выходцами с Дона, до переселения сюда имевшими русско-половецкий генезис. Такое предположение, если учитывать специфику конфессиональной обстановки в горной зоне Северного Кавказа, а также и характеристику языческого пантеона божеств средневековых ингушей (Крупнов Е.И., 1970; Бараниченко Н.Н., 1987) кажется нам реальным, вследствие чего можно предполагать, что шуанский «идол» — это родовое или даже семейное божество.
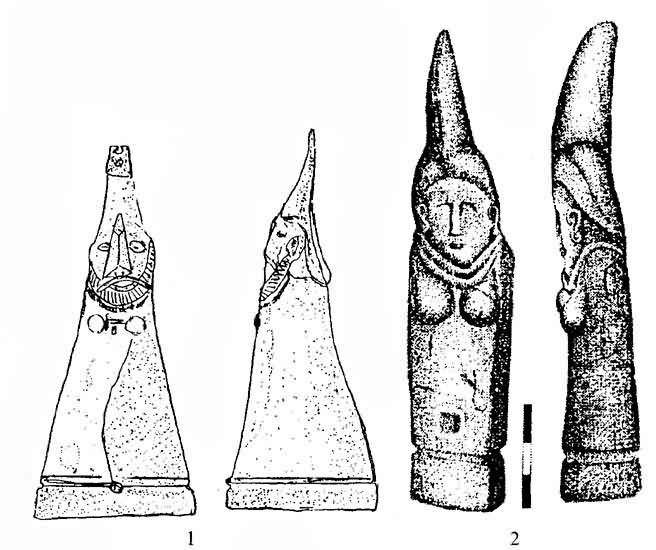
Рис. 1. Бронзовый "идол" из Шуанского склепа и каменное изваяние из Луганской области. 1 — бронза, 2- камень.
Любопытно и то, что наряду с зооморфной привеской «идолом» в склепе обнаружены и две иконки южнорусского и новгородского происхождения, спецификой которых являлось то, что на них воспроизведены лишь оборотные стороны оригиналов из Руси. Из шести погребенных четыре имели по одному русскому предмету. Возможно, это простая случайность, хотя подобная концентрация древнерусских предметов [124] может быть и иной. В связи с ними невольно вспоминается серия ингушских исторических преданий, сохранявших память о горско-русских этногенетических отношениях. Несмотря на бытующую точку зрения, по которой предания датируются временем появления на Тереке казаков (Дахкильгов И.А., 1978). Но аналогичные свидетельства из Ичкерии (Юго-восточная Чечня), записанные еще А. Берже, относят процессы инфильтрации русских в горные районы «с Терека, где они жили с монголами» (Берже А., 1889). Последнее может оказаться своего рода иллюстрацией к отмеченным материалам из Шуанского склепа.
Суммируя сказанное, мы не отрицаем той возможности, что отмеченный склеп в горах Ингушетии мог бы быть погребальной усыпальницей одного из ингушских родов (семей), которые в XIV в. имели тесные, в том числе и брачного характера, отношения с русскими выходцами с золотоордынской равнины. А это — еще один штрих к проблеме выявления самых ранних пластов в истории зарождения терско-гребенского казачества, одновременно открывающий и перспективу для объяснений столь присущих для казаков черт горского и тюркского происхождения.
Местоположение золотоордынского города Бездеж, известного по русским летописям и Житию великого князя Михаила Тверского, составленному в 20-е годы XIV века, до сих пор вызывает споры. Еще в конце XIX в. П.Н. Милюков, исходя из фонетической близости названий Бездеж и Бештау, предлагал искать этот город на Северном Кавказе в районе Пятигорья, где имелись следы золотоордынских поселений. Однако Д.Ф. Кобеко, на основе анализа летописных сообщений, аргументировано отверг это предположение, предложив искать Бездеж на правом берегу Волги, севернее Сарая ал-Джедид.
Д.Ф. Кобеко считал, что русское название Бездеж является искаженным названием города, известным у восточных авторов как Бельджамен. Золотоордынский город Бельджамен на основании письменных и археологических данных современными исследователями локализуется в 2 км севернее районного центра Дубровки Волгоградской области и связывается с Водянским городищем. Однако бесспорных доказательств для полного и окончательного отождествления пока нет. Как отмечают исследователи, предположения по вопросу отождествления этого памятника с городом Бельджаменом (Бездеж) все-таки остаются гипотетическими, так как безусловных доказательств этой гипотезы [125] археологические исследования не дали, а письменные свидетельств очень скупы и неопределенны, чтобы служить бесспорной основой для уточнения географического положения этого города.
Если все же предположить, что Бездеж и Бельджамен один и тот же город, то именно через него шла дорога с Кавказа через низовья Волги на север, в русские княжества, именно через этот город на правобережье Волги можно было попасть в оба Сарая и места ханских кочевий в Предкавказье. Поэтому не случайно путь на родину убитого в Орде, близ «ясского города Тютякова», князя Михаила Тверского пролегал через Бездеж. Бездеж всегда упоминается в ряду татарских городов, расположенных в низовьях Волги, когда сообщается о «моровых поветриях», при этом города обычно перечисляются с юга на север: Орначь, Сарай, Бездеж, или Орначь, Хазьторокань, Сарай, Бездеж.
В ходе археологических исследований на Водянском городище был открыт русский квартал, что также дало дополнительные основания предполагать, что Бельджамен и есть Бездеж, поскольку при встрече печального кортежа с телом Михаила Тверского, у саней с гробом собрались православные, русские, как полагал В.Н.Татищев. Исходя из этого, В.Л. Егоров и М.Д. Полубояринова считают, что тверского князя повезли по самому короткому пути на Русь — из Маджар, междуречьем Дона и Волги прямо к Переволоке, где находился Бездеж, поэтому, по их предположению, «скорее всего именно Бельджамен русские называли Бездежем».
По мнению Г.А. Федорова-Давыдова, Бездеж русских летописей может быть сопоставлен с Барджином или Базджином, в котором чеканили монеты в 1350-е гг., однако настаивать на этом нельзя, поскольку Бархин/Барджин скорее всего локализуется по одному из рукавов Сырдарьи, а поэтому не может находиться в Нижнем Поволжье.
Таким образом, Бархин/Барджин не мог быть Бельджаменом, но сопоставимы ли Бельджамен и Бездеж?
Думается, что в этих поисках неоправданно забытой оказалась версия Н.М. Карамзина, высказанная им в «Истории государства Российского» и предложившего искать Бездеж на правом берегу Волги в Енотаевском уезде Астраханской губернии в окрестностях села Везелево, которое им названо Везедово. Тем не менее, в XIX в. русские историки или отмечали, что положение летописного Бездежа неизвестно, или воздерживались от уточнения местоположения города, предполагая, что и само название в летописях искажено.
Однако русские политики, ездившие в Орду и не раз посещавшие Бездеж, а за ними и русские летописцы, были точны в названиях: «Бездеж» практически употребляется в текстах безошибочно не только в связи с трагической гибелью Михаила Таерского в 1319 г., но и более поздними событиями. В сообщении о чуме, пришедшей на Русь в 1346 г. пишется: «бысть казнь от Бога на люди над восточною страною, в Орде, [126] и Орнате и Сарае и Бездеже». В 1346 г. Всеволод Александрович, князь Холмский, возвращаясь из Орды в Тверь, встретился в Бездеже с едущим в Орду дядей своим, князем Кашинским, Василием Михайловичем. Как видно, маршрут на Москву и Тверь пролегал через Бездеж, где, вероятно, останавливались на постой после длительного перехода. В 1361 г. ордынский хан Тогай «иже от Бездежа» овладел Мордовскою землей, а в 1364 г. чума еще раз была занесена из Бездежа в Нижний Новгород. Сухопутный путь — Большой почтовый Московский тракт — еще в XIX в. пролегал через Енотаевск и тянулся по правому берегу Волги на север.
Пока можно предполагать, а после дополнительных археологических и топонимических разысканий говорить более определенно, о соответствии Бездежа городищу Енотаевскому, расположенному между поселками Енотаевка и Сероглазовка Астраханской области. Первоначально этот город мог представлять собой административный центр улуса сына Бату — Сартака. Симпатии Сартака несторианам и христианам хорошо известны. Г. Рубрук, посетивший в 1254 г. Сарай, писал, что Сартак строит большую церковь в новом поселке на правом берегу Волги. Г.А. Федоров-Давыдов отмечает, что археологически этот поселок не обнаружен. Наличие христианского населения в Бездеже позволило некоторым исследователям говорить о нем как о «ясском городе», хотя веских оснований для этого не имеется, поскольку христианское население в Золотой Орде было представлено не только аланами-ясами. К тому же Ибн-Баттута, посетивший Сарай в 1333 г., как раз отмечает, что населявшие его асы были мусульманами, а христианства придерживались кыпчаки, черкесы, русские и византийцы. Религиозная ориентация этнических групп населения золотоордынских городов не всегда была однозначной, особенно после начала официального распространения ислама.
В Бездеже, или около него, вероятно, была переправа в Сарай, потому он часто упоминается в паре с названием ордынской столицы и расположенным в дельте Волги по правому берегу Хаджи-Тарханом. К Бездежу тяготеет и Орначь, локализация которого также проблематична.
Против идентификации Бельджамена и Бездежа есть аргументы, связанные с этимологией этих ойконимов. Бельджамен в переводе означает «дубовый город» или «город дубов». Возможно, перевод этого названия сохранился за названием селения Дубовка, появившимся близ Водянского городища в XVII в. Эта ойконимическая традиция не прослеживается в названии Бездеж. Вряд ли название Бельджамен могло быть настолько сильно искажено в летописях. Напротив, название «Без-Деж» поддается ясной этимологизации на основе тюркских и иранских языков. В первой части топонима формант Без- происходит от тюрк. беш «пять», а второй слог можно рассматривать как тюрк. диза — [127] «крепость», «укрепление на холме», «вершина горы». Эта лексема присутствует в азер. и перс. в форме диз, дез, дуз; в современном тадж. и перс. ди — «деревня», «кишлак». В свою очередь тюрк. дез восходит к др.-иран. diza — укрепленное место», «крепость»; ср. авест. daez — «складывать в кучи (землю, камни) и др.-перс. dida — «укрепленное место», «замок», «крепость».
Все это позволяет переводить название Бездеж как «пять крепостей» или «пять кварталов (кишлаков)». Нельзя исключить, судя по этимологии названия, присутствия здесь ираноязычного населения. Возможно название Бездеж фиксирует топографическую структуру поселения, состоявшего из пяти частей (поквартальное разделение могло отражат ь этноконфессиональную или социальную структуру города), что в целом было довольно типично для золотоордынского урбанизма.
В средневековой истории адыгов, несмотря на её длительное изучение, существует ещё не мало пробелов и неудовлетворительно разработанных проблем. Одной из таких проблем нам представляется проблема исторического существования феодального владения Кремух (Кремук), фиксируемого в XIV—XV вв., но не получившего отражения и попыток интерпретации в таких обобщающих трудах, как «Общественный строй адыгских народов» В.К. Гарданова (1967), коллективные «Очерки народов Адыгеи» (1957) и «История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в.» (1988). Адыгское княжество Кремух выпало из поля зрения кабардинских историков Б. Мальбахова и А. Эльмесова в их книге «Средневековая Кабарда» (1994). Область Кремух упоминает в своем исследовании «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа» (1973) Н.Г. Волкова, но население этой области она считает ногайским, а не адыгским.
Наиболее подробные и достоверные сведения о Кремухе содержаться у венецианского автора, купца Иосафата Барбаро, жившего в венецианской колонии при устье Дона — Тане — в 1436—1452 гг. По И. Барбаро, область кремух находится в трех днях пути от Таны в глубь Северного Кавказа, правитель её носит имя Биберди, что значит «Богом данный», и он является сыном Кертибея. «Под его властью — пишет И. Барбаро — много селений, которые по мере надобности могут поставить две тысячи конников. Там прекрасные степи, много хороших [128] лесов, много рек... Хлеба в той стране много, а также мяса и мёда, но нет вина».
Во второй половине XV в. область Кремух упоминает генуэзец Джорджио Интериано, лично побывавший в Черкесии: «Самое большое и лучшее поселение — сообщает Интериано — это небольшая долина в глубине страны, называемая Кромук, имеющая лучшее местоположение и более других населенное». Как видно, оба автора дают очень сходную характеристику, как местоположения области Кремух, так и её природным условиям.
3. В своих комментариях к переводу И. Барбаро Е.Ч. Скржинская отмечает, что область Кремух находилась на Кубани, там «где ныне живут адыгейцы» — в округе нынешнего г. Майкопа. Данная локализация подтверждается неизвестной Е.Ч. Скржинской картой России Я. Гастальдо 1548 г., где Кремух помещен в среднем течении Кубани и именно в районе Майкопа. Мы принимаем эту локализацию области Кремух.
4. Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым отметить, что территориально и хронологически область Кремух полностью совмещается с широко известным в археологии Кавказа Белореченским курганным адыгским могильником XIV—XV вв. у г. Белореченск северо-западнее Майкопа. Могильник исследован 1896—1907 гг. Н.И. Веселовским и опубликован В.П. Левашовой в 1953 г., приписавшей курганы черкескому племени абадзехов.
5. Белореченский могильник дал богатую и разнообразную материальную культуру, в том числе импорты — например, ткани иранские, китайские, венецианские, стеклянную посуду венецианскую и сирийскую и т.д. Исследование художетвенного металла из курганов, выполненное М.Г. Крамаровским, показало направление влияний — латинское, малоазийское, греческое, — шедших на Северо-западный Кавказ через Каффу и Тану на Тамань и далее вглубь Кавказа. Наличие многочисленных дорогостоящих импортов подтверждает отмеченное Барбаро и Интериано богатство области Кремух и существование в ней рынка, связанного с итальянскими торговыми факториями в Северо-Восточном Причерноморье. Видимо, через Кремух проходил и генуэзский путь от Тамани-Матреги и Копарио на восток Кавказа вплоть до Дагестана. Благодаря этим причинам указанные импорты и осели в адыгских курганах Белореченска.
6. Белореченские курганы необходимо рассматривать в комплексе с Белореченской церковью, открытой в 1869 г. у г. Белореченск. Сама церковь осталась не опубликованной, её архитектура неизвестной, что порождает ряд неясностей. Но внутри церкви обнаружено богатое захоронение с золотыми и серебряными украшениями и золотой парчой. Близ склепа был найден камень с надписью, содержащей имя Георгия Пиуперти — владетеля Минилии. Видимо, речь идет об эпитафии, стоявшей [129] над склепом. По описанию инвентаря погребение может быть датировано XV в.
7. Совмещение письменных данных XV в. о Кремухе, результатов исследований Белореческого могильника и раскопок Белореческой церкви с её богатым захоронением позволяет нам сделать вывод о том, что все эти материалы характеризуют адыгское феодальное образование — княжество Кремух, — находившееся в районе Белореченска-Майкопа и экономически связанное с итальянскими факториями Крыма и Кавказа.
8. В середине XV в. владение Кремух возглавлял, по Барбаро, князь (пши) Биберди — имя, известное в адыгской антропонимике. По фольклорным материалам адыгов Биберд был предком князей Хатуковых, владевшим племенем хатукаевцев, обитавших в долине р. Белой. Обратим внимание на фонетическую близость имени Биберди с именем Пиуперти на надписи-эпитафии. Допустимо предположить, что это одно историческое лицо — правитель недолго существовавшего и ныне забытого адыгского княжества Кремух, а Белореченская церковь была его главным христианским храмом. О христианстве адыгов-черкесов до XVII в. хорошо известно.
В другом сочинении И. Барбаро о путешествии в Персию содержится свидетельство о том, что в 1486 г. состоялось вторжение мусульман, «кричащих о смерти христиан согласно своей вере», на Северный Кавказ. Мусульманское (персидское) войско дошло до Черкесии, но здесь было встречено «людьми» Тетракоссы и Кремуха и в состоявшемся сражении потерпело поражение и бежало «в свою страну». Эти данные Барбаро подтверждают принадлежность населения области Кремух к христианскому вероисповеданию в конце XV в.
9. Изложенный выше синтез достоверных письменных источников и давно известных археологических материалов позволяет нам поставить вопрос о существовании в XIV—XV вв. на Средней Кубани адыгского феодального владения Кремух и тем самым попытаться открыть новую страницу в истории народов Западного Кавказа.
В кавказоведческой литературе последних десятилетий появились обобщающие сводки монетных находок, охватывающие территорию Чечни, Ингушетии, Северной Осетии (В.Б. Виноградов, Е.И. Нарожный), района Кавминвод (В.Б. Виноградов, Я.Б. Березин, С.Н. Савенко, Ю.А. Прокопенко), степного Ставрополья и Карачаево-Черкесии [130] (Ю.А. Прокопенко), а также Кабардино-Балкарии (В.Б. Виноградов, А.Б.Деппуева). Все они периодически уточняются и пополняются. Между тем, своего рода «белыми пятнами» на нумизматической карте региона продолжают оставаться территории Краснодарского края и Республики Дагестан, хотя в отношении к последней недавно была создала сводка, завершающая нач. XV в. (С.В. Гусев). В дополнении к ней приведем лишь некоторые данные и в отношении монет XIII—XV веков «иноземного» происхождения, сведения о которых нами встречены в литературе. Не претендуя на завершающий характер этого свода, укажем среди них на византийскую монету времен Латинской империи XIII в. (Е.А. Пахомов, М.И. Исаков, С.В. Гусев, А.И. Абакаров и О.М. Давудов, Ю.А. Прокопенко). Находилась она в составе одного из дербентских кладов. Вместе с ней отмечено сразу три медные монеты хорезмшаха Джелал-ад-Дина, являющихся перечеканом грузинских монет (Е.А. Пахомов, И.Л. Джалаганиа, Ю.А. Прокопенко и др.). Аналогичная монета обнаружена и в составе монетного клада из с. Ягдак Табасаранского района (Е.А. Пахомов, М.И. Исаков, И.Л. Джалаганиа, Ю.А. Прокопенко). В составе уже отмечавшегося дербентского клада присутствовала и медная монета грузинской царицы Русудан 1226 г. (Е.А. Пахомов, И.Л. Джалаганиа, М.И. Исаков, Е.И. Нарожный, А.И. Абакаров и О.М. Давудов, Ю.А. Прокопенко и др.). Весь этот перечень относится ко времени между вторжениями Чингизидов на Северный Кавказ в 1222 и 1238—1239 гг. После чего на территории Дагестана появляются монетные находки иных эмиссий. Прежде всего это 43 серебряные «турецкие» (т.е. — османские) монеты, собранные в Дербенте. Биты от имени султана Махмуда (1244—1249 г.) в Константинополе (А.И. Абакаров и О.М. Давудов, М.И. Исаков). В самом Дербенте упоминается и о находке нескольких «монгольских» монет без какой-либо уточняющей информации о них (М.И. Исаков).
Помимо Дербента отмечены монеты и в других районах Дагестана. Среди них монета Тула-Буги конца XIII в. из «13 разъезда» в Северо-Западном Прикаспии (В.Б. Виноградов, В.А. Петренко, В.А. Мялковский; А.И. Абакаров и О.М. Давудов). Отмечена и медная монета («Чонтаульская находка») 1935 г. в Кизил-Юртовском районе. Определена как пул 743 г.х. (А.И. Абакаров и О.М. Давудов). На территории округи «Ахмедов Артезиан» в Северо-Западном Прикаспии поднята и монета династии Джучидов от имени Мустафы Гияс-ад-Дина, чекана в Хаджи-Тархане (20-30-е гг. XV в.), сведения о которой приводились неоднократно (В.Б. Виноградов, В.А. Петренко, В.А. Мялковский; А.И. Абакаров и О.М. Давудов). Монета по времени тяготеет к близким эмиссиям их состава «Петровского» клада на Кубани.
Обратим внимание и на сведения из «Истории Дагестана) о том, что в 1406—1410 гг. в Дербенте чеканилась монета с именем золотоордынского хана Джанибека» (М.Г. Гаджиев, О.М. Давудов, А.Р. [131] Шихсаидов), что, вероятно, является опечаткой. Как известно, в этот период в указанном городе выпускались монеты не Джанибека, а Шадибека (Я.Ю. Якубовский).
Приведенный перечень вряд ли будет полным, если не брать во внимание и монеты дагестанских выпусков, хорошо известные за пределами его территории. Прежде всего — это сведения о монетах дербентского чекана времен Тохтамыша и эмира Тимура с территории Азербайджана (В.П. Лебедев). Монеты Тохтамыша отмечает и Г.А. Федоров-Давыдов (чекан в Дербенте).
Вместе с тем, еще Х.М. Френом обращалось внимание на легенду монет, где в названии «монетного двора» известный нумизмат читал: «Серир», место расположения которого востоковед предлагал искать «при Койсу, на северо-запад от Дербента и на юго-восток от Тархи». Несколько «серирских» монет, но уже не выделяя этого монетного двора, приводил и Г.А. Федоров-Давыдов. Между тем, Х.М. Френ колебался в правильности воспроизведения интересующего названия, одновременно предполагая, что «серир» может читаться и как «Сарай». Развивая эту мысль, в пользу последнего сопоставления названия монетного двора высказывается В.П. Лебедев, наряду с монетами Х.М. Френа опиравшийся и на пять монет с территории Саратовского Поволжья. Эти уточнения, по всей видимости, и решают проблему окончательно.
Приведенные данные — лишь первый опыт обобщения указанных монетных находок золотоордынской поры, но вряд ли он является окончательным. Привлечение новых данных отсюда и должно подтолкнуть исследовательский интерес к выполнению подобной задачи.
Кочевники в Южнорусских степях, степях Северного Кавказа и Терско-Сулакского междуречья более двухсот лет находились среди коренных земледельческих племен. В середине XI века, ослабевшие от натиска Руси и вторжения в Евразийские степи кыпчаков-половцев, печенеги и торки, находившиеся в этих степях, переселились в Венгрию, а какая-то часть вернулась на Русь, где они образовали так называемый «торческий пояс», чтобы охранять границу Руси от половцев. «Основой причиной, заставившей торков и печенегов, оставшихся в степях, стать в подчинение к русским князьям, — пишет С.А. Плетнева, — было нашествие на южнорусские степи половцев, оказавшихся более безжалостным и жестким врагом для прежних владельцев степей, чем русские». (Плетнева С.А., 1958, с. 219). [132]
Половцы-кыпчаки с середины XI века до 1223 года оставались абсолютными хозяевами Дешт-и-Кыпчака. Кочевники этой степи часто использовались в качестве военной силы Византией, Русью, Грузией и Хорезмом. Известно, что как только половцы-кыпчаки попадали отдельной группой в этнически чуждую им среду, как их этнические признаки, прежде всего погребальные обряды, исчезали. Половцы, бежавшие в Паннонию (Венгрию) от монголов, сразу же утратили свой погребальный обряд. С конца XIII века не встречается ни одного курганного погребения и в Малой Азии, куда было переселено множество половцев-кыпчаков. Половецко-кыпчакское население, которое оказалось в Египте, утратило свои характерные погребальные обряды (Федоров-Давыдов Г.А., 1966).
Аналогичное явление мы наблюдаем с теми половцами-кыпчаками, которые находились и на территории Терско-Сулакского междуречья. Большая часть этих кыпчаков, по-видимому, слилась с ногайцами, с Мангытской Ордой, возможно, какая-то часть растворилась среди северных кумыков, о чем свидетельствует наличие кыпчакского диалекта в этом регионе.
В 1242—43 гг., когда Бату обосновался на Нижней Волге, создание государства Золотой Орды считается уже завершенным, и с этого времени кыпчаки вошли в состав золотоордынского государства как один из покоренных народов. Имя половцев-кыпчаков, наряду с другими народами, постоянно встречается в списках завоеванных монголами народов.
Иногда монголы продавали в рабство пленных половцев в мусульманские страны. Известно, что некоторые мамлюкские правители Египта были кыпчаками по происхождению. Так, например, по данным автора XIII века Плано Карпини и Рубрука, 1957, с. 72). «Взятые в плен из этих народов (кыпчаков) были отвезены в земли Сирии и Египта. От них — мамлюки», — сообщает Ал-Айни (Тизенгаузен В.Г., 1884, с. 503). Большая же часть половцев-кыпчаков была насильственно перемешена в Центральной Азии, а половецкая аристократия находилась в ставке Золотой Орды и монгольских ханов в их покоренных землях. По данным Рашид ад-Дина, один из монгольских предводителей получил задание от Менгу и Тимура отправить в Орду этих кыпчакских ханов-аристократов — «знаменитых кыпчаков» (Рашид ад-Дин, 1951, с. 96). Таким образом, половецко-кыпчакская аристократия или была уничтожена или продана в рабство, а часть — увезена в коренные земли монголов. После XIII века в источниках не встречаются упоминания о половецких ханах, которые владели бы кочевым населением на правах феодальных держателей. Кроме того, с приходом в степи Дешт-и-Кыпчака монголов, степные территории сохранили старое название сменившее только свою родоплеменную аристократию на новых хозяев степных ханов Золотой Орды. Во второй половине XIII века, когда [133] население половецкой степи оказалось в зависимом положении от Золотой Орды, начался процесс полного смешения кочевников степей и сложения новых кочевых образований, которые завершились в XV веке. Действительно, с этого времени кочевников-кыпчаков уже не существует в старом смысле. В Большой Орде кочуют «татары», в Астраханских степях также называются «татарами», в восточной части Золотой Орды известны казахи, узбеки, а также мангыты-ногайцы, куда по нашему глубокому убеждению, вошли половцы-кыпчаки, кочевавшие на территории Терско-Сулакского междуречья и Предкавказья.
Всевышнему, наверно, было угодно, чтобы этот степной народ со своеобразной материальной культурой, не похожей на материальную культуру соседей Дешт-и-Кыпчака, со своим языком, исчез с лица земли как этнос. Действительно, с образованием государства Золотой Орды упоминание о половцах-кыпчаках не встречается в исторических источниках. Однако среди многих народов Евразии, живущих от Карпат до Китайской стены: украинцев, белорусов, русских, поляков, венгров, итальянцев, литовцев, болгар, баварцев, казаков, а так же у всех тюркоязычных народов, большинство из которых говорят на половецко-огузских диалектах сохранилось множество этнонимов, топонимов, гидронимов, фамилий, слова из этих диалектов. Эту аксиому знали и знают все, кто занимался проблемой тюркских языков и этносов. Однако никогда ни один исследователь-специалист не говорил и не писал, что народы, ныне проживающие на территории Евразии, являются остатками половцев-кыпчаков. Не писали и не говорили также специалисты-этнологи, занимающиеся этногенезом кумыков, что кумыки — остатки пришлых тюркоязычных кыпчаков, как пишет М. Аджиев (Аджиев М., 1994).
Л.Н. Гумилев в книге «Тысячелетие вокруг Каспия», в разделе «Куманы иже рекомые половцы» писал: «Но тюрки (половцы) на чужбине, оторванные от родной степи, уже не представляли собой самостоятельных этнических систем, а образовали либо отдельные рассеянные группы людей объединенных одной исторической судьбой (как гулями), в которых соблюдался общий для всех этнических уровней принцип объединения «своих», либо небольшие популяции (субэтносы) инкорпорированные этносами Ближнего Востока» (Гумилев Л.Н., 1991, с. 210).
Для сохранения кыпчакского языка до XVI—XVIII веков выше перечисленных западных стран большую роль играли армяне-эмигранты, которые прекрасно знали кыпчакский язык, о чем свидетельствуют судебные акты Каменец-Подольской армянской общины, опубликованные Т.И. Гуриной в книге «Документы на половецком языке XVI в.» (Гурина Т.И., 1967), которые являются важным источников в изучении роли армянских колоний не только в экономической и культурной жизни украинских средневековых городов, но и как документ половецкого языка XVI века, на котором общались между собой украинские [134] армяне, которые прекрасно знали и писали судебные акты на половецком языке на основе армянского алфавита. Это — особая тема исследования и мы не ставим такую задачу перед собой в данной статье.
Для средневекового восточного города мощной силой, оказывающей влияние на все сферы общественной и частной жизни, являлась религия. Господствующей религией в Дербенте рассматриваемого периода был ислам.
Придя на смену зороастризму, христианству и языческим верованиям, ислам быстро утвердился в качестве доминирующей формы религии во многом благодаря политике его насильственного насаждения проводимой арабскими завоевателями. Арабы рассматривали Дербент как центр распространения ислама на Кавказе, о чем свидетельствует и их активная строительная деятельность по возведению в городе большого количества мечетей (к этому времени относится основание Джума-мечети, перестроенной из христианского храма). Завоевательные походы Тимура, принесшие гибель огромному количеству немусульманского населения Кавказа так же способствовали укреплению позиций ислама. Со времени укрепления на престоле Персии, в XVI веке, династии Сефевидов, объявивших государственной религией шиитский толк ислама, в течении нескольких десятилетий страна вела ожесточенные войны с сунитской Турцией, которые помимо политических и экономических причин имели религиозную подоплеку.
Частое изменение политической обстановки и статуса Дербента привело к тому, что город населяли как мусульмане шииты, так и суниты. А. П. Волынский, посетивший Дербент в 1716 году, пишет: «И хотя, как «персияня», так и турки и одного законодавца Махомета имеют, но в вере между ними есть великие разколы. А под державою персидскою не малая часть тех, которые согласны с турками, того ради персияня великое от них подозрение имеют (а называют их сунлии)».
Кроме мусульман, по сведениям источников, в городе в конце XVIII века зафиксировано проживание значительного количества (около 100 домов) армянских купцов, представляющих христианское население. Не ясным остается вопрос о дате их появления в Дербенте. X. Бэрроу отмечает, что умершего в 1580 году сына корабельного пушкаря, похоронили в Дербенте на кладбище в двух милях к югу от «...Дербентского замка, где армянские христиане обычно хоронят своих покойников». Наличие своего кладбища позволяет предположить, что христиане [135] населяли город более или менее продолжительный промежуток времени. Однако А. Олеарий, проезжавший через Дербент в составе гольштинского посольства, в 1638 году прямо указывает, что «В городе Дербенте нет, как утверждают некоторые писатели, христиан; здесь живут лишь магометане и иудеи». О том же самом пишет Я. Срейс в 1670 году. Эта часть его книги не вызывает особого доверия, так как почти дословно совпадает с произведением А. Олеария, с которого вероятно и была переписана. Пока непонятно каким образом объясняется подобные разночтения, но с уверенностью можно утверждать, что к концу рассматриваемого периода заметная часть населения города исповедовала христианство.
Вслед за А. Олеарием Я. Стрейс подтверждает факт проживания в Дербенте иудеев, «...которые гордятся своим происхождением от колена Веньяминова».
Факт наличия в мусульманском городе представителей иных религиозных конфессий объясняется веротерпимостью жителей Дербента, которую подмечал еще А. Контарини. А. П. Волынский обращает внимание на деятельность католических миссионеров, открыто проповедовавших в городах Персии и не встречавших противодействия со стороны местных властей или жителей, «понеже персияне за противность не ставят и не запрещают христианом кто б какую веру не держал».
Другим фактором, благодаря которому к XVIII веку ислам перестает быть единственной религией в городе, вероятно, является некоторое смягчение толкований религиозных канонов, происходившее на фоне проникновения европейской цивилизации на восток. Мусульманство во многом утрачивает аскетизм и воинственную непримиримость, свойственную его ранним формам.
Не смотря на некоторое смягчение, ислам в Дербенте оставался сильной догматической религией, требующей неукоснительного исполнения своих обрядов от любого горожанина. Одним из важнейших обрядов, подлежащий неукоснительному соблюдению, во все времена был намаз. Эта ежедневная пятикратная молитва — одна из основных обязанностей верующих в исламе. Кроме того, еженедельно по пятницам, в Джума-мечети происходили большие полуденные общественные молитвы, обставляемые более торжественно, чем в обычные дни. В пятницу, почитаемую мусульманами как святой день, люди облачались в праздничные одежды, готовили более обильную и вкусную пищу и приглашали друг друга в гости.
Другой неотъемлемой частью жизни горожан являлись религиозные посты. По свидетельству очевидцев, они подлежали такому же строгому исполнению, как и ежедневная молитва. Главный пост назывался «ураза». Он был предписан на весь месяц рамадан, во время которого (в течение светового дня) верующим запрещалось есть, пить, купаться и т. д. Происхождение поста восходит еще к древнеплеменным обычаям [136] арабов. Можно предположить, что в самое знойное время года в Аравии в месяце рамадан кочевники ограничивали себя в пище, берегли продукты, а значительную часть хозяйственных дел переносили на вечер и ночь. Отсюда, вероятно, и пошла традиция во время уразы бодрствовать ночью.
Кроме обязательных обрядов, подлежащих неукоснительному исполнению, существовал обычай, который, не являясь непременной обязанностью, играл большое значение в жизни верующих. Речь идет о паломничестве (хадже) в Мекку и Медину, т. е. места, где протекала деятельность Мухаммеда. Каждый мусульманин должен был стремиться к совершению обряда «священного» хаджа. Совершивший паломничество удостаивался почетного звания «хаджия», который рассматривался мусульманами в качестве почти святого человека. Его было приглашать+ на угощения и делать ему подарки. Привезенная из источника, находящегося вблизи Мекки, вода, почитаемая как святая, рассматривалась как панацея от всех болезней.
Я. Стрейс повествует о своем хозяине, который после того, как чуть не утонул, собирался совершить «...паломничество в Мекку, чтобы пожертвовать гробу Магомета 20 тыс. гульденов, после чего он и его сын... станут святыми к большей чести своего рода».
Обряд подачи милостыни (нищим, в пользу мечети, лично духовным лицам) был широко распространен в Дербенте. Щедрая раздача милостыни обычно сопровождала посещение святых мест — мазаров.
Корни поклонения «святым» местам следует искать в древнем культе. Мусульмане, следуя доисламской языческой традиции своих предков, имели в качестве места поклонения различные древние сооружения, могильные холмы, кладбища, деревья, камни и т. п. Обычно эти мазары освящены легендами, мифами и преданиями. Средневековые источники называют, в качестве таких святых мест Дербента, древние кладбища Кырхляр и Джум-джум.
Легенда о происхождении первого восходит к временам арабского завоевания. Согласно сведениям «Дербент-наме», здесь похоронены сорок борцов за веру, павших в битве с хазарами. А. Олеарий, описывая в 1638 году описывая это кладбище, отмечает большое значение придаваемое ему местными жителями: «Здесь лежали рядом сорок подобных длинных огромных надгробных плит и были водружены многие флаги. Персы называют это место погребения джилтенан, а турки и татары — керхлер. Здесь, как говорят, погребены 40 князей, святых мужей, погибших в ... битве; персы и татары ежедневно приходят сюда молиться. Прежде здесь учреждена была выдача богатой милостыни. Теперь же это место стережется лишь одним стариком, живущим здесь; он сам живет милостынею от тех, кто приходят для посещения могил».
Легенда, связанная с возникновением кладбища Джум-джум является отражением доисламских верований жителей города. Вместе с [137] крестовокупольным храмом в цитадели и зданием Джума-мечети она является подтверждением широкого распространения христианства в древнем Дербенте.
Неотъемлемой частью духовной жизни города являлись религиозные праздники. Наряду с общемусульманскими праздниками, такими как праздник окончания поста — ураза-байрам, праздник жертвоприношения — курбан-байрам, мавлюд и т. д., в Дербенте XVI—XVIII вв. широко отмечался день скорби — шахсей-вахсей (ашура). Этот траурный праздник мусульман-шиитов, по всей вероятности, получил распространение после вхождения Дербента в состав сефевидской державы. В этот день верующие оплакивают кончину имама Хусейна, сына Али, внука пророка Мухаммеда и в память о его мученической смерти подвергают себя физическому самоистязанию. Человек, проливший свою кровь за Хусейна, пользовался большим авторитетом среди верующих. Об огромном значении обряда свидетельствует факт его сохранения до наших дней.
Начиная со второй половины 60-х годов XX века масштаб археологических исследований Ставрополья заметно возрастает. Отчасти, это было связано с широким мелиоративным строительством в крае, которое потребовало активизации археологических работ во избежание разрушения или затопления археологических памятников; отчасти, с ростом интереса к Центральному Предкавказью, как к уникальной контактной зоне горных и степных культур. В указанный период расширяется число экспедиций, проводивших раскопки на территории края. Помимо местных, формируемых, преимущественно, Ставропольским краеведческим музеем и Карачаево-Черкесским научно-исследовательским институтом, в крае работали экспедиции Института археологии АН СССР, Государственного Исторического музея, Ленинградского государственного университета, Саратовского государственного университета, Чечено-Ингушского государственного университета, Северо-Осетинского научно-исследовательского института истории, языка, литературы и экономики, Калмыцкого научно-исследовательского института, языка, литературы и истории.
Неудивительно, что столь высокий уровень и большое количество экспедиций привели к росту числа изученных археологических памятников на территории Ставропольского края. [138]
В 1965—67 годах А.Л. Нечитайло завершает работы на Усть-Джегутинском и исследует Холоднородниковский и Суворовский курганные могильники, давшие обширный материал по нескольким культурам эпохи бронзы.
Силами экспедиции Саратовского государственного университета в 1967 г., на правом берегу Восточного Маныча было раскопано 30 курганов, большинство погребений в которых относилось к древнеямной и катакомбной культурам. В одном из курганов была обнаружена деревянная повозка, с колесами, составленными из трех сегментов.
Под руководством А.П. Рунича в 1969 г. начаты раскопки могильника Мокрая Балка, в окрестностях Кисловодска. Данный могильник предоставил археологам материал по аланской культуре V—IX вв. Исследования могильника, практически, не прекращались на протяжении всех 70-х годов.
В 1970 г. А.П. Рунич руководил работами на Кугульском, Березовском и Аликоновском катакомбных могильниках (все близ Кисловодска). Ученый датировал их V—VI вв., указывая на синхронность в устройстве могил, погребальном обряде и инвентаре.
В 1970—71 гг. археологическая экспедиция под руководством А.В. Найденко проводила раскопки в окрестностях станицы Исправной. Был исследован могильник, относящийся к позднему этапу существования прикубанского варианта кобанской культуры (VI—V вв. до н. э.).
С 1973 г. и до конца указанного периода, экспедиция Института археологии АН СССР ведет изучение знаменитых Краснознаменских курганов, давших науке уникальные сведения о погребальном обряде скифов.
В том же 1973 г., экспедиция Ставропольского краеведческого музея, совместно с Кавказской экспедицией ЛГУ, начала раскопки Грушевского городища. Руководители работ А.В. Найденко и А.В. Гадло пришли к выводу о существовании здесь греческой фактории, возникшей на месте поселения позднекобанской культуры. Основные работы на городище проводились с 1978 г.
Начиная с 1974 г. осуществляются активные работы на Хумаринском городище. Их вела экспедиция Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института, при участии ЛГУ. Учёные выяснили, что хазаро-болгарская крепость, датируемая VIII—X в.в., возникла на месте более раннего аланского поселения.
Экспедиция Государственного Исторического музея, во главе с М.П. Абрамовой, закончила в 1975 г. исследование Подкумского могильника. В ходе работ удалось выяснить, что различные типы катакомб, имевшие локальные особенности в разных районах Северного Кавказа в I в. до н. э. — I в. н.э., заменяются во II—III в.в. стандартным [139] типом, господствовавшим в центральных и восточных районах Северного Кавказа в более позднее время.
В 1976 г. Александровский отряд Института археологии АН СССР начинает исследование курганных могильников у с. Веселая роща. Работы велись на протяжении нескольких лет. Их результаты говорят о том, что в этом районе памятники катакомбной и северокавказской культур некоторое время сосуществовали.
Горнокавказская экспедиция Института археологии АН СССР, во главе с В.И. Марковиным, в 1976—1977 гг. проводила раскопки на территории Сентинского храма. Было изучено несколько погребений, как внутри здания, так и вокруг него. Кроме того, удалось установить, что жизнь в районе храма не прекращалась в период господства на Кавказе монголо-татар.
В конце 70-х годов Малокарачаевским отрядом Ставропольской экспедиции ведутся раскопки поселения и могильника кобанской культуры в ущелье р. Эшкакон, близ Кисловодска. Археологами, во главе с В.Б.Ковалевской, выявлено два периода обитания поселения, которое датируется VIII—VI вв. до н. э.
Таким образом, учитывая, что перечислены, далеко не все экспедиции, работавшие в указанный период на Ставрополье, мы видим, насколько масштабным было его археологическое изучение. Во второй половине 60-70-х гг. XX века Ставропольский край предоставил археологам обширный и уникальный материал, имеющий исключительную важность для уточнения специфики и хронологии целого ряда культур эпохи бронзы, железного века и средневековья, а также для синхронизации их с культурами Восточной Европы, Азии и Закавказья. [140]
Творчество людей многолико. Наука — только один из его вариантов, и далеко не самый популярный. В науке цель — эмпирическое обобщение, в литературе — вымысел, в мифотворчестве — вымысел, выдаваемый за истину; это — то, что наиболее понятно и близко массовому восприятию. То, что ценой жизни устанавливается ученым-исследователем, обывателю непонятно и неинтересно. А то, что выдумано с расчетом на уровень читателя — легко усвояемо. (Л.Н. Гумилев, 1991).
1. Сейчас через всевозможные каналы информации: в газетах, научно-популярных, художественно-литературных журналах, монографиях фальсифицируется историческое прошлое отдельных народов Дагестана и Северного Кавказа. Причем профессиональный состав авторов этих публикаций весьма разнообразен и не имеет отношения к историко-этнической проблеме. Среди творцов таких опусов, наряду с простыми дилетантами имеются солидные профессора, которые создают в массах стереотипы научной обоснованности провозглашаемых «теорий». Уже в каждой национальной республике есть «свои ученые-теоретики», которые связывают прошлую историю своего народа с историей «престижных» народов. Поэтому определение этногенеза каждого народа в современных условиях должно быть критически пересмотрено.
Общеизвестно, что в исторической науке наиболее сложной была и остается до сих пор проблема этногенеза и для решения ее надо знать хотя бы основы этнографии, археологии, антропологии, лингвистики, не говоря о методологической основе вообще научного принципа исследуемой проблемы.
2. Специалисты, которые занимались этногенезом кумыков: археологи, этимологи, антропологи, лингвисты — однозначно знают, что кумыки — коренные дагестанцы, предки которых жили здесь с первобытнообщинного строя. (С.Ш. Гаджиева, Я.А. Федоров, А.Г. Гаджиев, Н.Н. Миклашевская, Н.С. Джидалаев, Г.С. Федоров-Гусейнов и др.).
Языковеды знают, что на основе родства языков не всегда можно механически делать выводы о родстве народов. Например, кумыкские и якутские языки по своему грамматическому строю и словарному составу восходят к древнетюркскому языку-основе. В эту же группу [141] языков входят языки 27 народов, в том числе: азербайджанский, балкарский, гагаузский, карачаевский, караимский, ногайский, татарский, башкирский, чувашский, туркменский, уйгурский и др. Однако у каждого народа свой этногенез, своя этническая история. Все эти народы, в том числе кумыки — разные народности как по материальной культуре, так и по антропологическим признакам (ногайцы, якуты, киргизы, уйгуры, кумыки и др.).
Пока неясно, на каком языке говорили предки современных кумыков в первобытнообщинном строе. Не ясен вопрос, существовал ли некий протокумыкский — тюркский язык среди дагестанских народов в те далекие времена? Хотя некоторые языковеды считают кумыков прямыми наследниками каспийско-эламского этноса, а каспиян, о которых писал в V в. до нашей эры Геродот — протокумыками (Кадыраджиев К.С., 1992).
По этнодифференцирующим признакам кумыки — это дагестанцы по культуре и этнической психологии, представители каспийской расы по антропологическим признакам, говорящие на тюркском языке. Современный литературный язык составлен на основе аксаевского диалекта, относящегося к кыпчакскому диалекту. Кыпчаки появились в Дагестане в конце XI — начале XII веков. Процесс же тюркизации по языку предков кумыков начался еще задолго (800—900) до появления в Приморском Дагестане кыпчаков. Суть этой «тюркизации» сводится к внедрению в местную среду тюркского языка и отдельных элементов культуры кочевников (Федоров-Гусейнов Г.С, 1997).
3. Пока нам достоверно известно, что с конца второго века нашей эры и до конца XI века в степные районы Дагестана проникали тюркоязычные кочевники, которые в течение целого тысячелетия контактировали с предками кумыков и в результате чего, возможно, начали разговаривать на тюркском языке. Очень важно подчеркнуть, что материальная культура и антропологический тип кумыков кавкасионский не изменились&) и сохранились до наших дней. Известно, что основная масса кочевников, в том числе и кыпчаки, были монголоидными. Если бы на территории Прикаспийского Дагестана происходила этническая ассимиляция с пришлыми кочевыми племенами, то обязательно изменился бы и антропологический тип кумыков — на монголоидный. Современные кумыки ничем не отличаются от аварцев, даргинцев, лакцев, лезгин и других коренных народностей Дагестана. Исключение составляют некоторые кумыки, проживающие в Хасавюртовском и Бабаюртовском районах. Это неудивительно, т.к. в междуречье Терека и Сулака, наряду с кыпчаками, с конца XIV — нач. XV веков, кочевали ногайцы. Естественно, живя по соседству с кыпчаками и ногайцами, предки современных кумыков Терско-Сулакского междуречья вступали в культурно-экономические, военно-политические, династические связи. Иногда, возможно, заключали браки с ними, в результате [142] чего рождались дети с монголоидными чертами лица. Антропологи знают, что монголоидные черты могут встречаться у любого народа, если заключались браки с монголоидными этносами (Гаджиев А.Г., 1975). Этнологи, антропологи, археологи, лингвисты, которые занимались и занимаются этногенезом кумыков, знают эту аксиому, поэтому никогда не сомневались и не сомневаются, что основная масса кумыков — автохтоны Дагестана.
Споры и разногласия заключались в другом: когда именно начали разговаривать предки кумыков на тюркском языке и существовал ли вообще тюркский язык в Дагестане до появления здесь тюркоязычных кочевников.
Определенно знаем, что на основе аксаевского диалекта составлен современный литературный язык кумыков, и он относится к кыпчакскому диалекту. До появления кыпчаков на территории Северо-Восточного Дагестана в современные районы Кумторкалы и частично Буйнакска, Карабудахкента, Каякента, частично Кайтака, а также в междуречье Терека и Сулака, проникали тюркоязычные кочевые племена. На этой территории, начиная со второго века н.э., звучала тюркская речь, на основе булгарского языка. Кроме археологических данных, свидетельствующих о том, что булгары действительно довольно длительное время находились среди предков кумыков, мы располагаем ценнейшими лингвистическими материалами.
Известный ученый-языковед, доктор филологических наук, проф. Н.С. Джидалаев пишет: «Тем самым доказано, что в лакском языке, носители которого проживают в центральной горной части Дагестана, выделен большой пласт лексем булгарского происхождения (Джидалаев Н.С, 1989), на что указывает историко-этимологический анализ каждого лакского булгаризма» (Джидалаев Н.С. 1998). Еще в 1978 году выделили три этапа проникновения тюркского языка на территории Северо-Восточного Дагестана, где жили предки кумыков. Первый этап — IV—VI вв. был связан с гунно-савиро-булгарскими кочевниками, второй — с хазарским периодом в истории Дагестана (30-е годы VII — 40-е годы VII веков), третий — с кыпчаками. (Федоров Я.А, Федоров Г.С, 1978).
5. На территории Дагестан Северо-Восточного Дагестана, где сейчас живут кумыки центральные и южные, кыпчакский диалект не утвердился, зато у северных кумыков (засулакских), среди которых были кыпчаки и ногайцы, именно кыпчакский диалект получил распространение. Поэтому неудивительно, что население этого региона (в том числе аксаевцы) говорило на кыпчакском диалекте. Когда же определили, что литературным языком должен стать аксаевский диалект, никто и не подозревал, что появятся книги, где авторы будут писать и доказывать, что кумыки являются остатками кыпчаков, так как их современный литературный язык относится к кыпчакскому диалекту [143] тюркского языка. Не думали, естественно, об этом представители центральных и южных кумыков.
Содержание понятия «краеведение» глубоко исторично. Как всякое явление, оно не существует вне времени. В разные периоды в это определение вкладывался различный смысл. Сама история развития краеведения обусловила неоднозначность его толкования. Краеведение в России имеет давние традиции. Впервые государственный подход к развитию краеведения продемонстрировал Петр I, издав указы о наблюдении и сборе информации о природных,#) археологических и исключительных исторических фактах, выражаясь языком Петра I «о диковинных редкостях».
Значительные масштабы, которые краеведение приобретает со второй половины XIX века, были обусловлены насущной потребностью того времени, вызванной общим социальным и экономическим подъемом страны. Период последней трети XIX века — начало XX века занимает особое место в истории краеведения и музейного дела. Небывалый подъем краеведения в первое десятилетие Советской власти был во многом подготовлен результатами его развития до революции.
На гребне краеведения возникали местные музеи, постепенно превращавшиеся в культурные центры провинции. Решающую роль в деле их создания сыграли такие дореволюционные учреждения и организации, как губернские статистические комитеты, отделения РГО, ученые архивные комиссии, научно-просветительские общества. Их вклад в становление краеведения и музейного дела очень велик. Провинциальные музеи были обязаны своим появлением усилиям краеведов-энтузиастов. Ими были, как правило, представители разночинной интеллигенции — учителя, врачи, священники, служащие губернских правлений и земств, способные не только к кропотливой научной работе, но и к постоянной популяризаторской деятельности, подвижничеству.
Термина «краеведения» в этот период не существовало. В начале XX века появляется понятие «родиноведение». Понятие «родиноведение» близко «краеведению», но не идентично.b «Родиноведение» трактовалось шире «краеведения». В 1910 г. в Санкт-Петербурге была издана на русском языке книга Р.Больдта «Организованное исследование родины в Финляндии», в которой автор предпринял попытку показать актуальность комплексного изучения своей Родины и давал научную обоснованную методику, опираясь на накопленный в Финляндии опыт. Автор понимает «родиноведение» как изучение отдельных регионов [144] страны в совокупности, то есть, предлагает идти от познания конкретного к построению целостной картины. Предисловие к этой книге, написанное Н.Н. Лебедевым, представляет собою краткий очерк истории развития краеведческих исследований в России. Лебедев отмечает, что начало систематического «родиноведения» связано с основанием Российской Академии наук.
Определение «краеведения» мы находим в многотомном Словаре русского языка, издававшемся Академией наук в 1916 г.: «Краеведение — изучение данного края, страны». Приведенное толкование понятия затрудняет его комментарий, тем не менее, употребление через запятую слов «край», «страна» позволяет говорить о близкой трактовке терминов «краеведение» и «родиноведение».
Широкое распространение понятие «краеведение» получило в первое десятилетие Советской власти. Знак равенства между этими понятиями ставит Б.Н. Вишневский в своей книге «Краеведение, его задачи и культурное значение» (Казань, 1921). Автор выделяет исследовательскую функцию и комплексность этого понятия.
1917—1927 гг. называют «золотым десятилетием» краеведения. Выйдя за рамки деятельности научных обществ и отдельных краеведов-любителей, оно выросло до уровня массового общественного движения, имевшего под собой научное начало.
С конца 1920-х гг. краеведение начинают все больше и больше связывать с задачами и нуждами социалистического строительства, постепенно вытесняя остальное его содержание. В докладах на III Всероссийской конференции по краеведению в конце 1927 г. хотя и отмечалась необходимость всестороннего изучения края, однако всячески подчеркивалось его «общая целевая установка на социалистическое строительство».
В условиях насаждения казарменного социализма, командно-административной системы руководства страной, жесткой централизации духовной жизни общества, проявления инициативы и самостоятельности подавлялось и преследовалось. Попытки выявить особенности развития региона в то время, когда все подвергалось нивелированию и унификации, расценивалось как стремление обособиться, противопоставить себя общему руслу истории страны. Стали проводиться кампании «чистки краеведческих рядов». В 30-е гг. наблюдается отсутствие теоритических работ по краеведению. Журналы «Краеведение» и «Известия Центрального Бюро Краеведения» были закрыты, а с 1930 г. стал издаваться журнал «Советское краеведение» с характерной тенденциозностью трактовок, являвшейся подлинным отражением своей эпохи.
Новый удар по краеведению был нанесен в 1938 г., когда была ликвидирована система краеведческих организаций на местах. Краеведческими центрами объявлены были музеи. Однако, насильственно [145] превращенные из провинциальных центров культуры в политико-просветительные учреждения, призванные участвовать в проведении политических кампаний и внедрении в массовое сознание спускавшихся сверху лозунгов, они были не способны к организации серьезной краеведческой деятельности.
Возрождение краеведения в середине 50-х гг. происходило в общем русле подъема общественной жизни науки и культуры. На рубеже 1950—1960-х гг. после длительного перерыва появляется ряд теоретических работ по проблемам краеведения. В этих работах были предприняты попытки по-новому осмыслить сущность краеведения как общественного явления. С 1960—1980 гг. выходит серия учебных пособий по историческому краеведению. Для данного периода характерно понимания краеведения как комплекса научных дисциплин и в соответствии с предметом изучения предлагается выделение его отраслей: географическое краеведение, историческое краеведение, экономическое краеведение и т.д.
С середины 1980-х гг. в российском обществе возрастает интерес к краеведению, усиливается внимание к вопросам истории и сохранения культурного наследия. В это время возобновляется традиция созыва научных краеведческих конференций как в масштабах страны, так и на региональном уровне. На местах создаются новые краеведческие общества, занимающиеся вопросами экологии, изучения народных традиций и промыслов, восстановлением разрушенных памятников истории и культуры. Академик Д.С. Лихачев отмечал, что краеведение — это «самый массовый вид науки», подчеркивая, что оно существует на двух уровнях: для ученых специалистов и широкой публики. В последние десятилетия XX века краеведение стало пониматься как социокультурное явление, которое составляет важнейшую часть развития национальной культуры.
Рассматривая процесс развития русско-кавказских отношений конца XVIII—XIX вв., нельзя не отметить ряд закономерностей, причем географические факторы играют здесь далеко не последнюю роль. Они, по мысли Н. Спайкмена, представляют собой наиболее стабильную составляющую мировой политики: «... в географии лежат ключи к проблемам военной и политической стратегии. География является самым фундаментальным фактором во внешней политике государств, потому что этот фактор самый постоянный. Министры приходят и уходят, умирают [146] даже диктатуры, но цепи гор остаются непоколебимыми» (Цит. по: Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., «Логос», 1998. С. 20). Выгодное географическое положение Кавказа, его богатые природные ресурсы делали его объектом притязаний, «точкой приложения силы» со стороны таких держав, как Россия. Турция, Персия. Многочисленные русско-турецкие и русско-иранская войны — свидетельство этому.
Таким образом, реализоваться как великая держава в конце XVIII—XIX вв. Российская империя могла и должна была на Кавказе. К этому ее толкали причины геополитические: захват новых территорий, контроль над Кавказом как стратегически важным регионом в борьбе с Турцией и Персией, и как путь в Закавказье, где Россия уже тоже определила свои приоритеты. К причинам социально-экономическим можно отнести опять-таки приобретение новых территорий, тем более, что страна с экстенсивным способом производства была заинтересована в них, особенно если территории эти были пригодны для ведения сельского хозяйства. Значительные изменения претерпела российская политика на Кавказе в последней трети XVIII вв., поскольку после Кючук-Кайнарджийского мира и особенно после установления протектората над Грузией изменились задачи России на Кавказе, а следовательно, расширился арсенал методов, с помощью которых эти цели достигались. Теперь России нужен был не просто дружественный и лояльный Кавказ, а Кавказ — часть Российской империи. Изменилась ситуация и в самой империи, восстание Пугачева сыграло непоследнюю роль в том, что правительство стремилось как можно быстрее заселить и освоить Предкавказье, хотя бы частично решив проблему малоземелья во внутренних губерниях. По мнению известного исследователя Кавказа А.В. Фадеева, «широким фронтом русский царизм приступил к завоеванию Предкавказья лишь с конца 70-х гг. XVIII в.» (Фадеев А. В. Очерки экономического развития степного Предкавказья в дореформенный период. М.,изд. АН СССР, 1957. С. 22). Причины возросшей политической активности царского правительства в этом направлении кореняться в начале разложения крепостного хозяйств России. Крестьянская война под предводительством Пугачева показала, что усиление феодальной эксплуатации внутри страны чревато опасными последствиями. Поэтому у русских дворян после 1774 года возникло стремление к расширению сферы крепостной эксплуатации в сторону южных степей окраин империи, к захвату и освоению плодородных южных земель.
Наконец, артикул 21 Кючук-Кайнарджийского трактата подтвердил древние притязания России на Кабарду, а косвенно и на осетинские земли, зависимые от кабардинских феодалов. Нельзя упускать из виду, что совместные действия грузинского ополчения и направленного в Грузию в 1769 году русского экспедиционного корпуса значительно укрепили политические связи правящих кругов России с грузинскими владетелями. Дальнейшее сближение с Грузией зависело от того, [147] насколько быстро удастся русскому правительству закрепить за Россией Предкавказье.
Во второй половине XVIII в. увеличилось число побегов на Кавказ из внутренних губерний России, что было следствием усиления феодальной эксплуатации. Правительство фактически узаконило это явление, выдавая за беглых их владельцам рекрутские квитанции. Это свидетельствовало о крайней заинтересованности государства в заселении Кавказа, пусть даже такими средствами. Но трудность заселения Кавказа славянами заключалась еще в том, что у горцев существовала набеговая система, то есть способ получения прибавочного продукта, основанный на грабеже, угоне скота, захвате пленных, поэтому поселения либо должны были быть защищены (например, крепостями) либо должны были уметь защитить себя сами (казаки, отставные солдаты). В 1765 году в поселении Моздок была построена крепость. В 1770 крепость Моздок становится городом и тогда же в него переселяются с Дона 100 семей казаков, которые вскоре образовали станицу Луковскую. Не лишним будет сказать, что в 1763—69 линия укреплений была продвинута от Кизляра до Моздока, что позволило заселять Моздок и область возле него. В 1770 на левом берегу Терека, между Червлёнским городком и Моздоком, то есть на расстоянии 100 верст, были поселены 517 семей волжских казаков, образовавшие станицы Галюгаевскую, Наурскую, Ищорскую, Мекенскую, Калиновскую.
Поскольку нападения горцев были далеко не единичны, Россия была вынуждена строить крепости с тем, чтобы защитить тех, кто будет осваивать новые земли. В 1777—1778 годах на линии от Моздока до Большого Егорлыка построено 10 крепостей, а при них 9 казачьих станиц: при крепостях Екатериноградской, Павловской, Марьинской, Георгиевской, Александровской — Волжского казачьего полка; Хоперского казачьего полка — при крепостях Сергиевской, Ставропольской, Малковской, Донской. Кроме казаков, при крепостях селились отставные нижние чины. В 1779 году таковых было 332 человека.
Самыми насущными задачами правительства были заселение Кавказа славянским населением, которое создаст там экономическую базу для армии, освоит край, а также переселяя крестьян, можно было решить остро стоявшую проблему малоземелья.
В целях расширения масштабов колонизации и ускорения ее темпов в 1782 году был издан указ, разрешающий раздачу кавказских земель дворянству. Исполнителем этого указа был назначен Г.А. Потемкин. Так, в 1782-1804 гг. было роздано более 400 тысяч десятин земель помещикам. В 1783 обер-прокурор князь Вяземский получил земли по левой стороне реки Кумы и на побережье Каспийского моря, всего 125 тысяч десятин. В 1786 в Георгиевском уезде Кавказской губернии 12 тысяч десятин получил граф Чернышев, более 16 тысяч десятин — Воронцов, несколько тысяч десятин — Безбородько. Надо отметить, что земли [148] раздавались при условии их заселения крестьянами в течение 6 лет. Но, как отмечают многие исследователи, помещики не спешили заселять полученные земли.
Еще одним способом, с помощью которого Россия вела освоение Северного Кавказа (да и не только его) было строительство крепостей, что практиковалось уже несколько веков. В 1777—1780 гг. была построена линия укреплений через Ставрополь к Азову. В 1777—1780 гг. возникли Ставрополь, Александровск, Георгиевск, Екатериноград как крепости Азово-Моздокской линии. В 1783 году между Россией и Грузией подписывается трактат в г. Георгиевске, согласно которому Восточная Грузия становилась российским протекторатом. Это внешнеполитическое событие толкало Россию к ускоренному покорению и экономическому освоению Кавказского края, который находился между Россией и Закавказьем.
Исследователи, в разные годы занимавшиеся изучением истории Кавказа в этот период, приходят к сходным выводам. Так, штабс-капитан Забудский, составляя свое «Обозрение Кавказского края...» в середине XIX в., писал: «Присоединение Грузии перенесло нашу границу в Закавказский край, и, таким образом, горские народы очутились в середине наших владений, как острова в океане; воинственность этих народов, их хищничество, привычка жить грабежом и быть свободными, не признавая никакой власти, вовлекало нас в кровавую и продолжительную войну с ними, мы с течением особых обстоятельств должны были перейти из обороны в наступательные действия» (Забудский. Обозрение Кавказского края по северную сторону главного хребта, в историческом, топографическом и статистическом описании // ТСУАК. Вып. 6. Ставрополь, 1914. С. 16). То есть, как считает этот военный исследователь, изменившееся геополитическое положение России на Кавказе должно было неизбежно привести к изменению методов, при помощи которых Кавказ должен был стать частью Российской империи. В этой ситуации начавшееся в 1783—1784 гг. строительство Военно-Грузинской дороги, которая должна была связать основанный в 1784 году Владикавказ с Тифлисом, было вполне закономерным шагом. В 1782—1784 годах были изданы указы Сената, ставшие основанием для раздачи земель государственным крестьянам на Кавказской линии. В 1784 году насчитывалось 14 казенных поселений. (Чекменев С.А. Переселенцы. Пятигорск, 1996. С. 53). С помощью переселения царское правительство продолжало решать геополитические задачи на Кавказе.
Таким образом, перед Российской империей последней трети XVIII в. стояла задача включения Кавказа в свой состав. Особую актуальность это приобрело после подписания в 1783 г. Георгиевского трактата о российском протекторате над Восточной Грузией. Эту проблему Россия в указанный период решала с помощью не только военных акций, но и с помощью заселения степного Предкавказья выходцами из [149] внутренних губерний (как крестьянами, в основном государственными, так и казаками), строительства крепостей, привлечения горцев на свою сторону, создания дорожно-транспортной инфраструктуры.
Изучение истории северокавказского региона представляется в наше время довольно актуальным в связи с новейшей российской политикой в этом перманентно неспокойном и нестабильном районе. Проведение исторических параллелей между политикой царского правительства на Северном Кавказе в начале XIX века и действиями российского правительства в конце XX и начале XXI века, естественно, не может привести к готовому решению многочисленных проблем, имеющих социальную и национальную окраску. Но это сравнение, несомненно, покажет более рельефно грани этих, кажущихся на первый взгляд неразрешимых, ситуаций, возможно, натолкнет на какую-либо простую, но здравую мысль.
В свете такого подхода определенный интерес представляет социальная политика царизма в отношении того региона, который в настоящее время называется Кавказскими Минеральными Водами.
Неисчерпаемым источником изучения истории курортов являются Акты Кавказской Археографической Комиссии, собранные под руководством историка А.П. Берже. Анализ многочисленных рапортов, предписаний, повелений, отношений, которые были собраны в канцелярии Кавказского наместника и представлены вниманию всех интересующихся, благодаря деятельности Археографической комиссии, свидетельствуют о большом интересе со стороны императоров всероссийских и администрации Российской империи на Северном Кавказе к минеральным источникам.
Император Павел I рескриптом от 8 октября 1800 года повелевает генерал-лейтенанту Кноррингу позаботиться об «обезпечении оных вод от вреда им происходящего от горцев» (АКАК, т. 1, с. 720). Стремление горских народов помешать появлению российских военных в районе минеральных источников, а также необходимость закрепления России в этом регионе, способствует возникновению крепостей у Кислого колодца и Горячего источника, названных Кисловодской и Константиногорской. [150]
Изучение целебных свойств минеральных источников идет параллельно с ведением военных действий. Высочайший рескрипт Александра I инспектору Кавказской Линии, Астраханскому военному губернатору и главноуправляющему в Грузии князю П.Д. Цицианову о признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства датирован 24 апреля 1803 года, а сведения, полученные с Кавказской Линии летом 1804 года, по-прежнему свидетельствуют о неспокойной ситуации в районе Кавказских Минеральных Вод: «Кабардинцы недавно у Малки весь редут в 30 Козаков Донскаго Кошкина полку побили, равно как и у Кислых вод тожь сделали с постом в 30 человек при старшине находящимся» (АКАК, т. II, с. 1018).
Несмотря на это, продолжается изучение минеральных источников, начатое еще в 1797 г. В этот год инспектор Астраханской врачебной управы Шатилевич доносил медицинской коллегии о некоторых действиях минерального источника, открытого близ Константиногорска. Для обследования источников в 1798 г. на Кавказ отправляются штаб-лекарь Левине и аптекарь Гернер. В 1801 г. химик Симонс присылает в медицинскую коллегию описание о горячем источнике на Кавказской линии в близи Константиногорска. В этом же году генерал от кавалерии Обрезков посылает описание Кавказских вод, которое заканчивается выводом о необходимости отправления на Кавказские минеральные воды лекаря и чиновника. Во исполнение предписания генерала Обрезкова в марте 1802 г. медицинская коллегия направляет на Кавказскую Линию штаб-лекарей Гординского и Крушневича, а так же аптекаря Швенсона. Как следует из отчета о работах, произведенных при строении в Константиногорске в 1806 г., около минеральных источников появились первые постройки, на возведение которых было истрачено 269 рублей 86,5 копейки.
Позже, побывавший на Кавказских водах штаб-лекарь Геннуш в своем рапорте генералу Ртищеву от 21 сентября 1811 г. писал: «Никогда к кавказским минеральным водам такого многочисленного стечения из ближайших и отдаленных мест страждущих недугами как сего 1811 лета не было» (АКАК, т. II, с. 931). Далее в своем рапорте доктор Геннуш указывает на те мероприятия, которые необходимо осуществить для улучшения условий, приезжающих на отдых больных. Среди них: ремонт зданий у горячих источников близ Константиногорска, постройка ванн у Кислого источника при Кисловодской крепости, строительство галерей, а также приезд еще одного врача и чиновника на воды. Для подкрепления своих выводов он приводит данные о вылечившихся и получивших облегчение от болезней на водах (89 выздоровело и 111 получило облегчение из 329 лечившихся).
В значительной мере положение на курортах изменилось в тот период, когда Кавказским наместником являлся А.П. Ермолов, умело [151] сометавший политику твердого, властного управления Северокавказским краем с развитием его социально-экономической базы. Многое было сделано для превращения местности Кавказских Минеральных Вод в действительно имеющую государственное значение, при этом меры эти не имели паллиативного характера, свидетельствуя о прочном утверждении власти Российской империи на Северном Кавказе.
Хочется согласиться с графом Дибичем, охарактеризовавшем таким образом управление А.П. Ермолова Кавказом: «После того порядка, в каком после Ермолова находился край, и того Екатерининского и Суворовского духа, которым Паскевич застал одушевленным войско, было легко пожинать лавры» (АКАК, т. VII, с. 11).
Таким образом, уже в начале XIX века российское правительство понимало важность района Кавказских Минеральных Вод, как в стратегическом отношении, так и в качестве рекреационной базы для кавказской армии. Кавказские военачальники и чиновники придавали большое значение развитию этого края, для чего необходимо было с одной стороны «замирение края», а с другой стороны — включение его в экономическую и административную системы империи.
Общественный строй у адыгов XVIII—XIX вв. был феодальным, с пережитками патриархальных отношений. Высшим сословием считались «пши» — князья; затем шли «уздени» — дворяне; они делились на несколько рангов. К элите общества относилось и высшее мусульманское духовенство. Непосредственными производителями являлись крестьяне (зависимые и свободные), челядь, рабы.
В адыгском обществе князь считался главой народа. Он имел право объявлять войну, заключать мир, имел решающее слово в народных собраниях.
У западных адыгских племен господствующей социальной единицей была сельская община — «псухо», или «куадж». Она была автономной, самоуправляющейся, по существу независимой единицей, а весь в целом общественный уклад западных черкесских племен представлял собой к середине XIX в. своеобразную федерацию мелких самоуправляющихся общин, совершенно независимых. Все общественные дела решались под руководством стариков на сходе. Это демократическое устройство западных адыгских племен приводило к крайней раздробленности межплеменных связей. [152]
Общественная жизнь адыгских племен строилась, в связи с отсутствием писаных законов, по традиционным обычаям. Свод этих обычаев, устно передавался из поколения в поколение, составляя целый кодекс обычного права, морали, правил поведения и приличий, он регулировал и отношения между сословиями, и семейную жизнь.
И. Бларамберг в своем описании Кавказа перечислил некоторые законы обычного права адыгов:
— Князь имеет право подвергнуть одного из своих узденей за серьезное преступление смертной казни или лишить его права собственности на его крестьян, стада и все его имущество.
— Князь имеет право приказать убить одного из своих крестьян за предательство, неподчинение или наглое поведение, или вместо этого разрушить его дом или продать всю его семью.
— Князь не имеет права вмешиваться в дела своего узденя при условии, что этот последний выполняет обязанности вассала, платит налоги, а его крестьяне не жалуются на него князю за притеснения.
— Князь имеет право даровать свободу своему крестьянину и сделать его узденем в награду за услуги (Бларамберг И., 1999).
Характерной особенностью общественного и семейного быта адыгов в XVIII — начала XIX в. являлось сохранение в нем архаических черт, обычаев и институтов, уходящих своими корнями в патриархально-родовой строй.
У адыгов неукоснительно почитались старшие. Старики главенствовали в семейных и родственных структурах, их мнение было преобладающим в судопроизводстве и отправлении религиозных культов. Именно старики в адыгских племенах были главами больших семей и родственных объединений, а также выбирались посредниками при тяжбах. О глубоком почитании старших по возрасту Бларамберг пишет следующее: «Слепое подчинение родителям и глубокое уважение к старшим по возрасту, соблюдается у этих народов самым скрупулезным образом. Сын не имеет права сесть в присутствии отца, то же самое не может себе позволить младший брат в присутствии старшего».
Большую роль в жизни адыгов играл этикет. Их этикет восходит к ранней стадии общественного развития, а свой классический облик получает при феодализме, когда его структура усложняется. С самых ранних лет дворянских детей приобщали к этикетной культуре, внушали им мысль об их исключительности, о превосходстве над людьми низких сословий. Этикет служил своеобразной визитной карточкой, критерием для определения социальной принадлежности человека, мерилом его нравственного и духовного развития. В связи с появлением у черкесов ислама появились и определенные этикетные нормы, характерные для этой религии. [153]
Своеобразной чертой общественного быта народов Северного Кавказа, в частности, адыгов был обычай гостеприимства, возникший, как отмечают исследователи, еще при родовом строе.
Веками сложившиеся традиции гостеприимства свято соблюдались, а их нарушение осуждалось общественным мнением. С того момента, как гость входил в дом, он считался находящимся под особым покровительством хозяина дома, который был обязан накормить гостя, уложить его спать, позаботиться о его лошади и проводить его по надежной дороге.
Лучшая пища откладывалась и хранилась для гостей. На трапезу с почетными гостями приглашались уважаемые соседи, родственники, Прибытие гостя являлось значительным событием.
Право гостеприимства распространялось и на преступников, но из них исключались те, кто украл помолвленную невесту или замужнюю женщину, нарушил супружескую верность или убил родителя.
У наиболее состоятельных людей имелась кунацкая — отдельный домик для приема гостей. При отсутствии кунацкой, гостя принимали в особой комнате, в общем доме.
Интересным фактом, касающимся гостеприимства, является то, что путешественник, покидавший населенный пункт без сопровождения, рисковал быть ограбленным со стороны тех людей, которые еще вчера оказали ему гостеприимство. Гость находился под защитой хозяина дома лишь до тех пор, пока прибывал в его доме. Стоило гостю покинуть дом, как его хозяин переставал нести ответственность за его безопасность и мог даже принять участие в нападении на бывшего гостя.
С обычаем гостеприимства тесно связано понятие куначества. Случалось, что знакомство, вытекающее из обстоятельств гостеприимства, перерастало в дружбу, а хозяин дома и путешественник становились кунаками. Куначество вело к установлению особых отношений типа побратимства. Кунак был обязан защищать своего друга любыми средствами, в том числе и оружием. В связи с расширением межэтнических контактов куначество в XIX в. получило дальнейшее развитие. В отличие от гостя, пользующегося гостеприимством хозяина однажды, кунаки постоянно были в дружеских отношениях.
Еще одним характерным порождением условий патриархально-родового строя у народов Кавказа, в том числе и у адыгов, являлось абречество. Под именем абреков (у черкесов — «хадтрет») имелись в виду люди, изгнанные из рода по каким либо причинам и находящиеся вне закона. Основным занятием абреков являлся грабеж.
Одним из пережитков родового строя, длительно сохранявшимся у адыгов, была кровная месть, которая передавалась от отца к сыну, от брата к брату. Бларамберг писал по этому поводу следующее: «Древний закон, который требует отмщения за пролитую кровь, существует [154] среди народов Кавказа, как и в среде других горских племен» (Бларамберг И., 1999).
Со временем стала допускаться материальная компенсация семье убитого. Размер «цены крови» у адыгов был строго дифференцирован по сословному признаку.
Кроме выплаты материальной компенсации существовал еще один способ примирить два враждующих семейства; надо было, чтобы обидчик выкрал ребенка в доме пострадавшего, взял его к себе на воспитание и вырастил в своем доме. Затем, когда выросший ребенок возвращался в родительский дом, все старые обиды прекращались.
Брак у адыгов был строго экзогамным. Не разрешались браки даже между однофамильцами по материнской или отцовской линии, а также между потомками двух лиц, находившихся в молочном родстве.
Хотя у северокавказских народов, исповедующих ислам, могло быть несколько жен, однако примеры многоженства у адыгов были редки, и только у богатых были по 2-3 жены, но очень редко.
Брак заключался с уплатой калыма родителями жениха отцу или близким родственникам невесты по мужской линии.
В XVIII в. за невесту платили холодным и огнестрельным оружием, доспехами. В начале XIX в. за невесту стали давать, главным образом, скот и лошадей. Во второй половине XIX в. в калым стали включать деньги.
Существовало три способа заключения брака:
— брак со сватовством и сговором;
— тайный увод невесты в случае несогласия ее родителей;
— насильственное похищение.
По нормам адата в XIX в. насильственное похищение девушки считалось оскорблением для всего рода; поэтому, если во время преследования похитителя родственники девушки настигали его, они могли убить его и за это не несли никакой ответственности. В большинстве же случаев молодые люди вступали в брак с согласия родителей.
У адыгов муж был полным хозяином своей жены, имел право на ее жизнь и смерть и отвечал за это только перед ее родителями.
Право на развод считалось привилегией мужчины.
В XVIII—XIX вв. у адыгов еще сохранялось аталычество — практика отдачи детей на воспитание в чужие семьи. Отец ребенка отдавал его на воспитание обычно в чужое племя. Аталык брал на себя обязательство воспитать ребенка, научить обычаям. В день совершеннолетия аталык возвращал своего воспитанника в родительский дом. Таким образом, устанавливалась близкая связь между двумя семьями.
В целом, следует отметить, что общественный и семейный быт адыгов в XVIII—XIX вв. сохранил множество архаических черт и обычаев, истоки которых лежат в патриархально-родовом строе. [155]
Возникающие в поле правового взаимодействия отношения по поводу власти в традиционных обществах осуществлялись в особых институциональных структурах, наличие которых, при всем их известном разнообразии, свидетельствует о потестарном характере социально-политического развития социума. В подобных обществах властные отношения реализовывались на разных уровнях общественной системы, оставаясь в пределах производственно-потребительской сферы. Функциональное содержание власти, соответственно, определялось объективной необходимостью поддержания равновесия, общественного баланса в процессе общественного производства и потребления, при этом решающее значение приобретали регулятивные функции власти.
Одним из важнейших институтов общественной саморегуляции в Осетии долгое время являлся институт старшин (старейшин), стоявших во главе родственных и общинных объединений разных уровней и олицетворявших исполнительную власть. Принципы, на которых базировался данный институт, были едины для всех звеньев общественной системы. Право первородства или старшинства, сопряженное с немалым моральным авторитетом, обеспечивало, с одной стороны, главенство в коллективе, а с другой — было залогом эффективного руководства всей его хозяйственно-практической деятельностью. В полной мере право «старшего» реализовывалось на уровне минимальной хозяйственно-экономической единицы — в семейной общине. Вне зависимости от степени сложности общественной структуры фигура старейшины символизировала для всех членов коллектива власть обычного права, и в его лице персонифицировались традиционные нормы общежития. Именно в семейной общине как низовой хозяйственно-экономической и социальной ячейке традиционного общества «отрабатывались» механизмы руководства и управления процессами в производственно-потребительской сфере, способные обеспечить стабильность и сбалансированность жизнедеятельности всей общественной системы. Основой же, объединявшей семью и общество, являлось статусное закрепление старшинства. Авторитет старшего символизировал для остальных членов, родственного коллектива социальный опыт поколений, обеспечивал нормальное функционирование общности, гарантировал социуму сохранение необходимого баланса в процессе производства-потребления, являясь в то же время той осью, вокруг которой строились отношения властвования в семейной общине. [156]
Эволюция властных отношений ко времени присоединения Осетии к России достигла уже того уровня, когда обособились и начали выделяться в качестве самостоятельных не только семантически разнородные категории властвования, но и структурные аспекты власти. Этот процесс обозначился в появлении нескольких дополнявших друг друга «специализированных» институтов, за которыми можно усмотреть своего рода функциональные прообразы различных аспектов власти. Однако процесс, направленный в сторону «разделения властей», отнюдь не был доминирующим в развитии властных отношений в осетинском обществе. Эволюция их шла, скорее, не по линии структурного распределения власти, а по линии «единоначалие — коллективное управление», на каждом из полюсов которой могли одновременно реализовываться и исполнительные, и законодательные функции общественной власти.
Характер и объем функций, закрепленных традицией за патриархальными властными институтами, варьировали соответственно сложности социальной единицы. В патронимии функции распоряжения, вменяемые ее главе («хистару»), оказываются несколько ослабленными за счет сужения сферы его компетенции: институт главы предназначался для осуществления управления преимущественно хозяйственно-бытовой деятельностью патронимического коллектива. Вопросы же, прямо или косвенно касавшиеся самих основ единства патронимии и в равной степени затрагивавшие интересы всех ее членов, рассматривались как наиболее важные и решение их отводилось «ныхасу» — институционально оформленному совету членов патронимии.
Принцип старшинства оставался основополагающим и при выделении старшего в патронимии. В этом случае старшинство как качественная характеристика экстраполировалось на целую группу, по-прежнему сопрягаясь с авторитетом. Однако в патронимии единоначалие старшего сдерживалось в гораздо большей степени, чем в семейной общине. Авторитарная власть хистара в патронимии была ослаблена за счет введения в систему управления общего собрания всех взрослых членов патронимии — «ныхаса», институционально закрепившего особую роль в общественной самоорганизации коллективистского начала.
В «мыггаг» принцип единоначалия востребован в еще меньшей степени, чем в патронимии, — авторитарное полновластие главы семейной общины, сдерживаемое лишь некоторым образом семейным советом, уступило место коллективному управлению, и принцип коллегиальности поддерживался при регулировании как духовной, так и хозяйственно-практической сферами жизни фамилии. Совет старейшин («мыггаджи хистарта»), который может рассматриваться в качестве институционального эквивалента хистара в семейной общине и патронимии, с функциональной точки зрения не вполне ему тождествен: [157] право распоряжения, которым в полной мере обладал глава семейной общины и которое распространялось как на хозяйственную, так и на идеологическую стороны жизни управляемого им коллектива, на уровне совета старейшин фамилии ограничено преимущественно морально-идеологической сферой жизнедеятельности «мыггаг». Функции старейшин, входивших в фамильный совет, сводились к представительским и контролирующим; вопросы же, касающиеся коллективных интересов общины, находились вне компетенции старейшин. Что же касается действительного руководства практической деятельностью фамилии, то оно осуществлялось общим собранием — фамильным ныхасом. По сути ныхас представлял собой коллективный орган, осуществлявший законодательную инициативу, в то время как за институтом совета старейшин оставались преимущественно исполнительские функции, хотя объем прав и обязанностей каждого из этих органов общественной саморегуляции не был жестко регламентирован, являясь внутренним делом коллектива (патронимии, фамилии). Полифункциональность, характеризующая деятельность старейшин и ныхаса, являлась следствием институциональной неоформленности процесса разграничения структурных аспектов власти.
Роль старейшин и пределы распространения их влияния варьировали в зависимости от конкретных социально-экономических параметров. Строго говоря, руководящие функции на общесельском уровне практически полностью отошли от совета старейшин к сельскому ныхасу; за старейшинами же сохранились функции представительства и распоряжения и, частично, функции контроля за исполнением принятых на ныхасе постановлений. Но и в этой области роль старейшин не была исключительной, поскольку в осетинской сельской общине существовал институт выборных лиц для наблюдения за исполнением постановлений ныхаса.
С усложнением социальных единиц усложнялись и отношения властвования, и практическая надобность в таком исполнительном органе, как совет старейшин, отходила на задний план — его место в регулировании социально-экономических отношений заняли общинные собрания разных уровней. И все же институт старейшин функционировал и на уровне сельской общины, где он все более и более ограничивался воздействием на «морально-психологический климат» в коллективе. Принципом, лежавшим в основе формирования института старейшин, оставался принцип старшинства. Личные достоинства наряду с факторами социально-экономического и социально-психологического порядка лежали в основе авторитета старшего, утверждая его влияние в процессе регулирования жизнедеятельности коллектива. Традиция почитания старшинства и персонифицированного авторитета оставалась настолько сильной, что сохраняла этот институт как одно из важнейших звеньев системы общественной саморегуляции, имевшее [158] место на всех уровнях социальной организации. Единственной, пожалуй, прерогативой этого института, которой не касались функциональные модификации, оставалось регулирование духовно-практической деятельностью коллектива, членов которого связывало сознание родства и соседства.
В том, что институт старейшин продолжал функционировать на каждой из ступеней общественной организации, заключена его социальная символика, свидетельствующая о властном могуществе родства в традиционном обществе. Сама же власть как авторитетно-властное полномочие воспринималась в качестве особого типа межличностных отношений, которые строились на признании авторитета старшего, закреплялись устной традицией и регламентировались установлениями этикета межличностного и межгруппового общения. Почитание старшего, подкрепленное его экономическим всесилием в семейной общине и моральным авторитетом, основывающемся на личностных достоинствах, — в более сложных общественных структурах, становилось необходимым и обязательным атрибутом подчинения, основой того «социального порядка», при котором только и возможно сохранение общественного равновесия, гарантирующего социуму его воспроизводство.
Стремясь по возможности к мирному и безболезненному решению кавказского вопроса, российское правительство привлекало к обсуждению возможных мер по умиротворению региона, выходцев из этих мест, которые лучше всего знали особенности национального менталитета местных жителей.
Среди проектов, предложенных российскими офицерами-горцами, следует сказать о мерах, предлагаемых князем Ф.А. Бековичем-Черкасским. 3 сентября 1829 г. он представил И.Ф. Паскевичу «Замечания касательно просьбы кабардинского народа и средства к улучшению благосостояния оного», в которых подробно излагал план, предусматривающий «прекращения всех... беспорядков и восстановления Кабардинцев на стезю прочную, могущую впоследствии довести их до цветущего состояния». Среди причин, вызывающих в Кабарде волнения и толкающих людей на грабежи и разбои, Бекович-Черкасский выделял неурегулированность вопроса собственности. Поэтому предлагалось: «1) Приступить к размежеванию земель, помещикам принадлежащим, и наделению поселян участками. 2) Произвести ревизию душ, снабдить [159] владельцев от Российского правительства законными актами, по рассмотрении у них имеющихся, на право принадлежности им крестьян. 3) Определить подати, кои постоянно хлебопашцы, скотоводы и промышленные всякого рода должны вносить своим помещикам. 4) Какие каждый класс людей обязан исполнять государственные повинности. 5) Определить власть владельцев над их подданными, дабы сии последние ни в коем разе не выходили из границ должного повиновения, и наконец 6) Постановить законом, что буде кто либо из помещиков после сего благодетельного распоряжения осмелится нарушить право оседлой жизни, то, кроме наказания, от такового будут владения, ему принадлежащие, отобраны и обращены в пользу казны».
Ничто так не улучшает нравы, по мнению Бековича-Черкасского, как знакомство с роскошью. Чтобы преподать кабардинцам пример выгоды мирной жизни, он высказывался за основание около крепости Нальчик города, в который следовало заселить семейства татар. Будучи мусульманами, они «целые столетия наслаждаясь оседлостью и приобвыкши к спокойной и трудолюбивой жизни... послужат хорошим примером для Черкесов, от сего удаленных». В городе следовало открыть суд, состоящий из кабардинцев, которые, учитывая национальные особенности, производили бы рассмотрение жалоб и просьб местных жителей. Выступал князь и за возвращение на прежние места бежавших за Кубань жителей Кабарды, в которых он видел источник постоянного недовольства российской властью.
Особо выделялось значение образования. В планируемом городе предполагалось открыть училище для детей. В городе следовало иметь мечеть, в которой богослужение осуществлялось бы верным правительству духовенством. В своих проповедях они должны были прививать жителям мысль о необходимости быть преданными российскому престолу (АКАК, 1878).
По мнению Р.У. Туганова, «значение, придаваемое Бековичем священнослужителям, весьма симптоматично. Оно свидетельствует о понимании им той роли, которую заняли догмы ислама в общественной жизни кабардинского народа. В этом отношении позиция Бековича гибче, чем генерала Ермолова, предлагавшего руководствоваться при административным управлением Кабардой в основном нормами обычного права» (Туганов Р.У., 1998).
В 1836 г. Крым-Гирей-Мамет Гиреевич Хан-Гирей, состоявший в лейб-гвардии Кавказско-горском полуэскадроне, предоставил для рассмотрения в Генеральный штаб записку «Предложения о средствах приведения черкесов в гражданское состояние кроткими мерами, с возможным избежанием кровопролития», в которой выдвинул целый комплекс мер по мирному решению кавказской проблемы. Суть их сводилась к введению для адыгских народов новой системы управления и судопроизводства, которая вместе с просветительской работой должна была [160] способствовать изменению нравов воинственных горцев. В частности предполагалось создать два духовных правления с муфтиями во главе, предназначенных следить за поведением духовенства. А планируемый суд Хан-Гирей видел состоящим из представителей от разных сословий, но с преобладанием княжеско-дворянской верхушки. Суд осуществлял бы разбор дел, опираясь на обычное право и на шариат, в зависимости от рассматриваемого вопроса. Для детей князей, дворян и простого народа Хан-Гирей предлагал открыть пять школ, в которых обучение должно было происходить раздельно, в зависимости от социального происхождения учащихся. Связующим звеном между черкесами и российской администрацией становился попечитель, подчинявшийся непосредственно главнокомандующему на Кавказе. Кроме того, стремясь не допустить разорения высших сословий, Хан-Гирей выступил с предложением переселить ряд адыгских племен на новые территории (Косвен М.О., 1961).
В 1837 г., когда Хан-Гирей был отправлен на Кавказ для организации встречи горских депутатов с Николаем I (Гордин Я.А., 2000), ему среди прочих поручений было дано задание «начертать проект положения об управлении, которое в покоряющихся горских обществах установлено быть может. В положении этом, сколь возможно, менее должно быть допущено отступлений от коренных обычаев горцев (не противных общественному порядку и благоустройству), но, вместе с тем, оно должно заключать достаточные ручательства в постепенном развитии образованности народа, в смягчении его нравов и в сближении его с Российским населением края» (АКАК, 1881).
Незамедлительно взявшись за исполнение этого задания, он в сентябре 1837 г. представил А.А. Вельяминову «Проект положения об управлении горскими народами», в котором дал краткий обзор внутреннего состояния черкесских племен, а затем в 54 пунктах изложил свои предложения по благоустройству Закубанского края.
Особое внимание Хан-Гирей уделял проблеме судопроизводства. За основу им была взята идея временного кабардинского суда, опыт которого он хотел использовать. Предполагалось создать три самостоятельных судебных учреждения: духовное, третейское и окружное. В обязанность духовного суда входило рассмотрение семейных и религиозных вопросов. На долю третейского — тяжбы, которые разбирались в соответствии с обычным правом — адатом. Если решения по адату не устраивали тяжущиеся лица, они могли просить разобрать их дело в шариатском суде. В случае обжалования решений шариатского и третейского судов дело передавалось в окружной суд. В него входили князья, первостепенные дворяне и один эфендий или кадий, кандидатура которого рассматривалась российскими властями. Деятельность окружного суда контролировалась местной военной администрацией. Фактичсски [161] судебные органы должны были осуществлять контроль над населением.
Хан-Гиреем задумывалось создание «Главного духовного правления», в которое вошли бы кадий и два эфендия, назначенных кавказской администрацией. Они привлекались для осуществления контроля за мусульманским духовенством, подчиненным «Главному духовному правлению», которое, в свою очередь, было подотчетным российскому начальнику. Предполагалось, что при духовном правлении будет действовать училище, готовящее кадры из мусульманского духовенства, и его выпускники будут с помощью Корана прививать адыгам чувство преданности России.
Среди предложенных административных преобразований в проекте предусматривалось создание округов и участков. Каждый округ объединял территорию проживания определенных этнических групп. Во главе него находился пристав. Его деятельность контролировалась как главным приставом, так и начальником кордонной линии. Предусматривалось и введение должности попечителя горских народов.
Эти изменения, по мнению Хан-Гирея, соответствовали интересам большинства черкесского народа, учитывали их обычаи и традиции, а потому были бы полезны в деле мирного освоения Закубанья.
20 июля 1838 г. Хан-Гирей вновь обращается со своими предложениями к недавно назначенному командующему Отдельным Кавказским корпусом Е.А. Головину. Его записка «Краткое изложение о предварительных мерах к устройству закубанских мирных племен» содержала предложения провести ряд реформ в области внутреннего управления адыгов. При этом он настаивал, что не нужно дожидаться окончательного «замирения» Северо-Западного Кавказа, а уже сейчас приступить к обустройству контролируемых территорий. (Кумыков Т.Х., 1968).
Хотя предложения, высказанные офицерами-горцами, так и не были реализованы на практике в полном объеме, они все же оказали определенное воздействие на правительственные круги и помогли лучше понять специфику северокавказского региона.
Ко времени превращения Ставрополя в город, в русской архитектуре сложилась интересная ситуация. Существовавшие ранее стили барокко и классицизм, начинают отходить на второй план. Особенно отчетливо черты кризиса обоих стилей проявились после победы в Отечественной войне 1812 г. Бурный рост города, торжество национальной [162] гордости и самосознания требовали новых форм в архитектуре и, если, в светском строительстве, еще продолжали существовать оба эти стиля, с небольшими вариациями, на короткий период появился стиль «ампир», то культовое строительство было более однородным, определив для себя основные архитектурные приемы.
13 декабря 1817 г. вышел указ «Об устройстве городов и селений» с многочисленными детальными предписаниями, что, как и где строить. При такой унифицированности застройки повышалась роль культовых зданий в архитектурном пространстве города. В 35 пункте Указа говорится: «Не позволяется заводить церквей в селениях и иначе, как на площадях; среди же обывательских домов построения строго воспрещаются». Художественнообразная сторона церковного строительства в большей степени подвергалась регламентации, нежели светского. Русско-византийский стиль стал ведущим для культового зодчества, формальная сущность русско-византийского стиля заключалась в использовании архитектурных образов и форм средневекового русского зодчества в эклектическом сочетании с элементами византийской архитектуры. Обычно это были крестообразные в плане церкви с большим центральным куполом на четырех внутренних опорах с малыми куполами на углах здания. Этот прием позволял удовлетворять требованиям Синода об обязательном пятиглавии.
В 1841 г. был принят закон, который указывал, что «могут с пользой принимаемы быть в соображении чертежи, составленные на построение православных церквей профессором Тоном». Через три года был издан альбом чертежей построенных К.А.Тоном церквей и проектов храмов в русско-византийском стиле, рекомендованных в качестве образцовых для повсеместного использования и подражания.
С 1807—1850-е гг. в Ставрополе было построено два собора, пять приходских и три домовых церквей, а также основан женский монастырь.
Наиболее величественными сооружениями были соборы. Троицкий собор с двумя приделами во имя Пр. Сергия Радонежского и Св. Николая (находился на месте гостиницы «Интурист»). Построенный одним из первых (1807 г), Троицкий собор вобрал в себя черты как древнерусского храмового искусства, черты московского или «нарышкинского» барокко, так и черты белорусско-украинского зодчества. Такая неоднородность и пестрота художественного образа была характерной для первой половины XIX в. Ярусные постройки, когда основной объем — «четверик», а на нем стоит уменшающийся граненый объем — «восьмерик», увенчанный куполом, — такие приемы строительства характерны для белорусского и украинского зодчества. Именно такова была архитектура Троицкого собора. Зато колокольня — дань традициям древнерусской архитектуры — имела завершение в виде шатра, напоминающего о княжеских хоромах и боярских теремах древней Руси. [163]
Самым грандиозным сооружением середины века был Кафедральный собор Казанской иконы Божьей Матери, воздвигнутый на Крепостной горе в 1842—1847 гг. архитектором Дурново. Он стал доминантой города, служил точкой привязки улиц, от него велся отсчет, на него ориентировалось последующее градостроительство.
В 1842 г. проект церкви, составленный Тоном был утвержден царем, а в Ставрополе был учрежден Комитет по постройке, в который вошел архитектор Берншейн; от архиепископа Афанасия была получена «храмозданная грамота». 22 июля 1843 г. члены Комиссии отвели участок между Гостиным двором и Комиссариатскими зданиями, испытали и освидетельствовали грунт отведенной земли, удостоверив её надежность для предполагаемой постройки. Летом того же года произошла торжественная закладка храма. Строительство его велось до 1847 г., надзор за строительством сначала осуществлял архитектор Бернштейн, затем его помощник Славянский.
Проект пятикупольного храма Тона был принят за основу, монументальность и величие собора достигалось благодаря единству и целостности кубического объема здания. Такое стремление к центричной композиции стало характерным для церковной архитектуры XIX в., в отличие от вытянутых осевых планов древнерусского зодчества.
В Ставрополе появилась еще одна достаточно вместительная, удобная приходская церковь. Около 800 человек могли одновременно присутствовать на службе в храме. Но, не успев побыть приходской, церковь стала Кафедральным собором: к этому времени (1847 г.) кафедра Преосвященника была перенесена в Ставрополь и Указом Святейшего Синода (от 20 августа 1847 г.) церковь была переименована в Кафедральный собор. Новый статус требовал внешнего величия и дополнительного пространства. Последующие пятьдесят лет (вся вторая половина XIX в.) прошли в заботах Преосвященника Иеремии, а затем Фиофилета о новом строительстве, расширении площадей, украшении интерьера.
Почти через двадцать лет при соборе начинается строительство 70-метровой многоярусной колокольни по индивидуальному проекту архитектора П.Воскресенского. Она обладала оригинальной, не «тоновской» архитектурой. Сочетание контрастных по форме трех ярусов — редкое явление в XIX в. Первый основной этаж — четверик, играл роль высокого пьедестала для следующего меньшего объема восьмерика, каждая грань которого была прорезана длинным узким проемом с овальным завершением. Эта линия завершалась декоративным элементом — кокошником.
Восьмигранные ярусы в колокольнях были большой редкостью в XIX в. А ведь именно благодаря «многогранности» объема звук колоколов разносился во все стороны. Если учесть к тому же, что соборный комплекс был построен на Крепостной горе, а застройка центра не была столь [164] плотной и не обладала этажностью, то можно верить, что звон колоколов Кафедрального собора был слышен даже за пределами Ставрополя. Колокольня имела т.н. ротондальное завершение: последний ярус — «слух» был круглым — дань стилю классицизм. Он так же имел высокие с полукруглым завершением окна — проемы и нес на себе главку-луковку. Сияющая золотом главка колокольни, мощные купола пятиглавого собора были заметны на десятки километров.
Стремление подчеркнуть общественное и официальное назначение собора привели к тому, что архитектура и размеры колокольни отодвинули сам собор на второй план. П. Воскресенский создал оригинальный образ, подчеркивающий сухость и холодность тоновского типового проекта. Стройная колокольня с подчеркнутым вертикализмом, «затмила» собор, и архитектурного ансамбля в строгом смысле не получилось. Слишком разная архитектура колокольни и собора противопоставили их друг другу.
Чтобы увеличить полезную площадь собора и разнообразить его архитектуру в конце XIX в. планировалось пристроить еще два придела. Но этому помешали события начала века — война, а затем революция.
Несмотря на архитектурные и функциональные недостатки, Ставропольскому Кафедральному собору и его служителям суждено было сыграть значительную роль в истории города и губернии. Особой любовью населения пользовался Преосвященный Фиофилет, много лет возглавлявший Ставрпольскую епархию, и окончивший свои дни здесь в Ставрополе. Это была большая редкость для священника такого ранга — долгое время служить в одной губернии. В 1873 г. Фиофилет был захоронен в Соборе. В Соборе было произведено всего два захоронения — Фиофилета и почетного гражданина города, купца-мецената, старосты Собора А.Ф. Нестерова (1903 г.). В настоящее время мощи Фиофилета были перенесены в Андреевский собор.
В конце XIX — начале XX начинает формироваться архитектурно-пространственная среда вокруг Собора. Процесс застройки прервала Гражданская война. В годы войны в стенах Собора Деникин, возглавивший Белое движение, получил благославение. Документальных свидетельств о том, что происходило с Собором в 20-30-е гг, нет. Но из воспоминаний старожилов известно, что он силами заключенных местной тюрьмы был разобран на камень, как и большинство церквей. Частично был разобран даже фундамент. Колокольня на 10 лет пережила Собор. В предвоенное время её использовали как парашютную вышку. В первые годы войны громкоговоритель, установленный на колокольне, предупреждал горожан о налетах немецкой авиации. В 1943 г. под предлогом того, что колокольня — удобная мишень для авиации, она была взорвана. С тех пор Крепостная, а затем Кафедральная площадь стала именоваться Комсомольской. [165]
Строились в Ставрополе храмы и в стиле «классицизм». Таков был несохранившийся до наших дней храм Спаса Нерукотворного, основанный в 1838 г. купцом И. Волобуевым на втором этаже своей лавки в Гостином ряду (сегодня пр. Маркса, строение № 73-79). В 40-е гг. здание было полностью перестроено под церковь. Храм имел строгий классический фасад — выносной портик с восемью круглыми колоннами, широкий плоский купол (характерный для архитектуры южных регионов) лежал на невысоком восьмигранике. Благородство и чистота линий фасада, лишенного декора, подчеркивалось рядом широких с полукруглым завершением окон второго этажа.
Во второй половине XIX в. строятся Варваринская церковь (ныне угол ул. Комсомольской и Р. Люксембург), Софийская церковь (на месте Медакадемии), Георгиевская церковь (ныне ул. Мичурина 49), Крестовоздвиженская церковь (ныне ул. Голенева,1), Преображенская церковь (здание сохранилось и принадлежит военному госпиталю). Даниловская кладбищенская церковь (угол ул. Балахонова и 8 Марта), Евдокиевская (ныне р-он ул. Трунова и пер. Интернатского). Все эти церкви были каменные, крытые куполами с золочеными главками.
Ставрополь был городом многонациональным и веротерпимым. Помимо православных, в городе были армянская церковь (район Нижнего рынка), синагога (р-он ул. Советской и Крепостной горы), католический собор (р-он пр. Октябрьской революции и ул. Ленина). В первое десятилетие XX века по проекту Г. Кускова была построена мечеть (ныне выставочный зал П.М. Гречишкина). Сохранилась и действует в соответствии со своим первоначальным назначением Успенская церковь (в последние годы дополненная пристройками), а так же Андреевская церковь (постройка 1897 г., архитектор Г. Кусков), имеющая ныне статус Кафедрального собора Ставропольской епархии.
Живописный рельеф, обилие зелени: каштаны, дубы, тополя и повсюду золотые купола белокаменных храмов и высоких звонниц — таков был облик Ставрополя в XIX столетии.
Многовековое взаимодействие оседлых и кочевых обществ протекало в самых разных формах. Мирные контакты и войны, миграции и нашествия тесно связывали земледельцев и степных скотоводов древности и средневековья. [166]
XIX век внес значительные коррективы во взаимоотношения оседлого и кочевого населения. Северный Кавказ в этот период продолжает оставаться объектом пристального внимания трех государств: России, Турции и Ирана. В результате успешных для России войн (русско-турецкой и русско-персидской) большая часть Северного Кавказа стала находиться в составе Российской империи. Как известно. Северный Кавказ является полиэтничным регионом. И, следовательно, российским властям требовалась умелая система организации управления над народами, издревле здесь проживающими. Таким образом, одним из аспектов северокавказской политики правительства являлось установление дружественных отношений с местными народами.
Российские власти уделяли значительное внимание взаимоотношениям с жившими в Предкавказье кочевниками: калмыками, ногайцами и туркменами.
Первым народом, который подпал под влияние местной администрации, были калмыки. До XIX века российские власти не вмешивались во внутреннее управление калмыков. Но в начале XIX века, в связи со сложной внешнеполитической обстановкой в регионе, власти для укрепления южных рубежей России, начали проводить более активную политику по отношению к кочевникам.
Прежде всего стоит отметить, что местная российская администрация старалась реализовать основные положения законодательной политики правительства осторожными мерами. С этой целью они вернули звание наместника калмыцкого ханства Чучею Тундутову. Правительство восстановило совет — Зарго.
Назначением наместника ханства русские власти не ограничивались. Под контроль правительства подпало назначение Ламы — высшего духовного лица. Таким образом, власти поставили под контроль не только светскую власть, но и духовную. Важно отметить, что российская власть отличалась веротерпимостью. Уважительное отношение к вере калмыков — буддизму в тоже время не мешало поощрять принятие христианства. Со временем власть наместника ханства была ограничена, он стал подчиняться астраханскому военному губернатору. В дальнейшем, после смерти Чучея Тундутова, звание наместника было упразднено. Совет Зарто вместе с главным приставом окончательно был подчинен астраханскому губернатору. В помощь Главному приставу назначалось несколько чиновников — улусных частных приставов.
Судебная юрисдикция Зарто была ограничена. Уголовные преступления рассматривались российскими судебными инстанциями. Неудовлетворенность российских властей ведениями дел в Зарто, привела к еще большему ссужению их компетенции.
Постепенно калмыки становятся полноправными гражданами Российской империи. С этой целью были разработаны «Правила для управления калмыцким народом», утвержденные императором 10 марта [167] 1825 года. Теперь делами калмыков ведало Министерство внутренних дел. В законе был четко определен круг деятельности Министерства внутренних дел. Таким образом, система российского «попечительства» обретало более реальные черты. Министерство занималось организацией управления кочевниками, составной частью которого являлся контроль над благосостоянием калмыцкого народа.
Для более удобного управления кочевниками были образованы местные органы власти — улусные управления, во главе которых стояли улусные приставы, в дальнейшем, они будут названы попечителями. Таким образом, российские чиновники держали в своих руках основную часть управления.
Официально система российского «попечительства» была оформлена «Положением 24 ноября 1834 года», которое вступило в законную силу 1 января 1836 года. Законодательным путем вводилась должность Главного попечителя калмыцкого народа. В трех улусах были созданы ярмарки, помимо уже существовавших. Важное место в политике российского «попечительства» отводилось пресечению различных инфекционных заболеваний. Власти не ограничивались этими мерами. В 1847 году было издано новое «Положение по управлению калмыцким народом». Этот документ был направлен на создание единого правового пространства на Северном Кавказе.
Основная цель этого документа заключалась в приближении статуса калмыков к статусу государственных крестьян.
Для обустройства земледельческого быта калмыков создавался общественный капитал. В законе определялись суммы, которые должны были идти на привлечение кочевников к занятию земледельческим хозяйством. Система российского «попечительства» более четко была организована над калмыками.
В 1827 году был издан «Устав для управления внутренними инородцами», в котором также отмечалось управление ногайцами и туркменами с учетом их традиций. На первых порах, частные приставы призваны были собирать сведения об обычаях кочевых народов. Основная цель такой политики была организация более правильного управления ими.
Было организовано 5 приставств, во главе которых стояли частные приставы со своими помощниками. Как и по отношению к калмыкам российские власти действовали осторожными мерами.
Подводя итоги вышеприведенному «попечительству» давало свои положительные результаты. Кочевники обзавелись земледельческим хозяйством, их жизнь стала более стабильна и благоустроена. Номады стали полноправными гражданами Российской империи. В целом грамотная политика российских властей сыграла немаловажную роль в укреплении российских позиций на юге страны. Значительные итоги российского «попечительства» были достигнуты и видны в конце XIX — нач. XX века. [168]
Отношения Российского государства с народами Северного Кавказа имеют многовековую историю. Одним из доказательств является упоминание в «Повести временных лет» о походе князя Святослава в 965 году на Северный Кавказ.
Древнерусским центром на Кавказе было Тмутараканское княжество, которое заложило основы для тесных контактов с Северокавказским регионом. На протяжении последующих веков эти связи продолжали развиваться. Свое выражение они находили в торговле, заключении брачных союзов, но особенно стоит выделить многочисленные посольства. В результате, к концу XVIII века практически все народы Северного Кавказа (Дагестан вошел в состав в 1813 г.) добровольно приняли подданство России.
Затем наступил XIX в., в котором его первая половина получила в исторической науке такие наименования как «Кавказская война», «Национально-освободительное движение», «Антифеодальная и антиколониальная борьба». Под всеми этими определениями подразумевался конфликт с участием России, народов Северо-Восточного и Северо-Западного Кавказа.
Термин Кавказская война ввел Р.А. Фадеев, его главный труд получил название «Шестьдесят лет Кавказской войны». В 1936 г. с подачи Сталина появился термин «Национально-освободительное движение». В 50-х гг. XX в. появились понятия: «народно-освободительное движение», «антифеодальная и антиколониальная борьба».
Однако если открыть Большую Советскую энциклопедию, Большой энциклопедический словарь, или даже учебник советского времени, то там фигурирует словосочетание Кавказская война (1817—1864 гг.).
Историки уже успели окрестить Кавказскую войну неординарным, специфическим явлением. И по тому количеству вопросов, которые возникают при прочтении монографий, статей, заметок можно сделать вывод, что исследователям еще далеко до раскрытия сущности явления под название «Кавказская война».
Правы Д.Олейников и В.Бондарев, утверждая, что «...можно чуть ли не после каждого слова поставить вопросительный знак. Начиная прямо с заголовка (Кавказская? война?) и дат её начала (1817?) и тем более окончания (1864?)».
Тем не менее, как было отмечено в учебной литературе и в энциклопедических справочниках приводятся именно эти даты.
Начало войны обычно связывают с деятельностью А.П. Ермолова, назначенного еще в апреле 1816 г. командиром отдельного Кавказского [169] корпуса и управляющим гражданской частью на Кавказе и в Астраханской губернии, который стал осуществлять планомерное наступление на горцев.
Дата окончания войны связана со взятием в мае 1864 г. последнего очага сопротивления черкесского племени убыхов — Кбаады.
А если заглянуть в учебник «История России» под редакцией А.Н. Сахарова, то там окончание войны обозначено 1859 г., т.е. годом, когда был пленен Шамиль.
Р.А.Фадеев предлагал свой вариант: «Начало Кавказской войны совпадает с первым годом текущего столетия, когда Россия приняла под свою власть Грузинское царство» (Фадеев Р.А., 1860). Имеется в виду 1801г.
Современный исследователь Х.М. Думанов, соглашаясь с датой окончания Кавказской войны (1864 г.), в качестве ее начала предлагает дату 1779 г. Х.М. Думанов пытается доказать, что Кавказкая война началась с завоевания Россией Кабарды. И дата взята не случайно 29 сентября 1779 г. на р. Малке произошло довольно серьезное вооруженное столкновение между генералом Якоби и кабардинцами. После чего на кабардинцев была возложена тяжелая контрибуция: «10 тысяч рублей деньгами и дань натурою: 2150 лошадей, 4759 голов рогатого скота и 4539 овец...» (Кудашев В.Н., 1913).
Далее Думанов говорит о том, что «в 1804 г. генерал Глазенап повторил нападение на кабардинцев, в результате которого река Камбалеевка в течение недели была красной от крови убитых кабардинцев», и «в апреле 1810 г. царские войска напали на Кабарду... было сожжено около 200 кабардинских аулов...» (Думанов Х.М., 1991).
В 1822 г., по словам Думанова, Кабарда была насильственно присоединена к России, во главе встал начальник Кабардинской линии, которому стали подчинятся князья.
Таким образом, Думанов определил и новый этап в Кавказской войне — военные действия против Кабарды (1779—1822 гг.).
В учебнике «История России XIX — нач. XX вв.» под ред. В. А. Федорова временные рамки Кавказкой войны указываются в пределах 1830—1864 гг.
Дата, взятая за начало Кавказской войны, объясняется следующими событиями: в 1828 г. первым имамом Дагестана и Чечни становится Гази-Магомед (Кази-мулла). Он стал проводить агрессивную политику в отношении своих соседей — Аварского ханства и Шамхальства Тарковского. В 1830 г. Гази — Магомед объявляет газават России. В ответ, генерал Паскевич в том же году в специальной «Прокламации к населению Дагестана и Кавказских гор» помимо всего прочего объявил имаму войну. С этого момента Россия втягивается во внутренние распри народов Северного Кавказа. С этого момента началась Кавказская война. [170]
Такое разнообразие мнений по поводу хронологических рамок Кавказской войны показывает, насколько еще слабо изучена эта проблема. И вновь, можно согласиться с характеристикой данной исследователями, что эта война — сложное и довольно специфическое явление в истории как народов Северного Кавказа, так и России в целом.
Мир Кавказского корпуса в период ведения Россией военных действий был особым человеческим миром, в котором формировались причудливые и парадоксальные представления о жизни. В этом мире вырастали удивительные, талантливые и неординарные во всех отношениях (включая и внешний вид) личности. Долгая, кровопролитная и истребительная война в совершенно иных условиях, чем в Европе, формировала на Кавказе совершенно новый тип военачальника. В условиях борьбы с нерегулярным и подвижным противником, невозможность угадать время и место встречи с ним, храбрость, способность к импровизации, владение информацией и решительность значили куда больше, чем педантичное следование установленным шаблонам. О многих из этих оригинальных людей ходили легенды: Засс, Бакланов, Евдокимов, Круковский, Слепцов ...
Индивидуальность нигде не проявлялась столь ярко и отчетливо, чем во внешнем виде генералитета Кавказского корпуса. Общее в облике различных его представителей проявлялось лишь в том, что каждый ориентировался в первую очередь личным комфортом и тем, чтобы его можно было заметить издали, выделиться из общей массы. Последнее обстоятельство, несомненно, облегчало всегда ориентированное на личностный фактор руководство войсками на Кавказе, на виду у которых всегда находился их начальник.
Неизменным атрибутом каждого из начальников отрядов являлся значок — опознавательный и сигнальный знак отдельных частей и лично генералов. Зарождение такой практики относится к временам А.И.Нейдгардта, и уже в Даргинской экспедиции 1845 г. «каждый из генералов или отдельных начальников, для отличия имел значок...». Практика употребления таких отличительных знаков была заимствована у горцев. Украшался значком эмблемой — крест или родовой герб, встречались и другие, более индивидуальные варианты, очень часто значок и вовсе не нес символики. [171]
О князе М.З. Аргутинском-Долгорукове можно сказать, что неряшливостью своей он определенно щеголял. Его всегда можно было застать в папахе из мерлушек, «какой-то ваточной, ситцевой фуфайке» и с трубкою (1847). Позже князь перешел на гражданский сюртук, но и тот мешковатый, даже грязноватый. При первом взгляде на начальника кавалерии Александропольского отряда Багговута обращала на себя внимание перехваченная черной повязкой серебряная накладка на череп, и «черный африканский негр с белыми, как слоновая кость, зубами» возил за ним черный значок.
А.И. Барятинского, победителя Шамиля, на всем протяжении своей кавказской военной карьеры выделял застегнутый на все пуговицы сюртук и в целом внешняя аккуратность даже в экспедиции. Командующий войсками Кавказской линии и Черномории А.А. Вельяминов в домашней обстановке пребывал в черном шелковом или светло-зеленом атласном архалуке. Командующий ОКК граф М.С. Воронцов располагал тремя значками сразу. В домашней обстановке князь Михаил Семенович занимался в кабинете делами в синей фуфайке. Походный костюм составляли его любимый длинный сюртук егерского Воронцова полка без эполет. Е.А. Головин, прибыв на смотр войск в Феодосию весной 1840 г., «странно» поразил внешним видом своим всех присутствующих. При 45 градусах тепла он носил огромный галстук и застегнутый на все пуговицы и крючки сюртук.
В.О. Гурко в повседневной жизни одевался как «денди с Невского [проспекта]». На черном значке генерал-майора Н.И. Евдокимова нарисовано было крыло, и имелась надпись «Левое». Поэтому значок в войсках получил прозвание «с ребусом» — Евдокимов был начальником левого фланга Кавказской линии. Командующий Кубанской кордонной линии, гроза горцев барон Г.Х. Засс, как и его окружение, одевался по-черкесски, т.е. в горский костюм. В.М. Козловский одевался скромно: расстегнутый сюртук без эполет поверх зеленого бешмета. При этом сюртук его, давно лишившийся ворса, откровенно лоснился по швам и в особенности на локтях. Зимой он носил поношенное серо-синее пальто (как у Клюгенау и Барятинского) и обматывал шею длинным старым вязаным шарфом. Калмыцкий ергак (тулуп из сурочьих шкур) носил начштаба ОКК В.Д. Вольховский
Начальник штаба ОКК при Головине П.Е. Коцебу известен как изобретатель фуражки «а ля Коцебу». Сам щеголеватый генерал прочим головным уборам предпочитал бархатную ермолку. Напротив, И.М. Лабынцев, «Ней Кавказской армии» одевался в засаленный сюртук, под который надевал грязную ситцевую рубашку.
У Н.Н. Муравьева значок был с изображением креста. Начальник штаба Вельяминова П.И. Петров, «щеголял мундиром генерального штаба, которого он не имел права носить». В России за подобные «шалости» строго наказывали, но на Кавказе были другие правила. [172]
М.П. Полтинин вышил на своем значке слова: «Два раза ранен, три раза контужен, но не разу ни сконфужен». Страдавший подагрой генерал Поц всегда обут был в высокие валяные сапоги, за что от горцев получил прозвище «генерал — цевака» (генерал — войлочный сапог).
Н.Н. Раевский экстравагантностью своего костюма превзошел едва ли не всех кавказских военачальников. Его нельзя было видеть иначе, как в рубахе с открытой почерневшей от солнца грудью и в шароварах. В особенных случаях и перед дамами он прибавлял к этому сюртук; с очками и трубкой он был неразлучен. Когда ему случилось провести недели две в доме графа Воронцова, то графиня, чтобы не лишиться приятного собеседника, сшила ему мешок из трех юбок, и под этим мешком он мог оставаться в своем обычном костюме. Вообще он не любил стесняться. В таком виде он сопровождал своего корпусного командира на смотре 1838 г.
Барон Г.В. Розен боялся крути. Поэтому, при переходе гор, «в каждом сомнительном месте он слезал с лошади, переводчик Гойтов брал его под руку, а линеец держал сзади за концы шарфа; таким образом его спускали под гору ... Подметив же, как его с помощью шарфа спускают под гору, какой-то солдатик остряк шепнул товарищу: «это ... у него наместо оттужного каната»». Генерал Р.К. Фрейтаг, начальник 20-й дивизии и левого фланга Кавказской линии, в домашнем быту отличался непритязательностью. Гостей он встречал «со спущенными на животе военными рейтузами, без помочей, без галстука, без сюртука, в одной рубашке».
Легендарный донской казачий генерал Я.П. Бакланов выезжал обычно одетым не по форме: летом — в красную канаусовую расстегнутую рубашку либо в расстегнутый же казачий чекмень и огромную папаху бараньего меха, зимой — в шинель или в бурку, а то и в овчинный тулуп и мохнатую папаху. Но иногда ему случалось выскакивать по тревоге в одном белье. Особенно сильно воздействовал на психику неприятеля знаменитый черный значок Бакланова, всюду сопровождавший его и имевший определенное мистическое значение. На полотнище был изображен белый череп с двумя скрещенными под ним костями, символ смерти и воскрешения. Кругом эмблемы шла надпись «Чаю воскресешя мертвыхъ и жизни будущаго века. Аминь». Один из очевидцев писал: «Где бы неприятель не узрел это страшное знамение, высоко развевающееся в руках великана-донца, как тень следящего за своим командиром, там же являлась и чудовищная образина Бакланова, а нераздельно с нею неизбежное поражение и смерть всякому попавшему на пути шайтан-Баклана».
В целом, офицерам, солдатам и казакам было с кого брать пример. Начальство их не стесняло, поскольку само на опыте познало, что значит в условиях Кавказской войны экипировка, разработанная в петербургском кабинете.+) [173]
Видные ученые предсказывали фотографии (или светописи) выдающуюся роль в развитии науки и искусства, обогащение ею методов исследования в археологии, естествознании, медицине, ее соперничество с живописью, переворот в полиграфии. Однако в ранние годы фотография робко внедрялась во все эти сферы: слишком еще несовершенна была ее техника. Зато она сразу преуспела в портретном жанре.
Первое в России дагерротипное заведение для публики открыли французские литографы Давиньон и Фоконье на Никольской улице близ Большого театра в Петербурге. В связи с успешным развитием фотоискусства с 60-х гг. XIX в. фотостудии возникают на улицах провинциальных городов. Тогда же фотография приходит и в Ставропольскую губернию. Это связано с визитом на Кавминводы (1843 г.) родоначальника русской фотографии С.Л. Левицкого, который работал в составе государственной комиссии по изучению этого региона. (Блюмфельд В.П., 1988). «Представьте себе, — писал он, — с какой энергией и удовольствием принялся я за исполнение дагерротипных работ... Эта работа чрезвычайно интересовала меня, в особенности когда... проявлялись результаты: виды Пятигорска, Кисловодска, Машука и Бештау», (Ставропольская правда, 1983, 4 декабря).
Особое распространение получила фотография в 70-х гг. с изобретением бромжелатинового способа. (Чибисов К.В., 1987.) Фотографирование удешевилось, стало более доступным для широких кругов профессионалов и любителей. В Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске открываются портретные фотоателье (или «фотографии», как их еще называли), позже в селах и станицах — временные фотографические заведения. (ГАСК, Ф. 101). Быстрота изготовления, тиражность и дешевизна снимков, по сравнению с рисованными миниатюрами, способствовали доступности фотопортрета всем социальным слоям: наряду с членами дворянских фамилий заказчиками были мещане, чиновники, крестьяне.
В российской фотографии достаточно известных мастеров, прошедших карьеру от любителя до профессионала высшего класса. Среди знаменитых фотографов того времени немало наших земляков. Один из них — Григорий Иванович Раев. (СГКМ. Ф. 95).
Сын солдата охранной роты Кисловодской крепости благодаря своим способностям и таланту, увлечению краеведением становится одним из популярнейших людей КМВ, другом исследователей Кавказа [174] А. Пастухова и Р. Лейцинга, артистов Ф. Шаляпина и Л. Собинова, композитора С. Рахманинова и других видных деятелей искусства.
Несколько видов фотоальбомов, воспроизводящих красоты буквально всех живописных уголков Кавказа, виды Ставрополя и городов Кавказских Минеральных Вод, сотни сюжетов видовых открыток, а также их коллекция из 200 штук «исполненных способом фототипии и ручной раскраской», весьма модные в ту пору стереоскопические фотографии с объемным зрительным эффектом — все это свободно и по умеренным ценам можно было приобрести в мастерской Раева или выписать по почте на свой адрес.
Все снимки Раев производил только сам, о чем свидетельствует изданный им каталог: «Все виды выпущенных мною серий в продажу сняты лично мною с натуры». (СГКМ, Ф. 95).
Одним из главных направлений в его творчестве стала лермонтовская тема. В 1877 г. он, по заказу директора Кавказских Минеральных Вод, сделал первый снимок домика М.Ю. Лермонтова в Пятигорске. Первая фотография места дуэли поэта также была сделана Раевым (1878 г.). В дальнейшем он снимал все места на Ставрополье, где побывал Михаил Юрьевич. (СГКМ. Ф. 95.)
Будучи членом Кавказского горного общества, Григорий Иванович сделал большой вклад в создание музея «Домик Лермонтова». В 1912 г. он стал первым директором музея.
Увлечение альпинизмом помогло ему впервые отснять северные склоны Главного Кавказского хребта. Эта работа была связана с большими трудностями, так как фотографировать приходилось без увеличения, фотоаппарат — громоздкий, фотостекла — большие, фотоэмульсия готовилась на месте. За снимок Эльбруса Русское географическое общество в 1903 г. наградило мастера большой серебряной медалью (первая серебряная медаль получена им в 1888 г. от Русского технического общества). За снимки, представленные на отечественных и международных выставках, Раев завоевал более 20-ти почетных дипломов, золотых и серебряных медалей, удостоен французского ордена «Почетного легиона» (1880 г.). Его работы издавались во Франции, Германии, Англии, Италии, Норвегии, Финляндии. (СГКМ, Ф. 95)
Рассматривая развитие фотографии в Ставропольской губернии надо отметить некоторые особенности. Желавший открыть постоянное фотоателье должен был написать прошение в губернскую канцелярию на имя губернатора. «...покорнейше прошу Ваше Превосходительство выдать мне разрешение ... для производства фотографических снимков в пределах Ставропольской губернии ... и открытия фотографии в губернском городе Ставрополе...» (Г АСК. Ф. 101). Из канцелярии направлялись запросы в жандармское управление и ставропольскому полицмейстеру о нравственных качествах, поведении и политической благонадежности просителя. При получении благоприятного отзыва «... [175] нравственных качеств хороших, под судом и следствием не был и не состоит», «...сведений о политической неблагонадежности ... не имеется» губернатором выдавалось свидетельство на право «...открыть фотографию ... под личную ответственность за нарушение правил о фотографических заведениях». (ГАСК. Ф. 101). Свидетельство передавалось будущему владельцу через старшего городского полицмейстера и пристава под расписку, которая затем отправлялась в канцелярию губернатора.
В результате изучения архивных данных удалось выявить владельцев первых фотоателье. Среди них преобладали крестьяне, мещане, чиновники (Ф. Маркс, В. Свищев, Н. Дмитриев), хотя фотоделом увлекались и дворяне, и купцы (СИ. Василевский, Г.И. Третьяков). (ГАСК, Ф. 101; СГКМ, Ф. 424).
Григорий Иосифович Третьяков, купец второй гильдии, в отличие от остальных фотографов, выписывавших фотоматериалы из Москвы и Санкт-Петербурга, имел собственный комиссионный склад фотопринадлежностей.
«Фотографии» представляли собой помещение, обставленное декоративной мебелью, со стеклянными потолком и стеной, вот почему фотоателье иногда называли «стеклянным павильоном». (Эдер И.М. СПб., 1895). Остальные стены обклеивались обоями разных тонов. На столиках для съемки лежали всякие безделушки (искусственные цветы, книги, шкатулки, зеркальца и т. п.). Иногда посетители привозили для съемки собственные вещи.
Фотографы выполняли в студиях самые разнообразные виды работ: изготовление индивидуальных, парных, групповых фотопортретов, увеличение портретов до желаемой величины, фотографии на стекле, ретушь. (СГКМ, Ф. 131). Иногда приходилось «ретушировать» самого клиента, чтобы выявить одни черты и сгладить другие: впалые щеки набивали ватой, оттопыренные уши приклеивали к голове воском. Посетителя усаживали в кресло с подлокотниками, к спинке которого обязательно крепился конфгалтер — специальное устройство, с помощью которого закрепляли голову в неподвижном положении — иначе нельзя было получить четкое изображение при длительных выдержках. Когда не хватало освещения, пудрили мелом лоб, щеки, нос, подбородок, кисти рук модели. Светлую одежду, в период выдержки, прикрывали на некоторое время кусочками черного бархата — так выравнивали интервал яркостей.
Фотографии наклеивались на картонные бланки, на которых указывались фамилия и инициалы мастера или наименование фирмы, а так же местонахождение ателье: «Photographie N. Mokin. Stavropol», «Н. Трегубов и К. Козлов. Ставрополь», «Фотография Тосунова С.М. Поставщик Наместника Его Императорского Величества на Кавказе, ул. Воронцовская, 8, рядом с почтовой конторой. Удостоен Высочайшей [176] Благодати Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Федоровны» (СГКМ, Ф. 39, ед. хр. 37.) Кроме того, на картоне принято было изображать награды, полученные за снимки на российских и международных фотовыставках (если такие имелись).
Развитие портретного жанра способствовало распространению изобретенной французским придворным Дисдери фотокарточки-визитки размером 6x8 см. С того времени появляется обычай обмениваться снимками и заводить почти в каждой семье фотоальбомы, которые считались домашней реликвией. Их передавали по наследству, пополняя новыми снимками.
Однако с первых лет своего существования фотография проявляла интерес не только к портрету, но и к видовому жанру. Снимки такого рода встречаются уже у дагерротипистов (виды Пятигорска, Кисловодска С.Л. Левицкого).
К известным местным фотомастерам, работавшим над темой Ставрополья, относились, помимо Г. Раева, Н. Трегубов, А. Энгель, Ф. Маркс, Г. Третьяков, чьи альбомы хранятся в городских, краеведческих музеях и архивах. Внимание фотографов привлекали эпохальные события и рядовые, архитектурные памятники городов и их окрестности, быт и занятия населения, транспорт: «Трапеза гимназисток», «Ставрополь. Вход в парк культуры и отдыха», «Окрестности Кисловодска. Водопад на р. Ольховке», «Ессентуки. Ванное здание имени Николая II» (СГКМ, Ф. 39, 424).
Собрания Ставропольского государственного краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве и Государственного архива Ставропольского края дают представление об интерьерах, обстановке домов дворян, купцов, простых горожан.
В конце XIX в. тематика фотографий значительно расширилась — появляются исторические сюжеты: виды военных лагерей, портреты участников боевых операций («Хоперские казаки») (СГКМ, Ф. 39). К сожалению, авторство большего числа снимков установить практически невозможно, поскольку на них нет штампа фотографа с его именем.
В рассматриваемый период была популярной стереоскопическая фотография, которая воспроизводила изображения в трех измерениях. При рассмотрении стереоскопических картин садиться нужно было спиной к свету так, чтобы помещенный на специальную подставку снимок равномерно освещался. При этом создавался эффект объемности изображения. Существовала не только видовая, но и учебная стереофотография (Начальный курс географии из серии «Вокруг света», «География Западной Европы» и др.). (Каталог подвижного отдела учебных пособий Ставропольского городского музея им. М.В. Праве, 1915).
Творческое наследие местных фотографов того времени поистине бесценно: их работы, отличающиеся большой выразительностью и [177] высоким качеством изготовления, позволяют сегодня восстановить облик городов, сел и станиц «старого» Ставрополья, «увидеть» их историю и историю давно ушедших поколений.
В XIX в. жители Ставропольской губернии и Терской области, как и остальных губерний Российской империи, принимали довольно активное участие в сооружении памятников славным сынам России. В их числе были памятники М.В. Ломоносову в Архангельске, Ермаку в Тобольске, Н.М. Карамзину в Симбирске, князю Владимиру в Севастополе и др. Когда объявлялось о сборе средств на памятники, из всех российских губерний деньги и специальные подписные листы, в которые вносились имена жертвователей, отправлялись к наместникам тех областей, где сооружались памятники, и там организовывался комитет по их сооружению. В 1871 г. решено было воздвигнуть памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову в г. Пятигорске «где поэт, вдохновленный природой Кавказа писал свои лучшие произведения, и где он окончил безвременно свою жизнь». Сохранились архивные документы, из которых можно узнать, как организовывалось сооружение этого памятника. Инициатива сооружения памятника М.Ю. Лермонтову в Пятигорске принадлежала управляющему Кавказскими Минеральными Водами статскому советнику Андрею Матвеевичу Байкову, по ходатайству которого 23 июня 1871 г. вышло Высочайшее повеление на открытие повсеместно в империи подписки для сбора пожертвований на памятник поэту М.Ю. Лермонтову. A.M. Байков в высшей мере содействовал сбору денежных средств на памятник, «личною распорядительностью и попечением которого разновременно от устройства им с значительными затратами из собственности, спектаклей, концертов и в особенности народных гуляний собрано в пользу Лермонтовского фонда 9437 руб. 32 коп.».
Для сооружения памятника 30 сентября 1875 г. во Владикавказе учрежден был особый комитет под председательством начальника Терской области в составе помощника начальника, вице-губернатора, управляющего Кавказскими Минеральными Водами, полицмейстера и городского головы г. Пятигорска, правителя канцелярии начальника Терской области и секретаря областного статистического комитета. В обязанности комитета входило «попечение об увеличении предназначенного на сооружение памятника поэту Лермонтову капитала, [178] посредством... сбора пожертвований и изыскание наиболее практических способов осуществления мысли о предложенном сооружении». По истечении каждого полугодия собранные комитетом денежные суммы должны были отсылаться в казначейство в Тифлис.
Для увеличения своих денежных средств комитет обязан был приглашать в число своих членов во всех местностях империи лиц, изъявивших готовность принимать от жертвователей денежные приношения на сооружение памятника Лермонтову, снабжать своих членов необходимыми канцелярскими принадлежностями, к примеру, книжками или тетрадями для записи пожертвований. Лица, собиравшие пожертвования, должны были передавать их в местные кассы, подведомственные казенным палатам и областным правлениям. Комитет обязан был вести четкий учет всех денежных средств, своевременно помещать в кредитные установления для прирощения процентов стекающиеся в казначейство суммы, публиковать в органах печати информацию о поступивших денежных пожертвованиях, о состоянии капитала, главнейшие свои распоряжения, списки с именами и фамилиями жертвователей, доставлять через начальника Терской области наместнику Кавказа полугодичные ведомости.
Комитет уполномочен был избрать в Пятигорске место для сооружения памятника, вести переговоры с художниками на предмет составления проекта памятника, определять его стоимость и стоимость постановки, рассматривать полученные от художников проекты и представлять их кавказскому наместнику со своим заключением о том, какому именно проекту комитет отдает предпочтение перед другими и по каким причинам; по получении разрешения наместника на свое представление заключать с кем следует контракты на выполнение, доставку и установку памятника, следить за своевременным и исправным выполнением всех договоров.
По открытии памятника поэту М.Ю. Лермонтову комитет обязан был представить наместнику Кавказа отчет о своей деятельности вместе с соображениями своими о средствах содержания памятника и затем прекратить свою работу.
Деньги на памятник великому поэту собирались в общей сложности 18 лет. В том же 1875 г. комитет принял в свое ведение собранные 4339 руб. 44 коп. и довел эту сумму к 1 января 1883 г. по средствам сборов добровольных приношений и устраиваемых ежегодно с 1880 г. в г. Пятигорске народных праздников в чествование поэта до 34300 руб. Из этой суммы в 1882 г. было отчислено 1700 руб. в распоряжение образованной в г. С.-Петербурге комиссии под председательством редактора журнала «Хозяйственный строитель» П.П. Мижуева для объявления конкурса на проект памятника поэту Лермонтову и на премию за лучший эскиз памятника. Конкурс этот проходил в три тура. Во втором туре жюри присудило первую премию учителю рисования [179] И.П. Фрейману, а вторую — скульптору P.P. Баху. Но для исполнения в бронзе их проекты жюри не приняло. В третьем туре лучшей была признана идея автора памятника А.С. Пушкину в Москве (1880 г.) скульптора A.M. Опекушина, получившего за свой проект премию в размере 1000 руб.
Хотя оставшейся в наличности суммы Лермонтовского фонда — около 33000 руб. было достаточно для постановки памятника поэту, комитет задался мыслью на местности, намеченной для постановки памятника в г. Пятигорске, устроить сквер и обнести его чугунной оградой. Для этого требовались значительные средства, так как необходимо было перенести находящееся в намеченном районе здание гауптвахты в другую часть города.
В 1889 г. в Пятигорске состоялось торжественное открытие первого в России памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
Человечество всегда ценило тех, кто воплощал духовные силы общества, раскрывавшиеся в литературе и искусстве. Значение деятельности человека определяется обычно потомками, и имеется немало примеров того, что потомки оценивали достижения какой-либо личности иначе, чем современники. В отношении Михаила Юрьевича Лермонтова мнение современников и потомков было единым.
Сегодня, когда в российскую судебную систему возвращается целый ряд существовавших прежде институтов и принципов дореволюционного судебного законодательства, в том числе и система окружных судов, не только не угас интерес, а, напротив, вновь становится актуальным обращение к изучению прошлого в развитии правовой мысли в России. В связи с этим, а также из-за юбилея, связанного с открытием местных окружных судов в ряде административно-территориальных образований Северного Кавказа, мы решили обратиться к истории создания системы окружного судоустройства и судопроизводства в Терской и Кубанской областях во второй половине XIX века.
Завершение Кавказской войны, на фоне начавшегося притока гражданского населения параллельно с сокращением военного, потребовало внесения изменений в управление краем. Жизнь диктовала и условия скорейшего принятия кардинальных мер в судоустройстве и судопроизводстве казачьих областей, выведенных в своё время из под юрисдикции общего законодательства. В областях, населённых до 1864 г. главным образом казачьими войсками, горскими народами и незначительным [180] числом гражданского элемента, существовала двойственная правительственная власть: военно-административная для большинства населения и гражданская — для жителей городов и слободок. Столь же разнообразной была и судебная система, создававшая значительные препятствия работе органов правосудия. Однако эти неудобства, создаваемые местной администрацией, казались неустранимыми, пока не было уверенности в «прочном успокоении» недавно завоёванного края.
В силу этих причин в 1867 г. возник вопрос о пересмотре положения о Кубанском и Терском казачьих войсках. Главнокомандующий Кавказской армией в отчёте императору о состоянии края указывал, что потребность общения горцев с русскими настолько реальна, что дальнейшее нахождение населения Кубанской и Терской областей в ведении исключительной администрации становится невозможным и требует гражданского развития.
Выработанные предложения о новом устройстве Кубанской и Терской областей, одобренные великим князем Михаилом, были представлены им в 1868 г. на утверждение императора. Суть предмета сводилась к следующему: упразднив существовавшие особые учреждения для гражданского, казачьего и горского населения названных областей, подчинить все эти части населения общим административным и судебным местам. После исправлений и составления новых проектов Государственным советом об административном устройстве казачьих областей и Черноморской губернии и о введении в них судебных уставов 1864 г., они получили 30 декабря 1869 г. законную силу.
Ежегодные расходы на содержание новых управлений как администрации, так и суда в обеих областях превысили 641000 рублей, и были отнесены частью на государственное казначейство, частью на суммы Кубанского и Терского казачьих войск. В целом преобразование это увеличило расход казны на 132000 рублей, но зато, в том же 1869 г. податный сбор с горского населения Кубанской и Терской областей в количестве 186000 рублей, находившийся до этого в распоряжении главнокомандующего Кавказской армией, поступил в общие государственные ресурсы.
Введение в действие новых законоположений, представленное на усмотрение Кавказского наместника, ввиду необходимости целого ряда подготовительных мер, было отложено до 1 января 1871 г. Наместник и его ближайшее окружение пытались учесть особенности Северного Кавказа и подходили к вопросам реформ гораздо серьёзнее, чем центральная власть. В подробной разработке намеченных преобразований в судоустройстве и судопроизводстве Северного Кавказа активное участие приняли и начальники областей, как, например, начальник Терской области генерал-адъютант М.Т. Лорис-Меликов, внесший предложения по реализации порядка реформирования местной судебной системы. [181]
Подготовительные работы завершились только к концу 1870 г., когда наместник Кавказский распорядился ввести в действие в Кубанской и Терской областях и Черноморском округе судебные уставы 20 ноября 1864г. и положение о нотариальной части от 14 апреля 1866г. с последовавшими к ним дополнениями. Указом от 1 декабря 1870 г. великим князем Михаилом временем введения в действие этих законоположений было назначено 1 января 1871 г. С этого времени открывались Екатеринодарский и Владикавказский окружные суды с прокурорским надзором, судебные мировые и следственные участки на основании утверждённых наместником расписаний и нотариальные архивы и конторы. Одновременно упразднялись Терский областной и Черноморский окружной суды, Кизлярский уездный и Екатеринодарский, Ейский и Темрюкский городовые суды, Моздокская городовая ратуша и должности кизлярского уездного, екатеринодарского, анапского, ейского, темрюкского, моздокского городовых стряпчих, а также должности терского областного и черноморского окружного прокуроров с состоящими при них канцеляриями. С открытием новых судов существовавшие нотариусы и маклера прекращали приём к засвидетельствованию всех актов и дальнейшее исполнение своих обязанностей, а их конторы закрывались.
10 марта 1869 г. Государственный совет утвердил правила о прекращении, передаче, распределении и возобновлении прежних уголовных дел и гражданских, а равно дальнейшее их направление и производство. Правила относительно производства уездных судов распространялись на все те упраздняемые гражданские учреждения Кубанской и Терской областей и казачьих войск, которые разбирали гражданские и уголовные дела на правах суда 1-ой степени, а относительно производства судебных палат — на те учреждения названных областей и Черноморского округа, которые занимались решением уголовных и гражданских дел в качестве 2-ой инстанции. После закрытия судебных мест прежнего устройства, их приговоры передавались полиции, в обязанность которой входило и исполнение приговоров судебных мест прежнего устройства.
Параллельно с введением новых судов произошли изменения и в устройстве Кубанской и Терской областей. Так, к Ставропольской губернии были отчислены 13 станиц Кубанского и Терского казачьих войск, а также преобразованы управления этими областями. Областным центром Кубанской области стал город Екатеринодар, а Терской — Владикавказ. Кубанская область разделялась на 5 уездов: Екатеринодарский, Ейский, Темрюкский, Майкопский и Баталпашинский. Что же касается Терской области, то она делилась на 7 округов: Владикавказский, Георгиевский, Грозненский, Аргунский, Веденский, Кизлярский и Хасав-Юртовский. Действие новых административных [182] учреждений в обеих областях открывалось с того же времени, что и судебных — с 1 января 1871г.
При введении в действие новых судебных установлений в Кубанской и Терской областях 1 января 1871 г. был соблюдён торжественный порядок их открытия, после которого начались будни работы Екатеринодарского и Владикавказского окружных судов.
Сегодня, анализируя во всем спектре их работу со дня открытия в 1871 г. и до прекращения их деятельности в связи с упразднением действовавшей судебной системы и созданием советского судебного законодательства, мы не можем не признать, что наряду с преследованием за политические преступления, органы суда сыграли весомую роль в установлении законности и правопорядка на Северном Кавказе, ведя борьбу с уголовной преступностью в регионе.
Изучение иногороднего населения, как важнейшего компонента российской колонизации Северного Кавказа, и Кубани в частности, является актуальной проблемой исторической науки.
Закон 1868 г. «О дозволении лицам невойскового сословия приобретать недвижимую собственность в казачьих землях» положил начало интенсивному заселению пришлым крестьянством казачьих областей. Бурный миграционный поток изменил социально-экономический, а также этнокультурный облик региона. В этой связи небезынтересным будет рассмотрение вопроса о роли иногородних в распространении сектантства в селах и станицах Средней Кубани.
Кавказ издавна являлся регионом, куда бежали от преследования властей представители различных религиозных течений. Со второй половины XIX века численность сектантов стала расти, в основном за счет пришлого населения. Переселенцы были выходцами из центрально-черноземных губерний России (Воронежская, Орловская, Курская, Тамбовская) и Малороссии (Харьковская, Черниговская, Полтавская и др.), т.е. мест возникновения и наибольшей концентрации-сектантства. Преимущественно из среды иногородних стали распространятся учения баптистов, штундистов, адвентистов, молокан, хлыстов, субботников и др. Так, например, в станице Отрадной Баталпашинского отдела Кубанской области к 1900 г. большинство баптистов являлись «пришлыми, проживающими по билетам и... не имеющими своих домов». (ГАСК, ф. 439, оп. 1, д.2, л. 16.) В селе Казьминском, того же отдела «имевшиеся... сектанты все проживали временно на арендуемых [183] участках...». (ГАСК, ф. 135, оп. 58, д.699, л.12). При этом, в качестве обстоятельства, благоприятствовавшего распространению сект, местный священник выделял именно наплыв сектантов-иногородних.
Еще в 70-е гг. XIX века на Кубани стали образовываться крупные капиталистические экономии овцеводов-предпринимателей Мазаевых и Макеевых. Все они — молокане, выходцы из Мелитопольского и Бердянского уездов Таврической губернии. Согласно отчету благочинного церквей 10 округа Кубанской области протоиерея М. Сапежко за 1897 г., молокане «поселившиеся... на правом берегу р. Урупа, вблизи станиц Отрадной, Попутной и селений Казьминского, Ивановского и Ольгиыского... весьма гибельно, в нравственном отношении, влияют на православных прихожан...». (ГАСК, ф. 135, оп. 54, д. 335, л. 48).
Возможно предположить, что почва для распространения сектантского учения находилась, в большинстве случаев, также в среде иногородних. Ведь таковые были наиболее бесправной сословной группой сельского населения области. Иногородние не входили в сельскую общину, поэтому конфессиональные объединения типа сект заменяли в их сознании общинный мир, давали ощущение социальной защиты. Почти при полном отсутствии юридических прав иногородние крестьяне в то же время имели немало обязанностей. Имевшие оседлость иногородние должны были уплачивать «посаженную» плату за усадьбу, арендную плату. Кроме этого, они обязаны были выполнять натуральные повинности, платить государственные налоги, а также подати в пользу станиц и Кубанского Войска. Взаимоотношения с коренными жителями были весьма сложными, особенно в станицах, где казаки (в лице атаманов, правления) не признавали за иногородними, которых называли «сиволапыми», «хамселами», «кацапами», равных прав. По замечанию самих иногородних, казаки смотрели на них «как турки на христиан». Имелись случаи, когда казаки одной станицы собирались брать с иногородних входную плату за посещение возведенной в станице церкви. Исследователь земельных отношений на Кубани И. Гольдентул приводит следующий эпизод из станичной жизни. Иногородний, во время крестного хода, хочет взять хоругвь, чтобы нести её. Вдруг сзади его раздается голос: «А ты ii справляв, городовыцька твоя душа, що хватаешься за нei?» Бывало, что во время церковной службы, когда совершали земные поклоны, казак умышленно толкал иногороднего или наступал ему на чуб. (Кубанские станицы, 1967). Таким образом, на бытовом уровне, иногородние порою ущемлялись в отправлении религиозных потребностей.
Иногородние оказывались вне привычных структурообразующих связей. Некоторые этнографы, в данном случае, употребляют термин «люди за чертой» (М.А. Рыблова). К ним относятся те, кто выделяется из окружающей социальной среды иным родом занятий, отличных от тех, которые утверждены в данном социуме. Главная социальная функция [184] казака — несение воинской службы. Соответственно за чертой в станицах оказываются иногородние (мастеровые, батраки, хлебопашцы). Они за чертой в буквальном смысле (не члены казачьей общины, бесправные).
Таким образом, рассматривая роль иногородних в распространении сектантства, не следует снимать со счетов психологический фактор вовлечения населения в религиозные секты. Непрочное положение в обществе, стремление найти поддержку (при отсутствии таковой со стороны властей), а также желание занять определенную социальную нишу — все это, несомненно, должно было иметь место.
В упоминавшемся выше отчете М. Сапежко отмечалось, что в экономиях молокан, а также в меннонитских колониях Александродар и Великокняжеском (располагавшимися между селами Казьминским и Ольгинским) круглый год трудилось множество наемных работников. Это были как жители окрестных сел, так и иногородние, приезжавшие на Кубань для заработков. Все они «на каждом шагу имели дело с сектантами, усердно старающимися распространить свое учение...». К овцеводам и колонистам приезжали проповедники не только из различных областей России и из Закавказья, но и из-за границы. «Следствием таких обстоятельств и действий, — делает вывод благочинный, — бывает, что чисто православный житель села или станицы (особенно временно — проживающие — побилетные) прислужив у овцеводов или у колонистов несколько месяцев, — является в родную семью уже зараженным в религиозном отношении...».
Вплоть до конца 70-х годов XIX века число сектантов в населенных пунктах Средней Кубани было незначительным. К примеру, на 1872 г. во всем Баталпашинском уезде сектантов насчитывалось 597 человек.
К началу XX века в связи с ростом переселенческого движения ситуация изменилась. В ст. Урупской и селе Казьминском насчитывалось 546 сектантов. В станицах Лабинской, Вознесенской, Упорной, Зассовской и Владимирской — 755. В одной лишь станице Родниковской Лабинского отдела в 1909 г. проживали более 830 сектантов. Самое большое количество сектантов в 10 благочинии проживало в селе Казьминском. Это объясняется тем, что Казьминское — одно из немногих селений Средней Кубани, в котором число иногородних превысило коренных жителей более чем в 1,5 раза.
В 1900 году одна из крупных землевладельцев Средней Кубани — П. Цветнова, в своем имении, административно причисленному к селу Казьминскому, намеревалась построить храм, так как ее земли граничили с экономиями тавричан в которых «ютилось множество бедняков молоканской секты».
По данным Казьминского волостного правления в начале XX века в волости, помимо экономии овцеводов насчитывалось несколько [185] молоканских хуторов. Среди них: Сирафимовича, Тамбовский, Кучерявский, Ивановский.
В связи с усилением сектантства в Ставропольской епархии велась миссионерская деятельность.
Таким образом, мы видим, что со второй половины XIX века на Средней Кубани значительно увеличилось количество сектантов, в основном за счет пришлого (иногороднего) населения. Как было показано, почва для распространения сектантских учений находилась, в большинстве своем, в среде таких же иногородних. Этому способствовал ряд причин социально — правового и психологического характера.
Ко времени совершения Октябрьской революции 1917 г. подавляющее большинство населения Ставропольской губернии была верующей. Тогда почему же относительно быстро новой власти удалось разрушить традиционные религиозные конфессии и в первую очередь православную церковь? Для ответа на этот вопрос остановимся на характеристике религиозных настроений жителей Ставрополья в начале XX века.
В религиозных обрядах крестьян преобладали элементы первобытных верований, на что неоднократно указывало и само православное духовенство. «Учение православной церкви воспринято и усвоено прихожанами не во всем его объеме, не во всей его чистоте и связано с суевериями и предрассудками, родившимися еще под влиянием языческого мировоззрения и передаваемого от отцов и дедов к детям и внукам, — писал в отчете один из благочинных Ставропольской епархии в 1911 г. — Очень трудно искоренить эти предрассудки и суеверия, так как таковые основываются на авторитете дедов и отцов. На Рождественских праздниках еще и теперь ходит молодежь по дворам колядовать под окнами домов даже в губернских городах. При венчании браков лиц, получивших высшее образование и проживающих в губернских городах еще и теперь под постилку, под ноги брачующихся, кладут деньги, чтобы брачующиеся были богатыми. Так крепко народ, а особенно сельский, держится предрассудков и суеверий... Эти народные предрассудки веками укоренились в народном сознании и стали народными обычаями».
Однако не это тревожило православное духовенство. Большие опасения священнослужителей вызывали влияние революционных событий 1905—1907 гг. и провозглашенной свободы вероисповедания на настроения простого народа. «Социально-политическое движение [186] разрушительно действует на мировоззрение и нравы паствы, — писали в отчетах священники, — в душе его началось серьезное брожение религиозное...».
В других подобных отчетах указывалось на изменения в «состоянии благочестия в народе и его религиозных настроениях». «Большинство их (жители прихода — авт.), особенно пожилые и среднего возраста, по свидетельству священников крепко держатся веры предков своих — православной, всею душой преданы ей, стараются быть христианами не по имени только, но и по жизни... К прискорбию нельзя того же сказать о молодом, вырастающем поколении: в нем не только стала замечаться холодность к вере отцов, но даже в отдельных случаях открытое, неуважительное отношение к ней: не посещение храма Божия в воскресные и праздничные дни, намеренное нарушение постов, часто небрежное и даже дерзкое стояние в храме Божием, не уважение к своим старшим членам семьи, к своим пастырям и вообще духовенству; пьянство, распущенность широкою рекою стали разливаться среди молодежи и сделались обычным явлением... Потерян страх Божий и вместе с ним исчезло и древнее благочестие; провозглашенная свобода быстро потянула народ к распущенности, произволу и жутко становится за будущее этого народа...».
В августе 1905 г. под председательством архиепископа Агафадора было открыто пастырское собрание духовенства Ставропольской епархии. На собрании обсуждались те необходимые изменения, которые должны были произойти во внутренней церковной жизни. Главный акцент был сделан на признании того, что «каждый священник по существу своего сана есть миссионер, обязанный следить за религиозным состоянием своего прихода». Достигнуть этого предполагалось путем «совершенствования Божественной службы» и повышением авторитета приходского духовенства.
Последний вопрос в то время стоял наиболее остро. Ежегодные отчеты благочинных указывали на падение в большинстве приходов епархии авторитета местных церковно- и священнослужителей. «Отношения прихожан к местному духовенству самые нежелательные. Никогда, кажется, прихожанин не имел такого сильного недоверия к нему, как теперь. На священника, в большинстве случаев, он смотрит как на узкого эгоиста, который все делает исключительно с корыстной для себя целью. Та любовь, то уважение, которыми пользовались наши деды и прадеды среди своих прихожан, отошли в область преданий». По мнению приходских священнослужителей основной причиной установления холодных отношений между прихожанами и духовенством был способ обеспечения духовенства — так называемые «доброходные даяния» за совершения треб. Ненормальное положение православного духовенства, поставленного в необходимость брать плату за удовлетворение духовных нужд и потребностей своих прихожан при отправлении этих [187] треб, являлось одной из главных причин охлаждения народа к православию. На этой почве создавалось немало поводов к взаимному недовольству между духовенством и прихожанами. Единственный выход из сложившегося положения епархиальное начальство видело в том, чтобы «поставить духовенство в такое материальное обеспечение в виде жалованья от казны или от прихожан, чтобы устранялась возможность возникновения нареканий на духовенство за вымогательство...». Однако, до самой революции 1917 г. вопрос о введении жалованья приходскому духовенству и установления таксы за духовные требы оставался неразрешенным.
Часто и сами священники своим безнравственным поведением и ненормальным порядком исполнения приходских треб давали повод прихожанам быть недовольными ими. Журналы Ставропольской Духовной Консистории хранят многочисленные сведения о нравственном облике православного духовенства начала XX вв. Очень часто, высшему духовенству Ставропольской епархии приходилось рассматривать жалобы прихожан на своих нерадивых священников. Чаще всего притч обвиняли в пьянстве, в нетрезвом свершении служб и непристойном поведении в храме.
Такое пренебрежительное отношение притча к выполнению своих обязанностей вызывало недовольство со стороны населения. Прихожане видели, что для многих священников совершение таинств основано не на идее, а в большинстве случаев только на одной торговле, вся их деятельность строилась исключительно на выгоде и интересе. И простой народ это сознавал, громко высказывал свое осуждение, а то и презрение к таким священникам.
Конечно, были и настоящие священники для радости и утешения верующих людей, но они были незаметны для начальства, их не выделяли и не поощряли, да они об этом и не заботились.
Слабость внутренней духовной жизни паствы и пастырей в значительной степени объясняется политической ролью, которую играла православная церковь в то время. Начиная с периода правления Петра I церковь, по словам Д.В. Поспеловского, «превратилась в приводной идеологический ремень крепостнического государства». Приходское, особенно сельское, духовенство фактически выполняло роль полицейского, который должен сообщать правительству имена и численность потенциальных рекрутов для армии, доносить об антиправительственных разговорах и даже пренебречь тайной исповеди, если она содержит антиправительственные замыслы.
Таким образом, успех антирелигиозной политики советской власти в 20-е гг. во многом объясняется падением авторитета православной церкви среди населения еще накануне революции и связанными с этим сильными антиклерикальными настроениями. Неподвижность догмы, преобладание административной стороны над духовной, ритуализм [188] масс и их равнодушие к духовному содержанию религии были характерным явлением рассматриваемого периода.
В начале XXI века, как и в начале XX, Россия стоит перед необходимостью реформирования земельных отношений. Поэтому опыт проведения столыпинской реформы, в частности, оказание ссудной помощи, представляет значительный интерес. Целью столыпинских преобразований была, как известно, интенсификация хозяйства. Авторы реформы понимали, что на реорганизацию крестьянских хозяйств нужны были, прежде всего, средства. Поэтому в связи с проведением реформы 1906 года значительно возросла ссудная помощь крестьянскому населению со стороны землеустроительных организаций. На основании Указа 15 ноября 1906 года крестьяне могли получить один из двух видов ссуд: под залог надельных земель в Крестьянском Банке или из кредита на оказание помощи населению.
Местное отделение Банка, получив ходатайство о ссуде, отдавало его в уездную землеустроительную комиссию, которая определяла, насколько планируемый выдел или раздел представляются целесообразными и вызывают необходимость расходов. По правилам, утвержденным Министерством финансов 10 мая 1907 года, ссуды выдавались на покрытие следующих расходов: а) при переходе общества от общинного владения к подворному; б) при расселении общества на отдельные поселки или хутора; в) при разделе обществом надельной земли на отрубные участки; г) при отводе к одним местам чрезполосных участков отдельных домохозяев. Кроме первого случая (а) выдача ссуд из Банка допускалась только под залог отдельных образованных участков.
Землеустроительные комиссии определяли при этом целесообразность расходов. Так, средства из кредита на оказание помощи комиссия решила распределить между нуждающимися крестьянами шести вновь образованных сел Северо-Мажарской и Верхне-Чограйской дач Прасковеевского уезда. Обследовав положение переселенцев, комиссия пришла к выводу, что только 1/3 дворов действительно нуждается в ссудах. Давались эти ссуды на исключительно льготных условиях, без процентов. Возвращать их надо было каждому хозяину по истечении 5 льготных лет в течение 10 следующих лет ежегодными платежами. Поэтому комиссиям необходимо было следить, чтобы такие ссуды попадали действительно по назначению. В документах комиссии сохранилось немало дел, когда проситель брал ссуду на перенос усадьбы на укрепленную землю, а сам к тому времени землю уже продал. [189]
Процедура получения ссуд была очень сложна. Ходатайства принимались отделениями Банка лишь при наличии приговора, постановленного не менее двумя третями всех домохозяев селения. Затем землеустроительная комиссия вычисляла размер расходов на каждое отдельное владение или десятину земли. Причем, ссуда не могла превышать 60% стоимости залоговых земель в случае образования хутора или отруба, или 40% стоимости земли в остальных случаях. Здесь видны преимущества в получении ссуд хуторянами. При выдаче ссуд комиссия оказывала содействие крестьянам к осуществлению выдела: с помощью землемеров производила межевые работы.
После всех вышеназванных действий отделение Банка назначало ссуду к выдаче и выдавало ее либо на руки заемщику, либо переводило в распоряжение комиссии половину суммы, получая при этом расписки. Вторая же половина ссуды выдавалась Банком по получении удостоверения землеустроительной комиссии о выполнении заемщиком работ по улучшению землепользования. Такая усложненная бюрократическая процедура не способствовала быстрой реорганизации крестьянского хозяйства.
Надельные земли крестьян поступали в залог Банку в полном составе, то есть со всеми постройками и сооружениями, какие были на участке и будут позже возведены, а также с лесом, насаждениями и ископаемыми в недрах. Без разрешения Банка хозяин заложенной земли не мог заключать арендные договоры, продавать на сруб лес, продавать или сносить строения. Погашались эти ссуды крестьянами в течение 13, 18 и 28 лет платежами соответственно по 9,25 рублей; 7,5 рублей и 5,8 рублей в год на каждые 100 рублей ссуды. При несвоевременном взносе платежей земля продавалась с публичных торгов со всем имуществом.
Кроме ссуд под залог надельных земель крестьяне могли получить ссуды из кредита на оказание помощи населению. Эти ссуды выдавали землеустроительные комиссии, а не Банк, по правилам, утвержденным Комитетом по Землеустроительным делам 7 марта 1907 года. По этим правилам ссуды выдавали в случае расселения крестьян выселками или хуторами внутри надела или при переселении на купленные земли. Ссуды можно было использовать на перенесение усадьбы, организацию водоснабжения, например, устройство запруд, а также на прокладку дорог, осушку или расчистку земель и т.п. Для выдачи подобных ссуд и безвозвратных пособий в распоряжение ставропольского губернатора только с мая по август 1907 года ГУЗЗ было переведено 170000 рублей.
Первоначально предписывалось комиссиям отдавать предпочтение безземельным или малоземельным крестьянам, которые не имели возможности взять ссуды под залог надельных земель, а также тем крестьянам, землеустройство которых имело показательное для окрестного [190] населения значение. Причем, деньги крестьянам выдавались не иначе, как по исполнении предложенного благоустройства, одну часть суммы крестьяне получали при начале работ, другую — при их выполнении. На одну семью выдавалось не более 165 рублей, если усадьба переносилась на расстояние более 30 верст, и только половина этой суммы, если усадьба переносилась менее, чем на 30 верст.
На одном из заседаний ставропольской землеустроительной комиссии ее члены пришли к выводу, что, несмотря на наличие денег «на удовлетворение нужд новоселов», необходима строгая оценка степени нужды каждого просителя, так как по донесениям земских начальников большинство новоселов вообще могут обойтись без ссуды. Однако, «из практики выдачи ссуд усматривается, что население новых селений почему-то полагает, что своим заселением оно сделало особенное уважение Правительству, которое обязано оказывать ему всяческую помощь в самом широком размере и безвозвратно выдавать всякие ссуды». Здесь отражена довольно типичная черта крестьянского менталитета — убежденность в том, что «начальство» обязано заботиться о них, а государственная казна безбрежна.
Давались ссуды, как уже было сказано, на весьма льготных условиях, Не уплаченные платежи приравнивались к недоимкам. Правила предполагали и выдачу безвозвратных пособий, в случае, если землеустройство имело образцовое, показательное значение, или же крестьяне находились в особо неблагоприятных условиях.
В октябре 1907 года вышеназванные правила получения ссуд были изменены в сторону расширения случаев назначения ссуд и пособий. Сумма ссуды теперь не зависела от расстояния переноса усадьбы, упростился процессуальных порядок назначения ссуд. Расширился и круг лиц, могущих претендовать на ссуды, теперь они распространялись на всех нуждающихся крестьян, независимо от поднадельных ссуд. Неизменным оставалось главное — ссудная помощь обязательно должна быть связана с условиями владения землей.
Эти деньги теперь можно было использовать по более широкому назначению: приобретать инвентарь, улучшенные семена, удобрения. Причиной изменения правил было мнение Комитета по землеустроительным делам, что «задачи землеустройства заключаются не в одном проведении новых форм крестьянского землепользования, но в насаждении прочных крестьянских хозяйств, новых не только по форме, но и по существу».
Один домохозяин мог получить только одну ссуду: либо в Крестьянском Банке, либо из землеустроительного кредита. Основным требованиям при выдаче ссуд было не только доказательство просителем своего намерения перейти к улучшенному землепользованию, но и фактическое осуществление этого намерения. Например, принятие [191] землеустроительного проекта и установление границ новых владений, заключение купчей крепости и т.п.
Как ссуды из кредита, так и ссуды Крестьянского Банка имели одну цель — дать крестьянам средства, необходимые для покрытия расходов, связанных с землеустройством. Различие их было в том, что ссуды из кредита ассигновались из средств государственного казначейства и выдавались, преимущественно, малоземельным и безземельным крестьянам, а ссуды под залог надельных земель предназначались более широкому кругу сельского населения. Если хозяину срочно нужны были средства, то еще до получения ссуды из Банка землеустроительные комиссии могли выдавать авансовые ссуды из кредита без процентов, а при получении банковской ссуды сумма авансовой ссуды удерживалась землеустроительной комиссией.
Значительной денежной помощи при землеустройстве ставропольским крестьянам оказано не было. За 1907—1915 гг. 6981 хозяйство обратилось с ходатайством о ссуде, 3663 из них ссуды были выданы на общую сумму в 205656 рублей. Это была наименьшая сумма по 47 губерниям страны. 294 домохозяина подали ходатайство о получении пособия, 125 из них оно было выдано в размере 1305 рублей. Кроме того, было выдано 20 авансов в счет ссуд под залог надельной земли.
В первые годы Советской власти главными хранителями культурных традиций, исторических и археологических памятников становятся краеведческие организации, общества и музеи, возникающие на местах. Архивные документы того периода отражают стремление Советского государства к созданию целостной системы охраны памятников, в особенности в провинции. Организационной базой служили государственные органы охраны памятников, вокруг которых объединялись краеведческие музеи и общества. Занимаясь административной охраной памятников древности, они разъясняли важность сохранения их, проведения охранных мер, ставили перед местными исполкомами вопрос об административной ответственности руководителей за разрушение памятников в ходе строительных и мелиоративных работ.
Первое десятилетие Советской власти — до рубежа 1920—1930-х годов называют еще и «золотым десятилетием краеведения». Это был период организационного оформления краеведения. Повсеместно возникающие краеведческие общества и музеи имели общие задачи: изучение полного края, сохранение памятников, распространение знаний [192] о своей «малой родине». Во многом эти организации сохранили преемственность с краеведами конца XIX — начала XX века. Они пришли на смену местным научным обществам и учреждениям, создавались на их основе, использовали их опыт и традиции. Ведь зачастую, особенно в провинции, краеведческую работу направляли те же исследователи, которые трудились в краеведческих организациях до 1917 года.
Краеведение предполагало комплексное изучение края, его истории, природы, экономики и географии, познание взаимосвязи природы и общества. Вместе с тем, краеведческие общества были выражением демократической самодеятельности. Любители-краеведы стремились отразить своеобразие своей земли, истории своего края. В отличие от предшествующего этапа в развитии краеведения, новый подъем краеведческого движения в стране был связан, прежде всего, с идеологическими установками в обществе.
Краеведческие общества занимались и охраной историко-культурных ценностей. Революционный период был сложным и противоречивым. Борьба против всего «старого» в ходе строительства государства нового типа сочеталась со стремлением сохранить историческое наследие. Все это нашло отражение в культуроохранительной политике Советского государства. Несмотря на все сложности и ошибки, жесткие радикальные меры, которые носили вынужденный характер, Советское государство сохранило культурные ценности, остановило процесс разрушения и уничтожения памятников.
Одним из первых мероприятий Советской власти была разработка двух концептуальных законов по охране памятников истории и древности: Декрета от 19.09.1918 г. «О воспрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения» и Декрета от 05.10.1918 г. «О регистрации, приеме на учет и сохранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений». Декреты, инструкции и постановления являлись практически единственными официальными документами, в которых закладывались принципы охраны памятников истории и культуры. В этот период складывается особая государственная политика, направленная на сохранение историко-культурного наследия, которая реализуется не только в центре, но и на местах.
Организацию историко-краеведческих исследований рассматривали как сложную комплексную задачу, которая требовала особого подхода и специальных знаний. Исследовательская работа должна была строиться в соответствии с социальным и государственным устройством страны. С учетом этих факторов велись поиски действенных форм и методов руководства научной деятельностью краеведов, намечалась структура сети научно-исследовательских учреждений. Как правило, они были связаны с краеведческими организациями и обществами, имели разнообразные организационные формы применительно к местным [193] условиям (секции, бюро, общества, кружки, музеи, институты и т.д.). Задачами их являлись: «...инвентаризация, описание и первоначальное систематизирование естественных производительных сил и культурных ценностей данного региона». Все научно-исследовательские работы подлежали «увязке в особый план», например, «Пятилетний план краеведческих работ по Северо-Кавказскому краю».
В губернские города для налаживания контактов с местными органами охраны, проведения регистрации культурных ценностей командировались специальные эмиссары, уполномоченные, «разъездные агенты». В 1921 г. в г. Ставрополь для осмотра музеев, выяснения постановки музейного дела, принятию мер к охране памятников был командирован эмиссар К.Е. Болотов. В 1920—21 г.г. в губерниях Северного Кавказа были созданы комитеты и секции по делам музеев и охраны памятников искусства и старины. Заметное влияние на них оказывали процессы научно-государственного строительства и административно-территориальные изменения региона.
7 августа 1920 года была образована Ставропольская секция по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, которую возглавил Г.Н. Прозрителев. Задачей секции являлось выяснение положения находящихся в пределах края памятников старины с целью их охраны. По сути она продолжала работу Ставропольской ученой архивной комиссии, ликвидированной в 1920 году. Основными направлениями работы секции были: научно-исследовательское, археологическое, разбор и охрана архивов, культуроохранительное. Большую планомерную работу по изучению и охране памятников древности, в деле организации краеведческого движения на Ставрополье проводило Окружное методическое бюро при ОКРОНО и созданное им Ставропольское окружное краеведческое общество (Городецкий Б.М., 1928).
Организационное оформление краеведения связано с I Всероссийской конференцией (1921 г., Москва). На конференции рассматривались вопросы научно-методической и организационной координации деятельности краеведов. После этой конференции стал функционировать руководящий орган — Центральное бюро краеведения (ЦБК, 1922), возглавил которое вице-президент Академии наук С.Ф. Ольденбург. ЦБК координировало и объединяло деятельность местных любителей-краеведов, занималось регистрацией новых краеведческих организаций, издавало свои журналы «Краеведение» (1923—1929) и «Известия Центрального бюро краеведения» (1925—1929). ЦБК провело учет всех краеведческих организаций, содействовало развитию краеведческих музеев, задачей которых было изучение местного края.
Важная роль отводилась созданию этнолого-археологических комиссий, обществ и институтов в различных регионах страны. Они должны были вести научно-исследовательские работы по изучению памятников древности, искусства, старины и народного быта; объединять и [194] координировать работу местных краеведческих обществ; способствовать распространению этнолого-археологических знаний; заниматься охраной памятников материальной культуры. Общее руководство их деятельностью осуществляла РАИМК, а подчинялись они Академическому центру Наркомпроса. В начале 20-х годов начиналась работа по созданию сети этнолого-археологических комиссий на Северном Кавказа — в г.г. Краснодаре, Ставрополе, Владикавказе, Пятигорске и др. Организационная работа была поручена уполномоченному Российской академии, председателю Северо-Кавказской этнолого-археологической комиссии, профессору Пархоменко (г. Краснодар).
На основании постановления РАИМК 28 мая 1921 года была создана и Ставропольская этнолого-археологическая комиссии (СЭАК) — первое советское научное учреждение по изучению и исследованию края, деятельность которой была важным этапом в развитии традиций местного краеведения. Зарегистрирована она была в Ставропольском отделе управления 2 августа 1922 г. и действовала на основании «Положения о деятельности и составе этнолого-археологических комиссий». Работа этнолого-археологической комиссии проходила в тесном сотрудничестве с музеем Северного Кавказа. В ее деятельности можно выделить пять основных направлений: этнографическое изучение края; археологические исследования; культурно-охранительная деятельность; просветительская работа с населением; археографические и архивные изыскания. Особого внимания заслуживают предпринятые комиссией попытки скоординировать местные краеведческие силы по изучению Северо-Кавказского региона, наметить общую программу исследований. Положительным и полезным было установление тесных и постоянных научно-творческих контактов краеведов-археологов между собой Ставрополья (Г.Н. Прозрителев), Краснодара (Н.А. Захаров), Владикавказа (Л.П. Семенов), Ростова-на-Дону (А.И. Яцимирский) Нальчика (М.И. Ермоленко), Пятигорска (Д.М. Павлов, В.Р. Апухтин).
В 1921—25 гг. на Северном Кавказе проводились и художественно-этнографические экспедиции (1921 г. — в Нагорный Дагестан, в 1924 г. — в Дагестан, в 1925 г. — в Карачай, Дагестан, Чечню), носившие краеведческий характер (Доде З.В., 1997). Результатом экспедиций стала богатейшая коллекция, хранящаяся в Ставропольском краеведческом музее, отражающая антропологические типы, занятия, утварь, орудия труда, орнаменты, костюм, архитектурные и погребальные памятники, обычаи и обряды, являющиеся сегодня ценным историческим источником.
В декабре 1924 года состоялась II Всероссийская конференция научных обществ по изучению местного края, проанализировавшая работу на местах и наметившая основные направления в развитии краеведческого движения. На конференции были заслушаны и отчеты о [195] деятельности северо-кавказских краеведческих организаций (Городецкий Б.М., 1928).
Позднее, в 1926 году, возникло и Северо-Кавказское бюро краеведения, сыгравшее важную роль в организации краеведческих обществ, экспедиционной деятельности, издательской работы. Работа его проводилась по трем основным направлениям: исследовательская деятельность, организация научно-краеведческих обществ, кружков, реорганизация музеев, учет и информация между организациями и учреждениями, объединение, планирование и координация их деятельности. В составе Северо-Кавказского бюро была образована секция археологии, антропологии, этнографии и истории искусств. Председателем ее стал археолог А.М. Ильин, членами — С.Ф. Войцеховский, Н.М. Егоров, Б.В. Лунин, М.А. Миллер, Г.Н. Прозрителев, Л.П. Семенов и другие. Она должна была планировать и объединять все научно-исследовательские и краеведческие организации края, собирать сведения о предполагаемых археологических работах и лицах, их производящих, о всех археологических памятниках, находках, открытиях и результатах в области археологии, антропологии, этнографии и истории.
На III Всероссийской конференции в 1928 году в состав ЦБК вошло 12 представителей от Северо-Кавказского региона. Среди них были: А.И. Воскресенский, Г.Ф. Руденко, Г.Г. Григор (г. Краснодар), А.П. Семенов (г. Владикавказ), Е.А. Ларин (г. Пятигорск), Г.Н. Прозрителев (г. Ставрополь). Именно на первых трех краеведческих конференциях РСФСР и СССР в Москве были рассмотрены наиболее существенные вопросы, определившие перспективы развития краеведения в стране.
В начале 1930-х годов XX века ситуация в краеведении резко изменяется. Несмотря на то, что возрастает интерес к краеведческим изысканиям, к истории и археологии края, выходят документы, направленные на поддержку краеведческого движения, число провинциальных исследовательских центров сокращается, резко уменьшается финансирование культуроохранительной деятельности. Происходившая централизация научно-исследовательской деятельности, которая на первых порах имела положительные результаты и способствовала ускорению процесса объединения всех учреждений и обществ, занимающихся историческими, этнографическими и археологическими изысканиями в регионе, теперь приводила к сворачиванию научных исследований на местах, оттоку научных сил в столичные центры. Ликвидация провинциальных краеведческих центров была предопределена невозможностью их существования в новой, централизованной системе организации научных исследований.
Вместе с тем, краеведческая деятельность способствовала изучению прошлого страны, подъему уровня интеллектуальной жизни провинции, просвещению широких слоев народа. Деятельность краеведов имела немалое значение для развития науки. Но наибольшая заслуга краеведов — в деле организации спасения и сохранения многочисленных [196] памятников, в деле создания краеведческих музеев и объединений общественности, всех тех, кто понимал важность и историческую ценность памятников. При отсутствии научных учреждений на местах именно краеведческие общества превращались в «академии наук на местах».
В 20-ые годы черты нового и старого в повседневной жизни постоянно сталкивались и сочетались. Придя к власти, большевики стремились к построению нового общества, пытались привить новые формы культуры и быта, новое мышление. Началась решительная ломка привычного образа жизни, разрушение традиционного уклада.
Особенно яростной и нетерпимой была антирелигиозная пропаганда. Привлекать внимание читателей газет должны были заголовки, которые составлялись в нужном идеологическом направлении: «Почему Христов мир прикрывает кулацкую контрреволюцию», «Поповские и сектантские подголоски — агенты кулака и нэпмана», «Мы строим мир без попов и веры в бога!». Авторы подобных рубрик не стеснялись в очернительных характеристиках духовенства: «верная собака своего белогвардейского хозяина», «пёстрая вереница мёртвых душ», «поповская шайка бандитов».
Центральное место в газетах было отведено статьям о ходе изъятия церковных ценностей, о судебных процессах в Москве над священниками, о расстреле попов, о предстоящем процессе над Тихоном, о вскрытии «камешек, тряпок и всякой дряни», которую попы выдают за светлые «нетленные» мощи. В борьбе с «малосознательными» верующими власть делала ставку на молодёжь. В 1926 г. в Ставрополе создаётся одно из самых массовых добровольных обществ — Городской союз безбожников. На первой странице журнала «Безбожник», издаваемого обществом, помещался лозунг «Долой эту сволочь религию». Помимо издевательских заметок над «тёмными религиозными старухами», весёлых прибауток и карикатур на бога журнал давал советы, как употреблять иконы на дрова, какие концерты, лекции, беседы, театральные номера желательно устраивать в клубах в дни религиозных праздников.
Для атеистической пропаганды использовались пародийные, игровые, театральные церемонии. В ночь на 7 января 1923 г. по ул. К. Маркса до Тифлисских ворот потянулось грандиозное шествие богов мира. Здесь были Будда с благословляющими руками, китайские бонзы, католические попы с римским папой на автомобиле, православные монахи верхом на чёрном гробе с мощами. Самой популярной среди [197] молодёжи стала игра Красная коляда. Играющие с красными звёздами идут хороводом и поют, в центре круга находится фигура попа в виде ряженой козы.
Особое значение придавалось агитационным театральным постановкам. В 1923 г. в Ленинском театре с «успехом» прошла комедия Т. Холодного «Отец Серафим и К». Перед зрителями развернулся быт захудалого монастыря на фоне «молитвенного лицемерия, пьяного разгула» монахов, которые с целью поднятия своих доходов организовали открытие мощей в горах Осетии. Однако монашеский обман и жажда к наживе была разоблачена местным населением. Хотя пресса и утверждала, что вся пропаганда с энтузиазмом встречается обществом, на деле и карнавалы, и игры, и театральные пьесы проходили в пустых залах, на безмолвных улицах.
Крушение идеалов, ломка вековых морально-нравственных устоев, традиционной морали и быта приводили к складыванию своеобразного культурного «вакуума». Образовавшаяся пустота не только в культурной сфере, но и в душе человека, способствовала усилению роста духовных потребностей в обществе. Стремясь заполнить культурный «вакуум», новая власть развернула по всей стране широкую сеть образовательных учреждений, волостных и городских библиотек, изб-читален, передвижек, клубов. В 1923 г. было создано общество «Долой неграмотность», которое имело по всему Ставрополью к 1928 г. почти 768 пунктов по ликвидации неграмотности. В городских избах-читальнях за 1924 г. было поставлено 282 спектакля, организовано 17 выставок, 156 вечеров самодеятельности.
На годы НЭПа приходится расцвет издательской деятельности. В свет было выпущено несколько миллионов произведений писателей классиков России и мира. Бурное развитие газетно-журнальной периодики усиливало желание населения овладеть хотя бы простейшими навыками чтения и тем самым приобщиться к информации о новых «веяниях» в жизни страны. Самым предпочитаемым среди обывателей стал журнал «Ставрополье», знакомивший своих читателей с передовыми методами ведения сельского хозяйства, налоговыми льготами для социальных групп, с международной обстановкой в мире.
В 20-ые годы новый всплеск переживает культура массовых гуляний. Народные гулянья организовывались в парках, где устраивались карнавалы, танцевальные вечера, концерты симфонических оркестров. Нередко на гуляньях горожане могли увидеть цирковые представления гастролирующих атлетических трупп. Массовые гулянья формировали единую для всех групп населения культуру досуга и развлечений, стирающую барьер между социальными слоями.
На театры, кино, цирк в новых исторических условиях были возложены не столько развлекательные и эстетические функции, сколько про-пагандийские, отвечавшие идеологическим установкам власти. [198] В 1922 г. при Главлите создаётся комитет по контролю за репертуаром зрелищных мероприятий, без разрешения которого ни одно произведение не могло быть допущено к постановке. Только за 1925 г. Ставропольский гублит запретил постановку 250 кинокартин и 60 театральных пьес по причине идеологической невыдержанности. Менее строгий контроль осуществлялся за деятельностью гастролирующих цирковых труп и артистов жанра песен улицы, чей репертуар с трудом поддавался контролю.
Другим видом развлечения для горожан были заведения с азартными играми. Право выдачи разрешений на открытие в городе клубов с азартными играми было дано в 1925 г. К этому времени в Ставрополе уже существовало три клуба, где производилась игра в лото, карты, механический ипподром, бикс, шмен-де-фер, кости. Доходы от азартных клубов составляли 40% бюджета местных организаций и это подталкивало на открытие новых видов азартных игр.
Массовая культура 20-ых годов была ориентирована на воспитание и формирование новой личности с особым стилем мышления и поведения. Одной из главных черт в духовной жизни было критическое отношение человека ко всему тому, что осталось от прошлого, в том числе и в культуре. Уничтожение буржуазного строя в глазах многих воспринималось как отрицание старого образа жизни, нравов, морали, культуры и быта.
Важнейшей сферой взаимоотношений крестьянства и власти были отношения в области аграрного производства. Их характеризует, в частности, система эксплуатации крестьянства с внеэкономическими методами принуждения, окончательно сложившаяся к концу 1930-х годов. Тогда же законодательно были закреплены отработочная, натурально — продуктовая и денежная повинности крестьянства.
Отработочная система складывается параллельно становлению колхозного строя. Во многом она связана со становлением обязательного уровня выработки трудодней в колхозе, а также с трудовой повинностью крестьянства в некоторых других отраслях народного хозяйства. Законодательно нормы выработки были оформлены в 1939 г. Постановлением ЦК ВКП (б) и СНК «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания». Обязательный трудовой минимум выработки трудодней для каждого трудоспособного члена колхоза составлял от 60 до 100 — для различных районов страны. Его невыполнение [199] влекло исключение из колхоза и лишения права пользования приусадебным участком. В первый год войны колхозы Ставропольского края провели уборку, а затем осенний и весенний сев быстрее и организованнее, чем прежде. В военное время ожесточились требования, предъявляемые к колхозникам. Так, каждый член колхоза должен был отработать не менее 100-150 трудодней. Впервые вводился обязательный минимум для подростков, которым стали выдавать трудовые книжки. Колхозники, уклоняющиеся от работ в общественном хозяйстве, несли судебную ответственность. Указами Верховного Совета СССР 1948 и 1951 годов «О выселении в отдаленные районы страны лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни», невыработка трудодней каралась решением общего сельского собрания 8 годами ссылки. Отработочная повинность сельского населения также включала «безусловное выполнение установленных заданий » по заготовке леса. С конца 1920-х годов преследовалось через суд невыполнение норм выработки («добровольных обязательств») в лесозаготовительной компании. Кроме того, трудоспособные колхозники ежегодно должны были бесплатно отработать шесть дней на дорожных работах. Уклонение каралось штрафами, взыскиваемыми в «бесспорном порядке», т.е. без суда.
Натуральные повинности вводятся в 1932—1933 годах на определенные, а к концу 1940 года на все основные продукты сельскохозяйственного производства. Прямое воздействие их на крестьян связано не только с обложением колхозов, но и с тем, что госпоставки до 1958 года проводились с приусадебных хозяйств колхозников, а так же единоличников. Обязательные поставки имели силу закона и подлежали безоговорочному выполнению строго в оговоренные сроки. Невыполнение обязательств влекло судебную ответственность.
Денежные изъятия проводились в виде сельскохозяйственных налогов, как с колхозов, так и с населения. За укрытие источника дохода плательщики налога законом 1939 года привлекались к уголовной ответственности. Имущество «недоимщика» описывалось. Мобилизация денежных доходов колхозников проводилась с конца 1920-х годов также через систему государственных займов, по существу носивших характер налога.
Ограничения касались и правового положения крестьянства. С 1932 года в стране существовала дискриминационная в отношении колхозников паспортная система. В соответствии с ней, вне паспортизации было оставлено колхозное крестьянство, за исключением Московской, отдельных районов Ленинградской области и некоторых специально указанных местностей. Такое положение существовало, хотя и в несколько смягченном виде до 1974 года. В послевоенный период отсутствие паспортов у крестьян позволяло административно сдерживать исход из деревень, ибо для получения паспорта требовалось разрешение [200] правления колхоза. Нарушение паспортного режима влекло как административную, так и уголовную ответственность.
Другим важным документом, регламентирующим правовое положение колхозников, был Примерный устав сельхозартели, принятый II Всесоюзным съездом колхозников-ударников 17 октября 1935 года и утвержденный СНК и ЦК ВКП (б). Свободный выход из колхоза, согласно ему, не предусматривался.
Исключение применялось лишь к нарушителям трудовой дисциплины, а с 1938 года действовало запрещение исключения из колхоза за относительно мелкие провинности. Стало запрещаться также исключение из колхоза членов семей крестьян, выбывших в связи с уходом на временную или постоянную работу в промышленность, строительство. «Крепость» на земле распространялась не только на самих колхозников, но и на их детей, которые с 16-летнего возраста зачислялись в колхозы без подачи заявления.
Кроме прикрепления крестьяне подвергались недобровольному переселению, переводу в другое социальное состояние.
Система «властвования» государства реализовывалась через государственную законодательно-правовую систему, местные правовые акты, а также чиновничье-административный произвол. Основой государственного регулирования крестьянской жизни был Примерный устав сельхозартели 1935 года. В него были включены положения, позволявшие государству командовать колхозами, юридически «правомерно» регулировать колхозную жизнь.
Акты действия местных властей нередко были более жесткими. В качестве наказаний для колхозников применялось наложение бойкота, лишение работы в колхозе сроком на несколько месяцев.
Необходимо отметить, что право единоличного наложения «моральных и материальных» взысканий и денежных штрафов по принятым колхозами Уставам предоставлялось широкому кругу должностных лиц, от председателя колхоза до бригадира. При этом оговаривалось, что «жалобы на строгость наложенных взысканий могут подаваться лишь на правление колхоза, решение которого является окончательным». На деле, вместе с законами и подзаконными актами в деревне широко распространены были случаи «превышения власти» со стороны различных чиновников и должностных лиц в виде обысков колхозников и их домов, незаконных приводов, арестов, предания суду, нанесения побоев и оскорблений. В.П. Попов приводит многочисленные факты так называемых «извращений политики партии и правительства» в виде принудительного изъятия средств у колхозов и колхозников, в том числе на личные нужды, проявлений дикого самоуправства (Попов В.П., 1992).
Ответной реакцией крестьянского социума на воздействие «извне», прежде всего со стороны государства, являлся социальный протест. [201]
Целью социального протеста являлась защита жизненно важных интересов крестьянина и его семьи, причем определяющим моментом была необходимость обеспечить физический минимум выживания, а также потребность в утверждении человеческого достоинства и самореализации личности.
По формам социальный протест крестьянства в указанный период можно условно разделить на активный и пассивный. Под активным мы подразумеваем такие действия, как поджоги, поломки предметов общественной собственности, единичные случаи убийств представителей местной власти и т.д. к активной форме социального протеста можно отнести и крестьянскую «борьбу за землю» по ее устойчивости и массовости. Под пассивным протестом понимаются настроения и непосредственно связанные с ними действия ненасильственного характера (уход из деревни, уклонение от работ в общественном хозяйстве в пользу приусадебного хозяйства, отправление религиозных обрядов и т.д.). Крестьянский протест на данном историческом отрезке в основном имел индивидуальный, реже групповой характер, и не ставил целью изменение или свержения существующего строя. Выступления, действия, высказывания, настроения, выражающие социальный протест, были направлены на приспособление к заданной сверху системе, но выражали несогласие с конкретными формами ее реализации.
Наиболее ярко активные формы социального протеста в деревне проявились в вооруженной одиночной или групповой борьбе. Она была довольно распространенным явлением в 1920—1930-е годы. Считалось общепризнанным ее отсутствие на территории России с конца 1930-х годов и в течение всего послевоенного периода. Последние исследования показали неправомочность данных выводов. Так, в публикации В.П. Попова описаны события 1946 года в челябинской области, когда 20 человек крестьян убили двоих и тяжело ранили нескольких человек, прибывших на лесозаготовки (Попов В.П., 1992).
Реакция власти на подобного рода проявления несогласия с существующим порядком состояла в немедленном жестоком уголовном наказании виновных, а затем в длительной идеологической обработке деревенского сообщества через партийные, комсомольские, колхозные собрания.
Однако особенно массовый характер приобретала борьба «за землю». Приусадебные участки, оставленные колхозникам для самостоятельного хозяйства были чрезвычайно малы. К тому же государство стремилось их уменьшить.
Основной формой крестьянского протеста на всем протяжении исторического развития данного класса оставалась борьба ненасильственными методами, без оружия в руках. Наиболее распространенные способы протеста связаны со стремлением крестьян уклониться от существующих порядков. Среди них ведущее место занимает «исход» из [202] деревни. Вербовались на стройки. Массовый характер приобрела отправка детей на учебу, имевшая цель, прежде всего облегчение условий жизни следующего поколения. Существовали и другие каналы «выхода на волю». Например, для получения паспорта молодые крестьянки выходили замуж «в город».
В 1946 г. колхозники бежали из голодной деревни в город. Десятки тысяч переселенцев отправлялись в Прибалтику, Калининградскую область и другие районы, еще не повергшиеся коллективизации. Только в Прибалтику ежедневно прибывало 35-40 тыс. чел.
Социальным протестом крестьян против насаждаемой государственной идеологии можно считать в условиях того времени массовое отправление традиционных религиозных праздников с оставлением работы в общественном хозяйстве.
Немало строк Анатолий Мураторич Бицуев посвятил родной земле, «краям родным», горам Кабарды, горцам, родному языку.
Горцы... Сильные мужественные люди, для которых жизни — это борьба с суровой природой. Даже миг рождения — борьба и защита. Об этом баллада «Рождение горца»: роженицу, окруженную ночью голодным, жадным кланом волков, спасает новорожденный сын:
...Вдруг
Все заглушил короткий женский крик...
...Был слышен крик за тридевять земель —
Вот так рождался новый человек.
Был крик для стаи выстрелом во мгле,
И замерли все волки, как один:
«Мужчина появился на земле!
Смотрите, у меня родился сын!»...
... А волчья стая, в страхе вздыбив шерсть,
С позорным визгом пятилась назад.
Так в миг рожденья, защищая мать,
Себя заставил уважать.
Перевод И.Кашежевой
О любви к родине, к родному очагу поэт пишет с такой преданностью, нежностью, любовью, и в то же время с самообладанием мужчины-горца, что порой задаешься вопросом; откуда берутся слова, из какого неиссякаемого источника. Так, в стихотворении «Я ищу слова для строк своих»: [203]
...Я для строчек лад ищу такой,
Чтобы песни, как ручьи журчали,
Чтобы согревали край родной,
Чтоб, во дни и счастья и печали
На родную землю упадали
Каплею дождя или слезой.
Перевод Н.Гребнев
В другом стихотворении он пишет о реках родной земле, о дожде, обновляющем ее, о песне «земле моей»:
И, внимая бегу речек,
Свисту птиц, слезам дождей,
Я пою о бесконечной
Новизне земли моей.
Перевод И.Кашежевой
Что источник раздумий, к кому обращаются «в час радости и в час беды?» Кого любит поэт настоящей любовью, а не «любовью ложной»? Чьим прошлым гордится и трудится для кого? Ответы на все эти вопросы мы находим в стихотворении «Родине». Ей, «Родине», посвящает он свою жизнь, которая ляжет мостом между прошлым и будущим:
Горжусь твоим я прошлым,
И во имя
Твоих грядущих дней
Сегодня я
Тружусь, — как мост,
Пусть ляжет между ними —
Меж прошлым и грядущим —
Жизнь моя!
Перевод Л.Шерешевского
Даже уезжая из родных краев, поэт трудится для блага их:
...Кружусь над дальним небосводом
Я, словно пчелка над цветком,
Чтобы пополнить свежим медом
Мой улей — мой родимый дом.
Перевод Л.Шерешевского
А заодно он лишний раз убеждается в том, «что в мире края лучше нет», и тоска вместе с ним «объехала весь белый свет». В своих скитаньях он учится выносливости — важному качеству мужчины-горца. Он хочет «подняться выше» в «звездные края», чтобы упасть камнем и преградить путь врагам своей земли.
Родной край, родная земля, родной язык — одно без другого не возможно. Боль переполняет поэта, тревога за язык отцов: «Она, как яда капелька в вине, / Готова травить живую душу». Но дальше он просит:
Не угасай, гори и согревай
Всех живущих в нем, [204]
Язык родной, храни себя, храни!
Храни в веселый день и в день печали,
Чтоб внук мой, правнук в завтрашние дни
Прочли мой стих — завет в оригинале.
Перевод В.Логвинова
А вот другие строки: «Родной язык, / Ты мой источник счастья...». Это из «Монолога турецкой поэтессы адыгского происхождения». Здесь мы так же находим и радость, и муку, и тревогу, и надежду, и боль. Не могут не затронуть сердце эти строки: «Родной язык мой — / Мой ребенок славный ... / Ты жизни всей / Надежда и основа / Ты, как привет / Моей Отчизны дальней... Лишь твоею / Я жива любовью ... / Мгновеньем каждым / Связана с тобою». Сколько же здесь боли и любви!
Немало стихотворных строк посвятил Анатолий Муратович людям, известным не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Кого-то из них, к сожалению, среди нас уже нет:
Я молча Вас любил, Кайсын!
И строк
Любви не посвящал
До самой смерти,
В которую
Поверить, я не мог.
Перевод В.Логвинова
Памяти Кайсына Кулиева он посвятил эти строки. Памяти человека, который учил его мужеству жить и мужеству умирать, радости травам, «отаре на зеленном берегу», стонать в душе, а не на людях. Анатолий верит, что на могиле Кайсына —
Расцветет цветок
В честь дружбы нашей:
Всемогуще слово!
Одним из самых глубоких и прочувствованных стихотворений А.Бицуева является «Алиму Кешокову». Здесь он называет великого поэта «Наставником», и говорит, что согрет огнем его сердца. Он припадает к искусству и вдохновению Кешокова. Вместе с ним радуется и страдает, удивляется и «гневом горит». Дает наивысшую оценку творчества своего Наставника:
В слове полночь и в слове светает,
Глубина в них, и высь в них, и ширь.
Слово горскою саблей сверкает
И вздыхает, как нарт богатырь.
Перевод И. Ляпина
Земля Кабардино-Балкарии подарила миру знаменитого музыканта Юрия Темирканова. Ему посвящено стихотворение «Юрию Темирканову». Это стихотворение — послание земляку и брату. Ему — волшебнику, взмахнув орлиным крылом над городами Земли, предназначено [205] «красотой» звучание каждого оркестра» залить белый свет, чтобы не было места для ядерных ракет. Читаешь эти строки и поражаешься: где взял поэт такие слова, которые так ярко, так красочно, с такой любовью, с такой уверенностью передают чувства и мысли поэта? Надо в совершенстве владеть поэтическим слогом, чтобы заставить и читателя поверить:
От ядерного грохота и гула
Надеждой не повеет никогда.
Душа народа — вот в чем наше чудо.
Душа народа — наша красота.
Все в красоте: и зав, и довод веский.
Когда глядишь вокруг с ее высот,
Вдруг вспоминаешь:
Федор Достоевский
Сказал, что мир — как раз она спасет.
Перевод И. Ляпина
Мы верим в то, что красота таких выстраданных умом и душой строк, еще долго будет радовать и вдохновлять нас жить.
А что такое жить?
Идти — вперед к вершине мастерства,
Познанья, мысли
И, даже если смерть тебя зовет,
Уметь услышать позывные жизни.
Перевод И.Кашежевой
А пока живем мы, живет наша земля, наши горы, наш язык.
Любивший родину, свой народ до сердечной боли, Кайсын Кулиев-поэт не мог не написать прозу о балкарцах. Роман «Была зима» родился из национальной почвы и стал бесценным в этнографическом аспекте.
Подробное описание традиционных обычаев и обрядов со специфически национальными чертами и отражающими духовную культуру горцев дает четкое представление о народе даже неискушенному читателю. Писатель мастерски использовал словесную живопись для отражения характера мышления, мировосприятия, социального строя героев романа, так как все языковые средства отобраны с условиями национальной среды обитания балкарцев.
Особую функциональную нагрузку в романе несут формулы речевого поведения, которые отражают социально-бытовые отношения [206] между людьми, этикетные традиции народа, дают представление о нравственных качествах, культуре балкарцев. Это приветствия, пожелания добра, клятвы, проклятия. «Гармонично сочетаются с другими языковыми средствами и яркие балкарские пословицы и поговорки, дополняющие национальную семантику художественного текста» (С.К. Башиева, «Начало и конец зимы»).
Этические нормы горцев включают в себя такие свойства, как уважение к старшим, к женщине, сдержанность в проявлении чувств, которые находят свое выражение в поведении людей. Так главная героиня романа Мариам, горячо обожая своего сынишку Тахира, никогда не дает волю своим материнским эмоциям.
Подробно рассказывает автор и о застольном этикете горцев, народных традициях, требующих уважительного отношения к пище.
Используя обряды из фольклорного репертуара, Кулиев освещает еще одну из граней жизни своего народа, делая ее интересной в этнографическом аспекте. Обряд оплакивания покойников был неотъемлемой частью эмоциональной жизни горцев, в них женщины-плакальщицы искренне выражали свое сострадание, разделяя невосполнимость утраты.
В романе есть очень интересный этнографический эпизод: «Девушки в горах обычно не ходили на свидания. Поэтому встретиться и поговорить влюбленные могли только при случайных встречах на улице или на свадьбе во время группового танца «Абзех», когда парень имеет право танцевать, ведя девушку под руку среди других пар».
Но Кулиев не удовлетворяется описанием того или иного обряда, он размышляет еще и над неправильной современной трактовкой некоторых этических норм балкарцев. Автор пишет: «Я знаком с примитивными суждениями иных наивных авторов плохих книг, что в горах женщину человеком-то не считали... Согласиться с этим я не могу. Родился я в горах, рос в обыкновенной крестьянской семье. И мне хорошо известно, какие у нас были отношения между мужчиной и женщиной. Берусь утверждать, что в горах Кавказа к женщине относились нисколько не хуже, чем в других краях».
Широко используя в романе речевые единицы, не имеющие эквивалента в русском языке, Кулиев, как правило, поясняет их в сносках. Но иногда он подробно разъясняет читателю назначение того или иного предмета, и тем самым делает небольшое микроэтнографическое отступление в повествовании.
С восхищением и любовью писатель приводит картины окружающей природы. Но эти описания лишены романтизма. Суровые условия существования накладывают свою печать на формирование личности горцев. Балкарцы сильны, мужественны. Ведь горы не прощают предательства, глупости, безответственности. Трудности бытия объединяют людей. В одиночку в горах не выжить. [207]
Таким образом, смысл романа раскрывается не только в характерах и ситуациях. Есть здесь нечто конкретно не выраженное. Это совершенно особое чувство, будто, читая роман, мы приобщаемся к самым корням жизни, все больше познаем и приближаемся к тому маленькому и огромному миру балкарского народа, который Кайсын Кулиев сумел воплотить в сравнительно малом объеме своего романа.
Проблемы социальной жизни и культуры всегда волновали ученых, особенно когда подводились итоги на рубеже веков. «Стык веков и тысячелетий» в наше время оказался благоприятной основой для поисков и решений развития этнокультур.
XX век ушел в прошлое, но философская мысль продолжает теоретическое осмысление процесса развития духовной культуры, художественного восприятия национального мира. Французский мыслитель Блез Паскаль когда-то сказал, что величие человека — в его способности мыслить. И это, по-нашему мнению, особенно ярко и полнозвучно проявляется в творческом сознании писателей, поэтов, музыкантов, то есть людей творческого труда, которые жили в период «переходных» этнокультур. Часто этот период национальных культур оказывался драматичным, сложным и противоречивым. Так было с «золотым» и «серебряным веком» русской культуры, так произошло и на «стыке» XX и XXI вв., когда произошло крушение СССР и художественная литература советского периода стала подвергаться сомнению с ее методом социалистического реализма. Ее постигла та же участь, что и многих писателей и поэтов русского Зарубежья, первой и второй «волны» русской эмиграции. Теперь забытые имена писателей русского Зарубежья, скажем, В.Максимова, В.Набокова, Д.Панина, М.Алданова, Б.Поплавского, М.Осаргина, В.Некрасова, А.Солженицына, В.Ходасевича, И.Бродского и многих других возвращены в школьные и вузовские программы по литературе на предмет изучения. Зря, конечно, и сейчас стараются выбросить из программ по литературе и из сознания молодых людей многие славные имена советских писателей и поэтов, которые по праву должны входить в историю русской литературы, хотя бы потому, что 70 лет Советской власти не выкинешь из истории России. Ведь общеизвестно, что художественное мышление писателя — это художественное сознание эпохи. И очень важно, как оно повлияло на самосознание отдельной личности и народа в целом. Особенно на молодежь, которая вступила в XXI век при многих драматизирующих ситуациях: продолжают идти локальные войны, рвутся традиционные [208] экономические и культурные связи с бывшими братскими республиками бывшего Советского Союза, и процесс маргинализации захватывает все большее и большее количество людей. Изменились не в лучшую сторону и ценностные ориентации, идеалы и нормы духовной культуры. Национальная культура КБР, как и вся наша духовная культура России, потеряла ощущение единства человека с другим близким по духу человеком, социальной группой, страной. Философ А.Ф.Лосев это называл «соборностью» существования культур, одним из ее основополагающих принципов существования.
Балкарец Кайсын Кулиев, истинный гуманист XX века, писал, обращаясь к поэтам будущего, и предостерегал их от пессимистического настроения, которое бывает, как известно, характерным для людей в. переходные периоды:
И горечью веков мы наполняли песни,
Чтоб стон запечатлеть в своих словах простых.
Бурлящее вино хранит бочонок тесный,
Живую боль хранит предельно сжатый стих.Во все века наш путь был тягостен и труден,
Всегда не далеки от нищенской сумы,
Мы оставались все равно друзьями людям,
И жизнь и солнце все равно любили мы.
Перевел Н.Коржавин
Стихотворение «Поэты» написано в 1942 году, когда Кулиеву было 25 лет. Но и через много лет, как бы подводя итоги жизни своего поколения (стихотворение так и называется «Говорю моему поколению» ) он с гордостью за тех, кто жил в XX веке, сказал:
Мы были силою великой,
В боях, которым равных нет,
И наши лица стали ликом
Жизнь утверждающих побед.
В его социальной памяти и творческом сознании переосмыслен трудный опыт далеких и близких лет, и нашло предельно художественное выражение всего того, что пережили современники Кайсына Кулиева:
Мы шли, за жизнь и смерть в ответе,
Сквозь все лишения вперед.
Уходит все на этом свете,
И наступает наш черед.За нами грозная эпоха
К рассвету выхода из тьмы.
Но в свой короткий век неплохо
Трудились мы, сражались мы.
Перевел М. Синельников [209]
Эти два четверостишия приведены из последней книги Кайсына Кулиева «Человек. Птица. Дерево», удостоенной Ленинской премии в 1990 году, то есть спустя шесть лет после смерти поэта. Эта книга отличается исповедальной искренностью, задушевностью, глубиной мысли и философскими выводами о всем том, что пришлось пережить поэту на протяжении его жизненного трудного пути. Отсюда трагический оттенок разделов книги «Жизнь остается жизнью», «Больничная тетрадь» и даже большого цикла стихов «Свет твоего лица». В предельно заостренной философско-этической проблеме «жизнь — смерть» поэт по-своему решал этот вопрос, волновавший различных мыслителей и художников мира.
1. Работая в архиве поэта Кайсына Кулиева (ЦГА КБР, ф.852), мы обнаружили письма однополчан, которые вместе с ним сражались на различных фронтах Великой Отечественной войны, начиная от Прибалтики до Севастополя.
Круг тем, затронутых военными и послевоенными письмами друзей и просто знакомыми Кулиева, весьма разнообразен. Но в этом многообразии как основное начало всегда выступала тема родины и дружбы солдат, у которых были единые интересы — победить врага, выжить и вернуться к своим родным. В письмах много личного, но во всех письмах преобладал патриотический пафос. Вот хотя бы письмо фронтового друга Кулиева — Керима Отарова, также воевавшего на фронте. Он писал ему в 1942 году, когда находился в больнице после ампутации ноги: «Я был в очень тяжелом положении. Одной ногой, можно сказать, находился в могиле. Мне было до слез тяжело. И написал тебе тогда открытку, где в конце писал: «Будешь на Кавказе, поклонись от меня родным горам»... Тяжелые дни были тогда. Да, дорогой, многое выпало на нашу долю и многое пришлось нам пережить. Но будем верить: настанет день, когда коварный враг будет уничтожен, и земля отдохнет после этих тяжелых потрясений. Тогда мы снова встретимся и будем счастливы тем, что исполнив сыновий долг перед любимой Родиной, честно, с честной душой и совестью скажем: «Да, мы сделали все, что могли для защиты родной земли, не требуя для этого никаких наград и поощрений. Наш долг — честно служить Родине, и мы его выполним» (ЦГА КБР, ф. 852, оп.4, ед. хр. 49, л.1-3). А в другом письме от 4 декабря 1943 года К. Отаров сообщал: « Дорогой мой Кайсын! Получил [210] твои стихи и письмо. Бесконечно я благодарен тебе, дорогой мой друг. Ждал я твоего письма и стихов с нетерпением. И только поговорили о тебе мы, буквально через несколько минут приносят твоих целых четыре пакета. Твои стихи замечательны. Поверь, Кайсын, я говорю от всей чистой души, без никакой лести и прочего другого...» Далее он сообщал Кулиеву в этом же письме о том, что говорил ему Деев из Москвы: «... ты поедешь на Кавказский фронт, — писал Отаров. — Он так и утверждал: « Думаем отправить Кайсына на Кавказский фронт, чтобы он и словами и своим авторитетом дрался с врагом за освобождение родного Кавказа, который он горячо любит». Мне было радостно это узнать, что ты поедешь туда, увидишь родные горы...»
2. К.Ш.Кулиеву писали письма видные военачальники, такие, как маршал Советского Союза, министр вооруженных сил СССР Малиновский, генералы Хаким Депуев, Султан Магометов, полковник Аскер Бадахов и другие. Они поздравляли поэта с днем рождения и с различными праздниками. Так, генерал-майор, заместитель Туркестанского военного округа X Депуев писал: « Уважаемый Кайсын Шуваевич! Сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с праздником 50-летия Великого Октября. От души желаю Вам отличного здоровья и дальнейших успехов в работе». А в другой поздравительной открытке он желал поэту: «...Я и вся моя семья сердечно, от всей души поздравляем тебя и твою семью с Новым 1971 Годом. Желаем Вам крепкого здоровья, большого счастья и успеха в работе. Крепко обнимаем. Хаким и семья. Город Алма-Ата» (Там же, оп. 1, ед. хр. 37).
3. Вместе с Кулиевым в годы войны сражались известные писатели, поэты, с которыми он встречался. Это были А.Фадеев, Д.Кедрин, К.Симонов, М.Шолохов, Н.Тихонов. Они были военными корреспондентами различных армейских газет. В послевоенные годы их фронтовая дружба продолжалась до конца жизни. В одном из поздравлений Н.Тихонов писал: «Дорогого Кайсына Кулиева, поэта-воина, героя Великой Отечественной войны сердечно поздравляю с Первым Маем и праздником 9 Мая — торжеством Победы над фашизмом! Желаю славному победителю фашизма хорошего праздника, весенней радости, мирной жизни, бодрости новой Весны! Вся моя семья желает счастья любимому Кайсыну и славит его от всей души. Слава Кайсыну Кулиеву! Николай Тихонов» (Там же, оп. 5, ед. хр. 78, л. 3).
4.Особенно много в архиве писем от простых солдат, рядовых войны. Одним из таких был А.И. Самойлов из г. Уфы, участвовавший в освобождении Кабардино-Балкарии. «Многоуважаемый Кайсын Шуваевич! — писал он. — Пишу под впечатлением Вашего чудесного выступления по московскому телевидению под девизом «Союз нерушимый». Я слушал выступления всех, но меня поразило Ваше выступление... Я майор в отставке. Один из тех, которые в августе-сентябре 1942 года оборонял вместе с полком 295-й дивизии 27 Армии Кабардино-[211]Балкарию, а в январе 1943 года принимал участие в освобождении вашей республики от оккупантов. В памяти у меня остались Кызбурун, Баксан, Чегем-1, Кишпек, Нальчи, Малка, Советское, Жемтала и другие населенные пункты Кабардино-Балкарии... Особенно много полегло наших солдат за освобождение села Малки Зольского района — свыше 800 солдат и офицеров, а сколько таких братских могил по всей территории КБАССР! Об этом я написал более 30 очерков и рассказов, опубликованных в газетах СОАССР. Ставрополья, Кубани и Молдавии, чтобы воскресить в памяти людей боевую летопись тех фронтовых дорог, по которым я дошел до Праги...» (Там же, оп. 3, ед. хр. 77, л. 77-78).
Письма однополчан имеют важное историко-познавательное значение. Они являются социальной памятью многих поколений и несут в себе нравственный аспект, напоминают о тех трагических событиях, которые не должны повториться. В них ощущается слитность каждой личной судьбы с исторической судьбой всего народа.
Невероятные трудности испытывало в военные годы сельское население края. Для нужд армии были мобилизованы трактора, автомашины, лошади. Ставропольское село осталось практически без тягловой силы. Новые поставки техники прекратились, оставшаяся — основательно нуждалась в ремонте и запасных частях. Горючее фактически не вьщелялось. Большинство работ приходилось вести вручную: пахали на коровах, а порой и сами люди впрягались в плуг.
Практически все трудоспособное мужское население было призвано в армию. В селах оставались дети, старики, инвалиды. Основной рабочей силой стали женщины. Именно они добровольно занимали места ушедших на фронт в МТС, на полях и фермах. Так, в течение первой военной зимы в крае подготовили 25 тыс. трактористов и механизаторов из числа молодых колхозниц и учащихся. В первый год войны колхозы края провели уборку, а затем осенний и весенний сев быстрее и организованнее, чем прежде. На полях Ставрополья вместе с сельчанами трудились тысячи пенсионеров, школьников, студентов.
Между тем фронт требовал продовольствия, а промышленность — сырья. Вся тяжесть решения этих проблем была возложена на сельское население края. Почти весь урожай ставропольские колхозы и совхозы должны были сдавать государству в счет обязательных поставок. За годы войны они дали Родине 120 пуд. хлеба, примерно 100-120 тыс. т [212] мяса, 130 тыс. т молока, 250 млн. штук яиц и 20 тыс. т шерсти. Из личных сбережений ставропольцы внесли в фонд обороны и приобрели облигации военного займа на 513,7 млн. руб. На эти средства были построены танковая колонна «Ставропольский колхозник», бронепоезд «Комсомолец Ставрополья» и звено боевых самолетов «Пионер Ставрополья».
Так как в годы войны на сельское население карточки не выдавались, крестьяне выживали только за счет приусадебных участков. Выращенные на них продукты использовались для собственного потребления, а также для продажи на рынках или обмена у городских жителей на потребительские товары. Цены на колхозных рынках увеличились в годы войны в 18 раз. Из-за отсутствия товаров на селе деньги по существу выпали из обращения. В начале 1942 г. был повышен (примерно в полтора раза) обязательный минимум выработки трудодней на каждого колхозника. В апреле вышло постановление о мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС городского населения.
Война нанесла колоссальный урон сельскому хозяйству края. В сельской местности оккупанты сожгли и разрушили 6,2 тыс. жилых домов, более 9 тыс. животноводческих построек, 2,7 тыс. зернохранилищ. В колхозах, совхозах и МТС было выведено из строя 4,5 тыс. тракторов, 1,5 комбайнов, 1,1 тыс. автомашин и много другой техники. Поголовье продуктивного скота в коллективных хозяйствах сократилось в 2,3 раза. Птицеводство было фактически уничтожено. Сельскому хозяйству края был нанесен ущерб на 10 млрд. руб. Настоящим бедствием для ставропольского села стала засуха 1945 г., охватившая северо-восточные и восточные районы края. В труднейших условиях послевоенного времени восстанавливали ставропольские крестьяне свое хозяйство.
С каждым годом все меньше остается на Ставрополье здравствующих фронтовиков и работников тыла, т.е. тех, кто вынес на себе все тяготы военного времени и кто заслуживает благодарности последующих поколений.
Объясняя свое внимание к далекому прошлому в цикле стихов «Половецкая луна», Кулиев писал в 1974 году в журнале «Аврора»: «Это один из самых сложных моих циклов... Сложность заключается в том, [213] что я обратился к истории, к своим предкам, к половцам» (№ 10). Действительно, «Половецкая луна» уводит нас в даль XI—XII веков, но это не историческое произведение в строгом смысле слова. Здесь нет ни конкретных исторических лиц, ни описания реальных событий, ни воссоздания целостной картины далекой эпохи, когда печенегов сменили в причерноморских степях новые азиатские кочевники — половцы. Не это было целью автора.
Художественное мышление поэта углублялось в столь давние времена для того, чтобы через опыт осознанного историзма обрести высоту, с которой видны настоящее и будущее («Лишь то в потомках оживает внове, что в предках утвердилось глубоко»). Поэтическая мысль, прозревающая суть исторического события, является стержнем цикла стихов «Половецкая луна» и выражает себя через авторское «я». Форма первого лица наиболее соответствует идее произведения — гуманистическое озабоченности судьбами отдельных людей и человечества в целом.
Стремление запечатлеть с позиции гражданина XX столетия исторические формы бытия воинственных предков породило некоторую условность литературного выражения (монолог воина-кочевника, введение образа автора-персонажа, автора-повествователя). Прибегая к форме своеобразной исповеди лирического героя, носителя определенных черт национального характера, поэт почти все содержание семи частей, объединенных единством замысла, но лишенных сюжетно-событийных ситуаций, свел к размышлениям умирающего воина. У этого человека появилась душевная потребность в «горькой правде»: ведь он своей жизнью измерил дороги истории, по собственному опыту знает многолетнюю борьбу половцев с соседними русскими княжествами. Все было в этой борьбе: и победоносные походы русских князей в половецкие степи, и набеги кочевников, и даже временный союз тех и других во время феодальных раздоров.
Но не о мужестве, отваге, воинской доблести думал умирающий, глядя на кровавый лик луны. Он вспоминал походы половецких ханов, в которых участвовали десятки тысяч воинов, несших гибель и разрушение пограничным землям:
Вы неслись по земле черной бурей пустынь,
В дикой страсти своим разрушениям рады.
Наслаждались пожаром прекрасных святынь,
Вы не знали в кровавом разгуле пощады.
Перевел М.Дудин
Сила, враждебная духовности, противостоящая гуманизму, страшна и опустошительна. В многовековой истории человечества можно найти немало трагических подтверждений этому...
Дикая жестокость — свойство не только психологии кочевников, но их сознания, порожденное уверенностью в величии совершаемого: [214]
Он был в своей уверенности слеп.
Пожар и кровь — его судьбы дорога.
Он не растил и не лелеял хлеб
И острый меч считал превыше бога.
Эта мрачная трагедия человеческого бытия — свидетельство тому, что на земле не было и нет народов с «легкой историей». Каждому выпадали на долю испытания, нередко — жестокие, разрушительные войны. Половцы пережили свою долю, обрели свой исторический опыт. Возможно, это и заставило автора «Половецкой луны» в новом идейно-эстетическом аспекте взглянуть на их судьбу в ее обусловленности временем. Обращаясь к началу начал жизни народа. Кулиев утверждал:
Ваша жизнь — судьбы моей исток.
И мне нести свою по жизни ношу.
Но я не буду к прошлому жесток
И камень в это прошлое не брошу.
Беседуя со своими воинственными предками, лирический повествователь судит их за то, что послушные ханам, они несли только смерть и разрушение: «И все живое превращая в прах, чего же вы оставили потомкам?» В этом вопросе таилось утверждение простой истины — люди должны не разрушать, а созидать и передавать из поколения в поколение сокровища материальной и духовной культуры. Именно поэтому неистовая жажда разрушения обрела на творческое бесплодие целый народ.
Отвечайте мне, предки, чем память жива,
Где плоды ваших рук, торжество урожая,
И каких откровений высоких слова
Вы оставили миру, столетья сближая?
В философском плане Кулиев принимал жизнь как перспективу творчества, ибо культура каждого народа включает в себя компоненты духовного развития всего человечества. Кочевники же почти ничего не дали будущему народов Восточной Европы.
Где он, вашим стараньем построенный кров?
Где они, мастеров и строителей вехи?
Или только одна лишь пролитая кровь
На косматом пожарище ради утехи?
Поэт отдавал должное отваге закаленных в боях воинов, их мужественному презрению к смерти:
Мой предок, закаленный на войне,
Считая храбрость выше всяких правил,
Сидел, как тигр, на бешеном коне,
И злую гибель ни во что не ставил.&)
@) В книге — Е.А. HF.
1) Выражаю искреннюю признательность проф. Кудрявцеву А.А., Прокопенко Ю.А., Рудницкому P.P. за предоставленные материалы.
*) Так — HF.
+) так — HF.
#) В книге курсив не обозначен. HF
a) Здесь и далее в этой статье «X» в обозначении “XII” и “XIII” веков заменено на «V», исходя из контекста. HF.
+) Так — HF.
&) Так — HF.
#) В книге: наблюдении сборе информации и природных... — HF.
b) В книге «не» пропущено. HF.
+) В книге: «экипировка, разработанная в петербургском кабинете экипировка.» HF.
&) Статья выглядит незаконченной. В книге она заканчивается именно так, и, видимо, в типографии ничего не выпало: между «И злую гибель ни во что не ставил» и номером страницы вполне можно было вместить две-три строки. HF.