выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

| Сайт подключен к системе Orphus. Если Вы увидели ошибку и хотите, чтобы она была устранена, выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. |  |
К разделам: Сборники | Научная жизнь | Причерноморье | Греческий мир | Скифы | Сарматы
В тезисах докладов рассматриваются важные проблемы межэтнических, экономических, политических связей
и военных столкновений в бассейне Черного моря в древности и средние века.
Рассчитаны на научных работников, преподавателей вузов, школ, краеведов.
[5] – конец страницы.
OCR OlIva.
Ростов-на-Дону
1994
Шимонов Э.М. Северное Причерноморье и древнейшие индоевропейцы
Нечитайло А.Л. Владимирский курган в системе памятников энеолита и ранней бронзы Предкавказья
Ловпаче Н.Г. История одного типа касожского сосуда
Дударев С.Л. О хронологической позиции памятников новочеркасского типа
Крижицкий С.Д. Ольвия и варвары (проблема влияний)
Копылов В.П. Греческая керамика из раннескифских погребений Нижнего Подонья
Вонсович А. Перемещение главного населенного пункта в микрорегионах греческой колонизации
Емец И.А., Петерс Б.Г. К изучению лепной керамики античного времени из Феодосии
Назаров В.В. Вооружение нижнебугских эллинов и варварские влияния
Лавренова Н.Н. Проблемы контактов Карфагена с центрами Северного Причерноморья
Буйских А.В. Еще раз о херсонесском гекаторюге
Сапрыкин С.Ю. О древнем названии Херсонеса Таврического
Рогов Е. Я. Арибаллические лекифы IV в. до н. э.
Павленков В. И. Пролог македонской экспансии в Причерноморье
Былкова В. П. Античный керамический импорт со скифских поселений и могильников Нижнего Поднепровья
Самойлова Т. Л. Античная торговля со скифами Днестро-Дунайского междуречья в IV—III вв. до н.э.
Емец И. А. К вопросу о культах верховного женского божества и бога-всадника у синдо-меотов
Марченко К. К. Алопекия, Псоя, или...?
Лейпунская Н. А. О связях Ольвии с италийским регионом Средиземноморья в позднеэллинистическое время
Виноградов Ю. Г., Золотарев М. И. Херсонес и птолемеевский Египет в III в. до н.э.
Арсеньева Т. М., Науменко С. А. К вопросу о торговых связях Танаиса
Заднепровский Ю. А. Таксила и номады Центральной Азии
Новичихин А. М. Находка херсонесской монеты на Азиатском Боспоре
Крапивина В. В. Торговые связи Ольвии в первые века нашей эры
Скрипкин А. С. О времени появления аорсов на Дону
Филиппенко А. А. К вопросу о Таврическом лимесе
Яценко С. А. Алано-славянские культурные контакты в VI — XIII вв.
Тельнов Н. П. К вопросу о славяно-болгарских отношениях в VI—X вв. в Днестровско-Прутском междуречье
Иванов А. А. Военно-политическая ситуация на Нижнем Дону в середине VIII — начале IX в.
Ларенок П. А. Этнические контакты и названия рек Нижнего Дона и Северо-Восточного Приазовья
Волков И. В. Распространение сфероконусов в Золотой Орде как отражение международной торговли
Кожокару В. М. О крепости Килия
Яковенко Э. В. Склеп Деметры (проблемы реставрации)
Рязанов С. В. Международные отношения и судьба технических изобретений (чугун в Азаке, XIV в.)
Крот В. А. Освещение польско-османских отношений второй половины XV—XVI вв. в польской историографии
Кидырниязов Д. С. Ногайцы во взаимоотношениях России с Османской империей и Крымом в 20-е гг. XVI в.
Гусев К. М. О дате начала осады Азова османо-крымской армией в 1641 г.
Синяпкин К. В. Охрана памятников археологии в Ростовской области
Этническая история Северного Причерноморья эпохи энеолита и бронзового века тесно переплетается с проблемами прародины индоевропейского языкового единства, распада и миграций ее носителей. Большинство авторов основных гипотез о месте нахождения европейского языкового единства соглашаются с тем, что степная зона Восточной Европы III тыс. до н. э. была заселена носителями индоевропейских диалектов и археологически может быть отождествлена с ямной культурно-исторической общностью. При всем своем многообразии локальных вариантов в ней прослеживаются основные черты, которые являются определяющими для материальной и духовной культуры индоевропейцев.
Ранний бронзовый век и энеолит, с одной стороны, своими корнями уходят в местные неолитические и мезолитические культуры (Крижевская, 1983). С другой стороны, ретроспективный метод показывает генетическую связь между культурами раннего железного века и эпохи бронзы в Северном Причерноморье. Начиная с эпохи мезолита, влияние Балкан и Кавказа на этот регион усиливалось. На протяжении длительного периода взаимодействовали и сменяли друг друга различные археологические культуры степной полосы. Но при этом культурно-историческая и генетическая преемственность на юге Восточной Европы сохранялась (Черных, 1988). Это было связано не в последнюю очередь и с природно-климатическими условиями существования в степной зоне.
Степные культуры Северного Причерноморья обладали общими признаками, которые были заложены еще в неолите и затем получили свое развитие в последующие эпохи. К этим признакам относятся: [5]
1. Подвижный образ жизни, который в различные периоды то ослабевал, то усиливался, но, в целом, всегда преобладал и этим сильно отличался от протогородских цивилизаций Ближнего Востока и Балкан.
2. Большая роль скотоводства по сравнению с земледелием. Роль земледелия могла возрастать, но оно никогда не преобладало над скотоводством.
3. Раннее приручение коня и его широкое распространение наблюдалось, по крайней мере, с IV тыс. до н. э.
4. Культ коня.
5. Культ колесницы, колеса и связанный с ними культ солнца.
6. Курганные захоронения.
7. Трехчленная модель устройства мира, которая нашла свое отражение в религии и социальной структуре общества.
Приведенные выше признаки, в полной мере представлены только в Северном Причерноморье, где обитали носители восточно-иранских диалектов, наиболее близкие к индоарийскому и индоиранскому этносу. В то же время на этой территории найдены наиболее древние индоарийские, и, вероятно, индоиранские топонимы (Трубачев, 1987).
Кроме того, эти признаки являются характерными при реконструкции индоевропейской лексики и находят свое отражение в материальной и духовной культуре многих индоевропейских народов.
Реконструированная лексика праязыка индоевропейцсв говорит о существовании диалектного единства на территории с умеренным климатом, сильно пересеченным рельефом, множеством различных водоемов и рек. Флора и фауна указывают в основном на умеренную зону, но в лексике также присутствуют следы и южной экологии. Праязык индоевропейцев свидетельствует о том, что имели место контакты с финно-угорской и алтайской языковыми семьями. Вместе с этими языками он входил в единую бореальную макросемью, где был ее южной ветвью (Андреев, 1986).
Данные археологии говорят о влиянии Кавказа на Северное Причерноморье, по крайней мере с эпохи неолита (Нечитайло, 1991), что может объяснить наличие контактов индоевропейского праязыка с кавказскими и переднеазиатскими диалектами.
Данные палеоантропологии свидетельствуют о преемственности населения Северного Причерноморья от мезолита до раннего железного века и о присутствии северных типов в южных культурах от Европы до Индии, что также [6] подтверждается многочисленными письменными источниками. Этот факт может указывать на направление движения с севера на юг.
Следовательно, только степные районы Восточной Европы могут снять целый ряд противоречий, существующих при решении индоевропейской проблемы. Только в этом регионе одновременно могли существовать контакты индоевропейцев с кавказскими и алтайскими языками, переднеазиатскими и финно-угорскими языками. А также только в этом регионе индоевропейский праязык мог включить в свою лексику термины, связанные с южной и северной экологией.
Таким образом, реконструированная лексика, общеиндоевропейские черты в материальной и духовной культуре указывают на их происхождение из восточноевропейских степей, археологический и палеоантропологический материал которых уходит корнями в местные мезолитические культуры. Следовательно, Северное Причерноморье эпохи неолита и энеолита вполне могло бы отвечать требованиям индоевропейской прародины.
В 1991 г. Владимиром Николаевичем Каминским был исследован курган № 9 у станицы Владимирской Лабинского района Краснодарского края. Он располагался на небольшом возвышении у края террасы правого берега р. Лабы. Диаметр его 40–42 м, высота 3,77–4,02 м. Это была самая крупная насыпь Владимирской курганной группы. И это были последние исследования в Краснодарском крае Владимира Николаевича, трагически погибшего во время раскопок на Ставрополье летом 1992 г. Нам представляется не случайным совпадением имени исследователя и названия курганной группы. Это была лебединая песнь полевым сезонам в Закубанье Владимира Николаевича, принесшим чрезвычайно важные данные для изучения древнейших эпох региона.
В память о молодом талантливом исследователе с любезного разрешения его жены Ирины Васильевны Каминской публикуем некоторые материалы, имеющие принципиальное [7] значение для периодизации памятников энеолита и ранней бронзы Предкавказья.
После ознакомления с текстом отчета, анализа стратиграфических данных, а также находок в фондах Краснодарского музея совместно с И. В. Каминской, мы пришли к следующим наблюдениям.
Древнейшая насыпь кургана № 9 высотой 0,75 м, диаметром 9,8 м была возведена над неолитическими погребениями 57 и 48 по полевой нумерации. Выкид из погребения 57 зафиксирован на древнем горизонте. В этот небольшой курганчик было введено энеолитическое погребение 53, выкид из которого оказался на первоначальной насыпи, а курган достиг высоты 1,1 м, с увеличением диаметра до 12,7–16,3 м. Во вторую насыпь было впущено погребение 50 с пастовым и гагатовым бисером и сосудами раннемайкопских форм и технологии. Яма погребения 50 (раннемайкопской культуры) перерезала и частично уничтожила энеолитическое погребение 48. После совершения погребения 50 сделана досыпка до двухметровой высоты (диаметр 20,5*16 м). В эту третью насыпь впущено погребение 16 с миской, имеющей пролощенный орнамент позднемайкопского образца. Далее следуют погребения северо-кавказской и катакомбной культур с соответствующими досыпками. Такая четкая стратиграфическая колонка получена здесь впервые, благодаря скурпулезной работе В. Н. Каминского. Она позволяет совершенно определенно говорить о более раннем стратиграфическом положении энеолитических погребений по сравнению с последующими майкопскими в противовес сомнениям, касающимся такого соотношения (Резепкин, 1993).
Ранний возраст указанных энеолитических погребений Владимирского кургана подтверждается обрядом и инвентарем их. Так, в названном выше погребении 48 оказался скелет взрослого человека на спине с согнутыми ногами коленями вверх, головой на ЮВ, обилием охры. В инвентаре — ножевидная пластина из высококачественного серо-желтого кремня. В заполнении могилы — кусок корки от кремневого желвака, а также фрагмент каменного предмета, возможно скипетра (что требует уточнения). В погребении 57 на толстом слое охры — скопление человеческих костей, среди которых маленький лепной сосудик с округлым туловом и приостренным дном (венчик обломан). Поверхность хорошо сглаженная с овально-точечными вдавлениями палочкой вокруг основания шейки. Что же касается погребения 53, то окрашенный охрой костяк лежал скорченно на спине, коленями вверх, головой [8] на восток. В инвентаре — крупный скребок на кремневой пластине.
Таким образом, скорченное на спине положение костяка, восточная ориентация, обилие охры, наличие кремневой пластины — полностью соответствуют признакам ранних подкурганных захоронений, выявленных не только в Предкавказье (Нечитайло, 1991, 1992), но и по всей северопричерноморской зоне. Что же касается сосудика из погребения 57, то он по своей форме, тесту и орнаментации повторяет некоторые образцы миниатюрных сосудиков с поселения Свободное в Адыгее, тип 5 (Нехаев, 1990), и полностью вписывается в круг керамики этого поселения, датируемого Трипольем А II — В I.
Итак, получен чрезвычайно важный материал, с одной стороны, уточняющий датировку ранних подкурганных погребений, с другой — позволяющий решить вопрос о соотношении памятников степного энеолита и майкопской культуры. На базе конкретных фактов подтверждаются наблюдения С. Н. Кореневского и А. О. Наглер (1987) о более позднем положении памятников майкопской культурно-исторической общности по сравнению с энеолитическим пластом степных предкавказских культур.
Находка сосудика из погребения 57, по всем параметрам соответствующего таким же с поселения Свободное, позволяет синхронизировать рассмотренные погребения Владимирского кургана со временем существования этого поселения.
А объяснение хорошо известной Новоданиловской «амфоры» с территории степной Украины, являющейся закубанским импортом, соответствующей третьему типу посуды поселения Свободное, позволяет увязать Новоданиловскую группу не только с предкавказской, но и с суворовской (юго-западной) и синхронизировать широкий круг причерноморско-прикаспийских степных энеолитических культур от предгорий Большого Кавказа до Добруджи. Погребения Владимирского кургана занимают одну из ранних ячеек в их среде.
Среди керамики Малой Азии (Анатолии) III тыс. до н. э. заметно выделяются крупные трехручные сосуды для вина, которые можно рассматривать как прообраз древнегреческой [9] гидрии. Но в отличие от последней у анатолийских — боковые ручки тоже вертикальные, а на горле против верхней ручки — длинный оттянутый носик для слива. Такого типа сосуды найдены в Аладжа-гуюке, Богазкее (Хаттуса), Алишаре, Тарсусе, Мерсине, Трое и в других археологических памятниках ранней бронзы, объединяемых культурой Аладжа-гуюк. В культуре Хеттского государства средней бронзы (II тыс. до н. э.) эти сосуды специфической формы не отмечены, т. е. они существуют только в пределах протохеттской или хаттской культуры.
В настоящее время научные исследования лингвистов, начатые чешским ученым-хеттологом Бедржиком Грозным (Ян Браун из Польши, Вячеслав Иванов, Николаев, Старостин из Москвы, В. Ардзинба из Абхазии), подтвердили адыгейский фольклор, в котором древние хатууны (хатские люди) и адыги не разделяются. Археологические материалы Майкопской культуры северо-западного Кавказа и анатолийской культуры Аладжа-гуюк при сравнении также показывают много сходства. Существует мнение, что Малоазийская культура Аладжа-гуюк основала курганными племенами, пришедшими с Северного Кавказа, т. е. майкопцами, а носителями этой культуры были хатты (Джеймс Макуин). Но в керамике Майкопской культуры пока не замечено трехручных сосудов. Этот тип родился на родине вина, в южной стране Анатолии.
На северо-западный Кавказ такой тип сосуда попал только в конце раннего железного века, видимо, не ранее рубежа новой эры. Именно из керамического материала этого времени реконструирован трехручный сосуд желто-коричневого обжига с двухствольной верхней ручкой Ладожского городища № 7. К этому же времени относится и трехручный сосуд Воздвиженского кургана. Может быть, несколько позднее сработан черноглиняный сосуд такого типа из окрестностей Ростова, хранящийся в фондах Ростовского университета. Три названных сосуда — это первые ласточки из меотского мира, начинающие бурное возрождение типа псевдогидрии. Особенно поразительное сходство с прототипами из культуры Аладжа-гуюк Воздвиженского сосуда: он как будто скопирован с подобного изделия, III тыс. до н. э., найденного в Богазкее. Немного отличаясь в пропорциях, воздвиженский повторяет верхнюю витую ручку, оттянутый носик против нее, желобчатое узкое горло, малые боковые ручки в виде скульптур баранчиков.
В зихский период раннего средневековья в Адыгее (IV — I пол. VI вв. н. э.) делается масса роскошно орнаментированных [10] полосчатым лощением сложно профилированных крупных и средних сосудов о трех ручках. Но у зихов Причерноморья их нет, в то время, как из Касахии они распространяются по всему ареалу Салтово-маяцкой культуры Северного Кавкава. Некоторые исследователи (В. Б. Ковалевская) считали их аланскими. Однако в самой касожской культуре салтово-маяцкого периода трехручные сосуды даже уменьшаются в количестве и ухудшаются в орнаментации. В период развитого средневековья (X—XIII вв.) наблюдается новый всплеск касожской культуры и вместе с ним увеличение количества и улучшение качества изготовления и декорирования псевдогидрий. В то время такой тип сосуда уходит из керамики других Северо-Кавказских культур (аланской, например).
В позднем средневековье в Белореченской (Шитхальской) культуре черкесов трехручные сосуды даже прибавляются в количестве, хотя теряют в эстетическом оформлении, они становятся бытовой массовой емкостью.
Последний раз встречаемся с псевдогидрией хаттского изобретения на кабардинской стеле XVI в. из Эльхотово (Северная Осетия на границе с Кабардой). В сцене санопития (винопития), высеченной на стеле, виночерпий, наклоняя трехручный сосуд за верхнюю ручку, наливает в бокалы подходящим застолыцикам. Из кабардинского застолья узнаем, что помощник тамады, который является главным виночерпием (наливалой), называется гошэсом. А из нартского эпоса адыгов узнаем, что сосуд для санэ (вина) называется трояко: «чад» (кадка), фыче (тюркское название) и гошэс (вроде пифоса).
Таким образом, «гошэс», — трехручный сосуд для вина, зародился в недрах Малоазийской культуры предков адыгов хаттов, обслуживая застольный обычай; затем возродился в северо-кавказском обществе адыгов раннего железного века, существовал на протяжении всей эпохи средневековья, дойдя до полного исчезновения гончарного производства в Черкессии, и, наконец, был увековечен в застольной должности виночерпия — гошэса, т. е. кувшинника.
Неизвестно, было ли специальное название этого сосуда у малоазийских хаттов. Сосуд из глины как тара, в основном для зерна, в хаттских текстах, переданных хеттской клинописью, называется «карам».
В любом случае, эта история с гошэсом — поучительный пример стойкости древних обычаев, соединяющих далекие территории и удаленные хронологические отрезки в один [11] культурный блок, основанный на этнической родственности или даже единстве в пределах Циркумпонтийской зоны.
В ходе охранных раскопок комплекса археологических памятников Пшиш-I в 1990—1992 гг. собраны материалы, позволяющие предполагать существование в этой местности неизвестного ранее поселения с литейной мастерской и соответствующего ему могильника эпохи поздней бронзы. Основной материал — керамика и части литейных форм — был собран в подъемном материале на территории протомеотского могильника IX—VIII вв. до н. э., а также добывался из засыпки погребений.
Керамический материал представлен фрагментами преимущественно крупных лепных хорошо обожженных сосудов, часто украшенных рельефным декором в виде валиков или штампов полой трубочкой, не содержит достаточно четких определяющих признаков, но в целом близок поселенческим материалам памятников позднесрубного круга и, очевидно, не может быть датирован позже IX в. до н. э., так как обнаружен уже в засыпке погребений этого времени.
Датировку поселения уточняют части литейных форм к кинжалам типа Н-48/50 (по Е. Н. Черныху), аналогичные моделям Ингуло-Красномаяцкого бронзолитейного очага, функционировавшего в XIII—XII вв. до н. э. в составе срубной культурно-исторической общности, а также, очевидно, роговые псалии из погребения № 63 могильника Пшиш-I, очень близкие, но более примитивные, аналогии которым датируются не позднее XII в. до н. э. (I тип по К. Ф. Смирнову), и известны по степным памятникам Поволжья, Урала и Северного Казахстана.
Для уверенной интерпретации данных находок необходимо дальнейшее изучение данного поселения и памятников эпохи поздней бронзы в Закубанье, слабо изученных в настоящее время. Однако в порядке предположения кажется возможным признать вероятность проникновения в Закубанье части населения из степей Северного Причерноморья в связи [12] с переменой климата в сторону пониженной увлажненности на всей территории Восточной Европы с XII по V вв. до н. э. (Махортых, Иевлев, 1991).
Прошедшая на страницах «Российской археологии» дискуссия по хронологии раннескифской культуры имеет большое значение для уточнения важнейших вех политической истории и международных отношений населения Восточной Европы, Кавказа и Западной Азии в VIII—VII вв. до н. э. Ниже мы постараемся затронуть моменты дискуссии, непосредственно связанные с абсолютным датированием памятников новочеркасского типа и их соотношением с комплексами начала скифской эпохи в контексте межрегиональных связей.
В 1987 г. немецкий ученый Г. Коссак, стремясь удревнить Скифский архаический культурный комплекс, поместил памятники новочеркасского типа в рамки IX—VIII вв. до н. э. (Kossack, 1987). Данная точка зрения была поддержана И. Н. Медведской и другими отечественными исследователями. Одним из важнейших оснований датировки новочеркасской группы памятников 750—:650 гг. до н. э. являлись ажурные бляхи из Носачевского кургана в днепровской лесостепи, аналогии которым находили на рельефах ассирийских дворцовых ортостатов эпохи Саргона II (721—705 гг. до н. э.) и Ашшурбанипала (668—624 гг. до н. э.) (Ковпаненко, 1966). Г. Коссак, опираясь на параллели бляхам из Носачевского кургана на рельефах времен Тиглатпаласара III (745—727 гг. до н. э.), возвел их к более раннему времени. На этой же позиции стоят В. И. Клочко и В. Ю. Мурзин.
Однако совсем недавно два специалиста независимо друг от друга указали на функциональное несходство носачевских блях и ассирийских изображений, отметив и определенные морфологические несоответствия тех и других. Притом было отмечено, что образцы, вызвавшие ассирийские подражания, необязательно могли проникнуть в Переднюю Азию с территории Восточной Европы (Алексеев, 1992; Махортых, 1992). В свете этих замечаний ассирийские изображения могут быть [13] поставлены вне связи с восточноевропейской хронологией.
В самое последнее время Г. Коссак особенно заострил внимание на полихромных ювелирных изделиях из степи и южной лесостепи (Балки, Квитки, Высокая могила-2 и др.), которые, по мнению автора, указывают на тесные связи с Ближним Востоком в IX—VIII вв. до н. э. (Коссак, 1994), что, разумеется, устанавливает соответствующую дату для указанных памятников новочеркасского типа. Полихромные изделия, выполненные в технике Клуазоне, Г. Коссак выводит из древностей горных стран между озерами Севан и Урмия (Kossack, 1987). Очень существенно то, что, по наблюдениям самого Коссака, к числу предметов, которые отмечают путь проникновения мотивов кавказско-переднеазиатского искусства в Северное Причерноморье, относится бронзовый сосуд-ситула из Квиток. Это типичное изделие центрально-кавказских (кобанских) мастерских VIII—VI вв. до н. э., не единственное в Поднепровье (Zommerfeld, 1938; Покровская, 1973; Ильинская, 1973). Такие ситулы известны на Северном Кавказе как с позднейшей новочеркасской сбруей (Уашхиту), так и совместно с уздечными комплектами, прямо предшествующими ей по времени (Терезе-3) (Эрлих, 1994; Козенкова, 1989). Однако ни в этих комплектах, ни в богатых захоронениях с изделиями закавказско-ассирийских типов предметов стиля Клуазоне нет. Единственное пока толкование парадоксальной ситуации, когда полихромные украшения не «стыкуются» с одним из своих важнейших трансрегиональных маркеров на его исконной территории (!), может быть следующим. Появление изделий в стиле Клуазоне в Северном и Западном (Белоградец) Причерноморье произошло в заключительной фазе предполагаемого нами оттока, по крайней мере, части ранних кочевников из Западной (Передней) Азии обратно в степи Юго-Восточной Европы прямо перед самым скифским нашествием и относится ко времени не ранее рубежа VIII— VII вв. до н. э. Между 705 и 679/8 гг. до н. э. киммерийцы не упоминаются в древневосточной традиции, и скорее всего именно на этом хронологическом отрезке (Дударев, 1983, 1991) с Северного Кавказа в степь и лесостепь распространяется сбруя исключительно «классического» новочеркасского типа (Тереножкин, 1976; Граков, 1977). Занятие Северного Причерноморья скифами, появившимися затем в Западной Азии (в 680—677 или 674/3 гг. до н. э.) исключало, с нашей точки зрения, любое заметное движение масс населения с юга на север. Наша точка зрения находит теперь косвенное подтверждение у ученых, которые пишут об одностороннем [14] южном направлении внешних коммуникаций кобанских племен в первой половине VII в. до н. э. в связи с глобальными иноземными вторжениями (Козенкова, 1990). Новейшие работы также подтверждают обоснованность наших предположений (Махортых, 1992; Вальчак, Эрлих, 1993; Скорый, 1993).
По нашему убеждению, главную роль в обосновании верхней хронологической границы памятников новочеркасского типа на Северном Кавказе и в Юго-Восточной Европе играют предметы, связанные своим происхождением с культурами Закавказья и Западной Азии. Это шлемы ассирийского типа, остатки чешуйчатых панцирей, пекторали типа Анухва-Эшери, бронзовые и железные наконечники копий, бронзовые браслеты с глиняным заполнителем, изготовленные по технологии исходного колхидского центра, и др. из района Кавминвод (Иессен, 1954; Афанасьев, Козенкова, 1981; Белинский, 1990; Воронов, 1980; Дударев, 1991; и др.). Эти предметы связаны с эпохой киммерийско-скифских походов на юг в VIII—VII вв. до н. э., представляя собой хронологически компактную серию артефактов. Диагностирующее значение в этой серии имеют: шлемы из Клинярского могильника III, наиболее точно датируемые по рельефам Синнахериба (705—680 гг. до н. э.); топоры типа Новочеркасского клада из погр. 4 могильника «Индустрия», датирующиеся привязками в Тли (погребение 40 с урартийским поясом конца VIII в. до н. э.) и Жемталинском кладе (также конца VIII в. до н. э.), содержавшем наконечник ножен одного из древнейших акинаков (Kossack, 1987); раннесакская пряжка с рамочным выступом из Бештаугорского клада, датируемая концом VIII — VII в. до н. э. (Вишневская, 1973; Яблонский, 1991); бронзовый и железный наконечники копий из Лермонтовского разъезда, аналогичные колхидским образцам VII—VI вв. до н. э.) (Виноградов, Дударев, 1983). Часто сочетаясь с предметами конской сбруи поздних и классических новочеркасских типов, указанные предметы определяют верхнюю грань новочеркасских памятников рубежом VIII—VII — первой четвертью VII в. до н. э. с возможным заходом во вторую четверть VII в. до н. э. Наконец, сопряженность верхней даты древностей новочеркасского типа Северного Кавказа и Юго-Восточной Европы с VII в. до н. э. устанавливается и фактом сочетания наконечников стрел новочеркасского типа с образцами раннежаботинского типа (Гумарово, Квитки, Ольшана, Белоградец, центральная могила кургана I у хут. Красное Знамя). Хронологическая связь раннежаботинских наконечников стрел с VII в. до н. э. в свою очередь подкрепляется [15] комплексами из раннесакских могильников (курган 3 Сакар-Чага) (Яблонский, 1991).
Таким образом, в настоящее время нет оснований ограничивать верхний рубеж памятников новочеркасского типа VIII в. до н. э. На самом позднем этапе своего существования новочеркасские элементы «стыкуются» с древнейшими скифскими, вступая с ними в тесное взаимодействие (Лермонтовский разъезд, Бештау, погребение 39 могильника у хут. Кубанского). Однако вытеснение архаической скифской культурой «предскифских» новочеркасских комплексов происходит лишь на келермесской «стадии» (660—640 гг. до н. э., по Л. К. Галаниной).
Цель доклада состоит в попытке выяснить на материалах античной традиции (Геродот, Фукидид, Страбон и др.) характер и степень участия жреческой общины Дельфийского храма в ионийской колонизации Западного Средиземноморья в эпоху архаики.
Дельфийское жречество и эвбейцы:
1. Непосредственное участие в подготовке экспедиции и в выведении Регия, Наксоса, Парфенопы-Неаполя, а также в обосновании халкидян в Леонтинах.
2. Контроль за деятельностью полисов в рамках западно-ионийской амфиктионии:
— Регий — Занкла,
— Регий — Локры Эпизефирские,
— Возведение алтаря Аполлона Архегета близ Наксоса и его обслуживание.
3. Содействие в установлении отношений по типу дружбы и гостеприимства ионийских, дорийских и ахейских полисов между собой:
— связи Дельф, Крисы, Метапонта,
— их поведение в связи с событиями в Милете 510 г. (организация всеобщего траура),
— участие в связях дорийского Кротона с западными ионийцами и этрусками. [16]
4. Организация в колониях религиозного культа, игр и музыкальных состязаний.
5. Участие в кодификации древнейших полисов Западного Средиземноморья (Катана, Локры, Леонтины).
Дельфийское жречество и фокейцы:
1. Непосредственное участие в основании Массалии, Алалии, Элеи, Сириса, Эмпориола (в Каталонии).
2. Курирование панионийских эмпориев в Центральном Средиземноморье (Грависа, Телина).
3. Предоставление приюта эмпорам в гаванях-святилищах Геракла, Селены (побережье Тирренского моря).
4. Получение десятины от эмпоров (дар самосца Колея и др.).
5. Организация культа Аполлона и Артемиды (Массалия, Эмпорион).
6. Деятельность жрицы Аристархи в Массалии.
7. Дельфы и Колофон в основании Сириса.
Основные выводы:
Дельфийское жречество принимало разностороннее участие в колонизационной деятельности ионийцев в Западном Средиземноморье в тех случаях, когда она осуществлялась полисом и особенно группой полисов, а не отдельными предпринимателями. Поэтому, вероятно, отсутствует информация подобного рода о Питекуссах и Кумах.
Владея различной информацией о Западе (лоции, периэгезы, хроники, истории и иные документы, сосредоточенные в храмах) и выдавая ее (не безвозмездно) ионийским полисам в преддверии их колонизационной деятельности на Западе, жречество обеспечило себе тем самым право участия в жизни тех колоний и их объединений, которые занимали ключевые позиции на торговых путях Запада и Востока и получали от этого большой доход, который, впрочем, обеспечивали себе и курируя деятельность торгового дома Состратидов.
Жрецы Дельфийского храма способствовали политической консолидации западноионийских полисов между собой (их амфиктионии), а также с дорийскими полисами Великой Греции, что сохраняло храму право контроля за их жизнедеятельностью и гарантировало дополнительный доход.
Аналогичную роль играли, скорее всего, и другие ведущие [17] храмы Греции: Панионион, Эфесион, Аполлонион, Дельфинион и др.
При исследовании вопросов взаимодействия варварского мира и Ольвии обычно рассматривается только одна из сторон проблемы — чаще всего военно-политический или этнический аспекты. Это приводит к переоценке значения тех или иных влияний и тем самым в определенной степени искажает наши представления о характере исторического процесса. В связи с этим проблему влияния на Ольвию варварского мира целесообразно рассматривать комплексно в следующих основных аспектах: военно-политическом, экономическом, культурном и этническом.
Предварительно следует отметить высокую степень общей автономизации Ольвии, жизнь которой могла в принципе самообеспечиваться даже в самые неблагоприятные времена (за исключением катастроф). Степень этой автономизации, однако, была различна как в отношении намеченных выше аспектов взаимодействия, так и относительно античного и варварского миров. Так, зависимость Ольвии от военно-политической обстановки в регионе в среде варваров была несомненно более значительной, чем от ситуации в античном мире в целом. В то же время экономический аспект взаимодействия, в общем определялся самодостаточным уровнем развития производительных сил самой Ольвии. Экономические связи с окружающими варварскими племенами решающего значения для развития Ольвии не имели. Более значительной была в этом отношении роль связей с античным миром, которые, в отличие от хинтерланда, практически всегда были открыты. Что касается культурного аспекта, то античное влияние во взаимодействии двух миров являлось доминирующим. И хотя ольвиополиты восприняли некоторые черты местных традиций от окружающих племен (например, земляночное строительство, одежда, лепная посуда), однако все это носило не столь ярко выраженный характер, чтобы говорить о варваризации любой из основных сторон ольвиополитов. Этнический аспект разработан недостаточно. Но, тем не менее, если даже безоговорочно принять точку зрения исследователей, «не [18] мыслящих лепной керамики без ее носителей», количество варваров могло составлять не более нескольких процентов в самой Ольвии и несколько больше на некоторых поселениях хоры.
Суммируя известные факты, можно прийти к заключению о том, что важнейшим аспектом взаимоотношений с окружающими племенами являлся не экономический, а военный, возможно военно-политический. Ольвия в весьма значительной степени была зависима в военном отношении от варваров, хотя давление последних на Ольвию и определялось не политическими, а их экономическими интересами (дань, набеги и т. п., о чем достаточно ярко говорится в декрете в честь Протогена). По-видимому, достаточно стабильные равноправные партнерские экономические взаимоотношения между варварами и ольвиополитами большей частью отсутствовали. Т. е. экономический рост, и тем более просто существование Ольвии, не определялся торговлей с варварским окружением. И, как уже отмечалось, в наименьшей степени воздействие варваров на Ольвию проявилось в этнической и культурной областях.
Если проанализировать все основные перечисленные выше аспекты взаимодействия двух миров в комплексе, то имеются все основания считать, что наиболее существенные в сравнении с греческими средиземноморскими городами особенности в жизни Ольвии, сложившиеся в ходе ее исторического развития, были обусловлены в первую очередь спецификой эволюции античного полиса в условиях значительной удаленности от основного ареала средоточия античных государств. Эти особенности нашли наибольшее отражение в основном в области культуры. Они в подавляющем большинстве явились продуктом собственной эволюции античных традиций, а не следствием воздействия варваров.
Систематические раскопки, проводимые Мирмекийским отрядом Боспорской экспедиции ИИМК РАН на городище Мирмекий, в последние годы были нацелены на изучение ранних напластований. В основном они были сосредоточены на [19] Западной окраине городища, где были заложены 3 крупных раскопа — П, Р, О. Основные результаты в изучении раннего Мирмекия сводятся к следующему: на всех раскопках были обнаружены строительные комплексы типа полуземлянок, относящиеся ко второй половине VI в. до н. э.; в начале V в. до н. э. фиксируется переход к наземному домостроительству. Наконец, на раскопе Р удалось открыть часть мощной оборонительной стены. Очевидно, возведенной в конце первой трети V в. до н. э., строительство которой можно трактовать как одну из акций объединения Археанактидов, направленных на отражание скифской экспансии.
Новые важные материалы о истории раннего греческого поселения были получены в 1991—1993 гг., когда раскоп С вплотную приблизился к наиболее возвышенной части городища — скальному выступу на краю Карантинного мыса, который обычно именуется мирмекийским акрополем. Здесь, у подножья скалы была выявлена серия ям, содержащих находки второй четверти VI в. до н. э. Теперь с уверенностью можно полагать, что поселение на данном месте возникло именно в это время, а не в середине столетия, как это порой считалось ранее. Следует обратить внимание также и на то, что многие из обнаруженных здесь керамических материалов явно побывали в огне, вероятно в пожаре. Собственно говоря, заполнение некоторых ям представляет собой не что иное, как сброс мусора, образовавшегося в результате этого событий. О пожаре свидетельствует и тонкий слой гари, фиксируемый в некоторых частях раскопа над материком. Есть веские основания предполагать, что на раннем поселении около VI в. до н. э. произошел сильный пожар. Причина его пока не ясна, но сам этот факт, безусловно, заслуживает внимания.
Некоторые из ранних ям, a также слой гари перекрываются стеной № 37. Она была построена между 2 скальными выходами и, как представляется, препятствовала доступу в акрополь на довольно пологом подъеме. Оборонительное назначение стены, во всяком случае, очень вероятно. Однолицевая кладка длиной 7,6 м и шириной более 1 м была сложена из весьма крупных, необработанных камней известняка, промежутки между которыми забиты мелкими камнями. Общий археологический контекст, а также достаточно архаичный, необычный для Мирмекия облик стены, позволяют предполагать, что она была возведена вскоре после пожара, т. е. во второй половине VI в. до н. э. Предположение об ее оборонительном назначении усиливается тем обстоятельством, что она образует с остатками двух других стен (№ 57 и 58) своеобразную [20] конструкцию типа уступа или бастиона длиной около 4 м. Стена № 57, к сожалению, сохранилась очень плохо, стена № 58 — значительно лучше.
Исследования 1993 г., когда остатки последней были вскрыты на участке более 7,5 м в длину, привели к неожиданному открытию. Как выяснилось, стена № 58 представляет собой непростую конструкцию, из 2 панцирей — раннего и более позднего, расширившего и укрепившего первоначальную постройку. Поздний панцирь, сложенный довольно грубо и несистематично, поставлен на культурный слой второй половины VI в. до н. э. Вероятно, его возведение относится к концу VI или началу V в. до н. э. Ранний же панцирь покоится непосредственно на скале, он сложен из крупных необработанных камней известняка, промежутки между которыми забиты мелкими. Следует признать, что системы кладок стен № 37 и 58 (ранней) очень близки, более того — названные стены практически одновременны. Датировка стены № 58 может быть основана на следующем соображении: поскольку поздний панцирь лежит на культурном слое второй половины VI в. до н. э., а он мог накопиться за время существования ранней постройки, то сама эта постройка была возведена в пределах обозначенного хронологического отрезка. Более узкая атрибуция сейчас вряд ли допустима.
Еще одно важное обстоятельство: стена № 58 в своей восточной части примыкает к скале, основание которой имеет каменные обкладки. Обкладки опять же уложены на материке. Эти конструкции образуют со стеной № 58 сооружение типа уступа или бастиона, аналогичное тому, о котором говорилось выше, но меньших размеров (1,2 м в длину).
Проведенные исследования позволяют сделать несколько предварительных выводов: 1. Мирмекий имел каменные или сырцово-каменные оборонительные сооружения уже во второй половине VI в. до н. э. В настоящее время это самая ранняя античная фортификационная система, открытая в Северном Причерноморье. 2. Укрепления мирмекийского акрополя в своей основе представляли обкладку скалы. Строители явно придерживались бастионной системы фортификации. 3. Ранняя фортификация приходится на тот период, когда в домостроительстве Мирмекия господствовали заглубленные в землю конструкции. 4. Господствующую сейчас концепцию мирного характера греческой колонизации района Боспора Киммерийского нельзя считать безусловно верной. С учетом новых открытий в области изучения архаического Боспора она нуждается в существенной корректировке. [21]
Нижнедонской регион является районом степной зоны Северного Причерноморья, в котором раннескифские погребения представлены наиболее полно (Максименко, 1983; Копылов 1990; Беспалый, Парусимов, 1991). Нами учтено 30 комплексов, в наборе погребального инвентаря которых содержались предметы, надежно датирующиеся VI в. до н. э. В 16 погребениях присутствовали керамические сосуды и только в 4 комплексах они были представлены греческим керамическим импортом. Эти комплексы введены в научный оборот, однако греческие сосуды, за исключением Криворожского, специально не рассматривались, что затрудняет точную датировку погребений. А ведь именно греческая керамика позволяет установить время первых (археологически фиксируемых) контактов греческих колонистов с нижнедонскими номадами и проследить динамику этих контактов.
Вначале рассмотрим фрагмент сосуда в форме головы барана из разрушенного в 1869 г. при добыче камня курганного погребения на правом берегу реки Калитвы, ниже слободы Криворожье (Книпович, 1935). Судя по описанию, составленному сотником Чернояровым, в погребении было 3 сосуда, «два малых кувшинчика простой работы», которые до нас не дошли, и «один большой кувшин лучшей работы», подробно исследованный Т. Н. Книпович. Характер глины и некоторых деталей формы и орнаментации позволили автору первой публикации криворожского погребального комплекса отнести этот ионийский сосуд к группе Фикеллура, «то есть скорее всего, самосской» и датировать его временем не позже начала VI в. до н. э. Однако большинство исследователей в наши дни полагают, что мастерские, выпускавшие сосуды стиля Фикеллура, начинают свою деятельность только с 60-х гг. VI в. до н. э. (Сидорова, 1962; Копейкина, 1976). Следовательно, Криворожский курган не может датироваться временем ранее конца второй четверти VI в. до н. э.
В 1985 г. в подбойной могиле кургана 2 могильника Бушуйка на правом берегу реки Кагальник в Азовском районе была найдена ионийская амфора (Беспалый, Парусимов, 1991). Амфора имеет широкий округлый корпус на кольцеобразной [22] подставке, невысокое горло с довольно высоким тонким венчиком в виде раструба и небольшие овального сечения ручки. Поверхность амфоры покрыта обмазкой кремового цвета. Лак росписи красновато-коричневый, в густом слое переходящий в темно-коричневый. В тесте блестки слюды и мелкие вкрапления белого цвета. Венчик и подставка покрыты лаком, горло украшено горизонтальным зигзагом в прямоугольном обрамлении, а плечики — лучами, расходящимися от основания горла. Тулово украшено тройным рядом широких и двойным рядам тонких поясков. Амфора из кургана могильника Бушуйка не повторяет росписи известных нам ионийских амфор. Анализ формы сосуда дозволяет говорить, что по формам и пропорциям он занимает промежуточное положение между амфорой из Шандровки (Ковалева, 1983), которую Д. Хайнд относит к раннему VI в. до н. э. (Hind, 1993), и амфорами из погребений второй половины VI в. до н. э. Таманского (Гайдукевич, 1959) и Ольвийского (Скуднова, 1983) некрополей. Характер и особенности росписи позволяют уточнить дату нашей амфоры и отнести ее ко времени не позднее второй четверти VI в. до н. э. Важно отметить, что форма сосуда, пропорции и особенности оформления венчика ионийской амфоры из кургана могильника Бушуйка морфологически близки простым тарным амфорам, которые отдельные авторы предлагают отнести к мастерским Милета (Dupont, 1982; Рубан, 1991).
Погребальный комплекс из кургана 7 Ново-Александровского могильника, содержащий архаическую амфору, рассматривался исследователями неоднократно (Кореняко, Лукьяшко, 1982; Максименко, 1983), однако, сама амфора предметам исследований еще не стала. А ведь исследователям известно, что именно амфорная тара сегодня является наиболее четким датирующим материалом (Брашинский, 1984). Ново-Александровская амфора имеет яйцевидное тулово, невысокое горло с тонким раструбным венчиком и ножку, сформованную в виде низкого кольцевого поддона. На горле, на уровне ручек имеются 3 бороздки. Такая же бороздка подчеркивает переход горла в тулово. Тесто светло-коричневого цвета с примесью слюды. Морфологические особенности и характер глины позволяют отнести амфору из Ново-Александровки к типу самосских амфор (Зеест, 1960; Dupont, 1982). Однако, по мнению П. Дюпона, такие амфоры могли производиться и в других центрах. И. Б. Брашинский, амфору из Ново-Александровки предварительно датировал серединой — концом VI в. до н. э., однако находки подобных амфор и их [23] профильных частей в комплексах, содержащих ионийскую и коринфскую керамику (Rizzo, 1990; Кузнецов, 1992), позволяют утверждать, что амфоры, подобные амфоре из Ново-Александровки, появляются в Средиземноморье и в Северном Причерноморье не позднее второй четверти VI в. до н. э.1)
Следующая из рассматриваемых амфор происходит из раннескифского погребения, открытого П. А. Ларенком у станции Хапры на правом берегу реки Дон (Максименко, 1983). Она имеет короткое горло, вытянутый к низу корпус с максимальным диаметром тулова в верхней трети. Плечики не выделены, ручки короткие, поддон достаточно высокий. Поверхность амфоры светло-красноватого цвета, черепок плотный, в тесте мелкий песок и белые непрозрачные вкрапления. И. Б. Брашинский, смотревший амфору, затруднился определить центр производства, однако отметил, что она не может быть датирована временем позже конца VI в. до н. э.2) Именно так продатирована амфора автором первой публикации Хапровского погребального комплекса, но без ссылки на И. Б. Брашинского (Максименко, 1983). Близкая по форме, линейным размерам и модулям амфора происходит из раннего поселения в Анапе, где встречены амфоры, бытовавшие с середины VI в. до н. э. (Алексеева, 1990). Прямые аналогии хапровской амфоре нам не известны, но морфологические особенности позволяют, исходя из тенденций развития форм греческой тарной керамики, предположить, что в эволюционном ряду она должна занимать место между образцами второй четверти и последней четверти VI в. до н. э. (Брашинский, 1984). Наиболее вероятная дата хапровской амфоры — третья четверть VI в. до н. э.
Анализ греческой импортной керамики из раннескифских погребений Нижнего Подонья помимо уточнения даты этих комплексов позволяет сделать ряд важных выводов. Первые свидетельства о взаимоотношениях греческих колоний с номадами Нижнедонских степей фиксируются с конца второй четверти VI в. до н. э., которые продолжались и в третьей четверти этого столетия. Именно к этому времени относится расцвет Таганрогского поселения, которое уже в последней четверти VI в. до н. э. не функционирует. (Копылов, 1992). Вероятно, что греческая апойкия в районе Таганрога, основанная в конце VII — начале VI в. до н. э., являлась основным поставщиком греческих товаров населению не только [24] степей Подонья, но и других районов степной зоны Северного Причерноморья. Нам представляется, что ионийские сосуды в погребения кочевников Таманского полуострова (погребение у Цукорского лимана) и Самаро-Орельского междуречья (погребение у с. Шандровка) могли попасть из Таганрогского поселения, а заключение, что греческая керамика первой половины VI в. до н. э. могла поступать в варварский мир только из поселения на о. Березань (Вахтина, 1993), нуждается в корректировке. Важно отметить, что греческая керамика во второй и третьей четверти VI в. до н. э. поступала в равной мере как кочевникам правобережья, так и левобережья Дона. Особо следует обратить внимание на отсутствие в Нижнедонских степях надежно датированных греческой керамикой кочевнических погребений, хронология которых укладывалась бы в период с последней четверти VI в. до конца первой четверти V в. до н. э. Поэтому предположение, что дата появления нового населения на левобережье Дона (иксоматов-язоматов) сузится до рубежа VI—V в. до н. э. (Лукьяшко, 1992), не находит подтверждений в археологических комплексах. Новое скифское население, оставившее Елизаветовский могильник, подчиняет себе Нижнедонские степи не ранее конца первой четверти V в. до н. э., и в погребальном обряде не прослеживается генетическая преемственность комплексов Елизаветовского могильника и комплексов VI в. до н. э.
Amisos is the least well-studied of all the major Greek colonies situated around the Bllack Sea (PWRE «Amisos», Hirschfeld; M. I. Maximova, Antichnye Goroda Yugo-Vostochnogo Prichernomorya, 1956, 52ff, 62ff, 87—8; D. D. Kacharava and G. T. Kvirkvelia, Goroda i Poselenia, Tbilisi, 1991, 18-20). Sited about 170 km east of Sinope and 60 km east of the R. Halys (Kizyl Irmak) it was overshadowed by that sity for most of its history, including the periods when it formed part of the larger spheres of interest of Persia, Athens, Pontus and Rome. Present-day Samsun, however, is the largest port on Turkey's Black Sea coast, and it is large-scale harbour works (1956—1960), which have brought the latest access of archaeological material (G. Bean, TTKB 20, 1956, 215-6; SA. 1964, 3, 180-3; R. Stillwell, ed. Princeton Encyclopaedia of Classical Sites, 1976, (D. Wilson).
Ancient Amisos occupied a large area of the hill Kara Samsun, and the slopesdown to the harbour; rows of tumuli are on the higher hills beyond the R. Lykastos to the north-west, reminding Rostovtzev (BSA 22, 1918, Iff) of the general lie of the land at Kerch (Pantikapaion). In the [25] first century A. D. Amisos controlled the regions of Saramene and Gazelonitis, the former including the flood-plains of the Rivers Thermodon and Iris (the areas of Themiskyra and Sidene), and the latter being in the rich valley some 40 km inland, whose centre was Gazelon (mod. Bafra). Along the coast it stretched for some 150 km. — Strabo noted the numerous olive groves (II.1.15), but the city had other sources of wealth-high-grade iron, miltos andslaves, traded from the Khalybes of the coast and the Kappadokians inland.
Apart from a legendary link with Amazons and the Homeric Enete (Strabo, XII.3.10; Zenodotus, apud Eustathius, schol. Iliad II.852), and finds of the Hittite Bronze age and Kappadokian Earty Iron Age (Maximova, VDI 1948, 4. 227ff; JNES 10, 1951, 74-81), the history of Amisos begins 560—550 В. С. Ps-Skymnos (II. 917ff) dates it four years before Herakleia, which he assigns to the time of Kyros' conquest of Media (559 trad., perhaps as late as 547 B. C). He says that is was a colony of the Phokaians, though there is a lacuna in the text, where other participants may have been mentioned. Strabo (XII.3.14) quotes Theopompos to the effect that Milesians founded Amisos, (perhaps Milesians at Sinope gave a halping hand to Phokaians at a difficult time for them in Lonia). Then Kappadokians occupied lit (in the early fifth century?), and thirdly Athenokles with a party of Athenians colonised it and it was re-named Piraeus (436 В. С).
Amisos is not mentioned by any ancient writer earlier than the first century W. C., Theopompos in Strabo's text excepted. Neither Herodotus nor Xenophon nor Ps-Skylax (mid-fourth century В. С). sees fit to refer to it However, it is clear that by the fourth century В. С it had attained considerable importance, based partly on its position at the northern end of the land-route across Asia, which ran via Amaseia, Zela, Caesarea to the Gulf of Issos (Hdt. 1.72). By 370 В. С it was in the Persian sphere of influence again; Datames, the satrap, thought it the nearest city where coins might be minted (Polyainos VIII.21). Alexander 'freed' it from Persia (App. Mithr. 83) and Asander, satrap of Karia towards the end of the fourth century, besieged it as, a citly supporting Antigonos (Diod. Sic. XIX. 57). Some fifty years later Mithridates II, son of Ariobarzanes, of Pontus; used it as a supply point for his kingdom and had to be helped with provisions by the Herakleiots against Galation raids (Memnon 16.1 ). Yet he too was thwarted in his designs on Amisos by Rhodian intervention (Polyainos, IV, 56.1). Appian (Mithr. 83) mentions a 'democracy' at Amisos before it became subject to the Pontic kings. Most of our sources give episodes from the Third Mithridatic War in which Lucullus and Pompey drove Mithridates Eupator from Pontus (Appian, Mith. 74, 78, 83; Memnon, 24, 45; Plut. Luc. 19; Cass. Dio. XLII. 46, 48). Amisos was 'freed' by Lucullus, Pompey, Caesar and Octavian, in the last case from a tyrant named Straton 30 В. С. In the first two centuries it was a flourishing city (Strabo, XII. 3. 13-14; B. McGing, The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator King of Pontus, Leiden, Brill, 1986, 4-8), and was Libera et Foederata (Pliny, NH VI. 7; Epp. X. 92; 110). In Byzanitine times (then called Aminsus) it was an episcopal centre. Along with Paphlogonia it was expected to keep Kherson in the Crimea going with supplies of grain (Constatine Porphyrogennetos). Aminsus was sacked by the Arab emir of Malatya in A. D. 863 and taken by the Seljuk Turks in 1194, Yet, the Genoese were still trading in force on this coast in the fourteenth century and fired it in 1425, when it was under attack by the Ottomans.
Amissos' overseas contacts can only sketchily be traced by studying the silver and bronze coinage (Malloy, Coinage of Amisos, 1970; Price, [26] SNG IX, London, 1993, plates XL-XLV), some of which have been found at Tyras, (VDI 1961, 4, 109) and in Kolkhis (G. Dundua, Numismatilka Antichnoi Gruzii, 1987, 35) and as far afield as Old Nysa. Amisan silver, and even more so the bronze, issues of the early 1 st century В. С. are common finds at Olbia, Chersonesos and on the Bosporus (Maximova Ant. Goroda... 187-8), reflecting Mithridates Northern Pontic Empire dating from 110 В. С (Golenko, Klio 46, 1965, 307-22; Num. i Sphragistika 2, 1965, 41 ff; VDI 1969, 130-54; Gilyevich, Tskhaltubo III, 1985, 608-17). Honorary and funerary inscriptions, mainly of the first century В. С to second century A. D., indicate Amisenoi abroad at Olbia, Pantikapaion, Chersonesos and in the Mediterranean basin at Achens, Pergamon, Phodes and Tarsus (Maximova, map 2 opp. p. 88). Clay figurines from Amisos are fairly numerous (Hamdy-Bey, Catalogue des figurines de terre-cuite, Constantinople, 1908, 3508-44), and a distinct class of figured vases has been studied (Tuchelt, Tiergefässe in Kopf- und Protomengestalt, 1962, 64, 90-4). Sculpture from Amisos is largely in Istanbul, and some recently discovered is in Samsun itself, (G. Mendel, Catalogue des sculptures Musees imp. Ottomans, Const. 1912; Hind, SA 1964, 3, 183-4). Various museums in Europe have holdings of jewellery from Amisos of the fourth century В. С. onwards (H. Marshall, Catalogue Brit. Mus. 1911; L. Pollak, Sammlung Nelidow, Leipzig, 1903). In view of what Strabo says of Amisos' extensive olive production, it may be that some of the amphorae of unknown origin, dating to the fourth, third and second to first centuries В. С., which are found on North Pontic sites were products of Amisos. Some tile production has also been suggested to be of Amisos (I. B. Zeyest, KSIA 1.16, 1969, 42-3; VDI 1951, 106; MIA 83, 1960, 23-24; 30-31 plates XXVI-XXVII). This Amisan production sill remains to be proved and much of the export from Amisos may have been of metal-work. (Antichnye Gosudarstva Severnogo Prichernomorya, ed. Koshelenko, 1984, 181). One should mention the find at Amisos of a fragment of E. Greek pottery in a variant of the Wild Goat style, dating perhaps to the first half of the sixth century В. С. hence to the date affirmed by the literary evidence (Louvre, Paris, SA 2244). Its style is reminis-centof pottery from Massilia, giving some confirmation also to the Phokaian origin of the colonists (Vasseur, Origine found some 18 km south-west of Amisos at a fortified hill-top, with a settde Marseilles rl. VII). More orthodox Wild Goat style pottery has been lement belom it Ak Alan, which also contained a temple with terra-cotta antefixes in an archaic N, Ionic style (Th. Macridy, Mitt. d. Orientgesellschaft 1907, 1-9; Ist. Mitt. 26, 1976, rl. 6-9). The native character of this site, which is not far from the route south to the Issos Gulf, is confirmed by the predominance of so-called 'Phrygian', (better 'Kappadokian') bichrome ware (French, Thracia Pontica IV, 1991, 237-40).
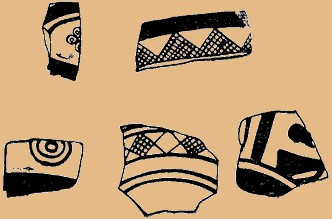
|
Sherds from Samsun |
| Sherd is M. W. g. Style [27] |
На настоящем этапе исследований не подлежит сомнению тот факт, что, обсуждая историю греческой колонизации, следует изучать этот процесс в рамках разных, отдельных и специфических географических микрорегионов. Такими, уже четко выделяющимися микрорегионами, были, к примеру: лиман Днестра, Бугский лиман, дельта Дона, дельта Родана, а также Циренаика в Африке.
В этих микрорегионах, как в западной, так и в восточной части ойкумены (oikumene) мы, с одной стороны, наблюдаем множество особенных характерных примет, вытекающих из специфических условий: демографических, этнических, исторических. Однако, с другой стороны, мы замечаем в них много общих характеристик. Одна из них — это перемещение главного населенного пункта в границах данного конкретного микрорегиона. Этот феномен выступает в разных периодах, от VIII в. до н. э. до эллинистического периода, а также, как было упомянуто, в разных частях ойкумены. Ввиду того, что это явление уже было подтверждено многими примерами, можно судить, что оно не случайное, а представляется нам как некоторая историческая закономерность. В 1971 г. на коллоквиуме в Страсбурге, посвященном античным городам, я уже обращала внимание на этот вопрос (A. Wasowicz, 1971). А теперь, еще раз, находясь среди спецалистов по вопросам греческой колонизации, я желала бы вернуться к беспокоящему меня вопросу, по моему мнению, не разрешенному до сегодняшнего дня. Необходимо задуматься о причинах появления этого феномена как на Востоке, так и на Западе.
Рассмотрим несколько примеров. Первым может послужить дельта Дона и ее ближайшие окрестности. Передовые исследования Т. Книпович, Д. Шелова, И. Брашинского, К. Марченко, В. Копылова и других археологов ясно указывают динамику греческой и варварской колонизации этой территории, что особенно важно для нас, перемещение главного населенного пункта (Книпович, 1949; Шелов, 1970, 1972; Brasinskij, Marcenko, 1984; Копылов, 1990). С конца VII и во второй половине VI в. до н. э. — это первая греческая колония в этом регионе — Таганрогское поселение; с конца первой четверти V в. по первую треть III столетия до н. э. доминирует [28] крупное, важное Елизаветовское поселение, а с III в. до н. э. по первые века н. э. главную роль в этом районе играет боспорская колония Танаис (ныне Недвиговка). Не касаясь дискуссионных проблем о политическом статусе этих центров, а также этнических вопросов, подчеркну только факт изменения доминирующего центра региона на протяжении нескольких веков.
Второй пример. Всем хорошо известен факт перемещения главного населенного пункта в течение VII—VI вв. до н.э. в районе Днепро-Бугского лимана из Березани в Ольвию.
Третьим примерам может послужить история Мегары Гиблейской на Сицилии (I. Berard, 1957; G. Vallet, F. Villard, P. Auberson, 1970). Мегарийцы из Греции поселились сперва, по словам Фукидида (VI, 4, 1-2), в местности, называемой Тротил (Trotilon), идентифицированной с теперешним Бруколи, а после, через короткий промежуток времени, переселились в местность, называемую Фапс (Thapsos), идентифицированной с полуостровом Магнизи, и, наконец, в третий раз основали колонию Мегара Гиблейская в том месте, где французская экспедиция (G. Vallet, F. Villard) открыла город. Это последнее перемещение произошло при полной поддержке царя сиканов Гиблона, что является важным фактом, свидетельствующим о взаимоотношениях греков и туземцев, в данном случае вполне дружеских. Все упомянутые перемещения при основании Мегары Гиблейской происходили на территории протяженностью около 10 км.
Что касается происхождения Эмпория на Иберийском полуострове — это наш четвертый пример — мы наблюдаем аналогичную ситуацию, а именно: поиски греками самого выгодного пункта для основания устойчивой колонии. Первая колония фокейцев, прибывших из Массалии, появилась в первой половине VI в. на маленьком острове San Martin d'Ampurias диаметром около 300 м и называлась Палаиаполис (Palaiapolis); в V в. колонисты переселились на материк, основав Неаполис, т. е. колонию, называемую Ампуриас или Эмпорий (A. Garcia у Bellido, 1948).
Пятым примером может служить происхождение Кирены в Ливии, великолепно описанное Геродотом. По словам этого автора (Herod, IV, 156), поиски соответствующего места для будущей колонии продолжались на нескольких этапах. Греческие колонисты с острова Фера сперва поселились на небольшом острове Платея (Platea) у берегов Киренаики (идентифицированным с островом Бомба), и только оттуда они переселились на материк, вначале в местность, называемую [29] Азирида (Aziris), а впоследствии на место будущей большой апойкии Кирена. Это последнее переселение было согласовано, что следует подчеркнуть, с местным населением. Все эти события имели место, по Геродоту, в VII в. до н. э.
Несомненно, явление перемещения главного населенного пункта микрорегиона в начале греческой колонизации, было последствием действия различных взаимосвязанных факторов. Среди них были, разумеется, изменения в географической среде, например в структуре берега, русла реки у ее устья и др. Важное значение на ранней фазе имел стратегический фактор, так как безопаснее было создавать колонию на острове, а не на материке.
Значимы были также экономические факторы, которые изменились спустя некоторое время. Возможно, что на начальном этапе, при малой численности колонистов, населяющих остров или полуостров, обладание сельскохозяйственной округой и в более широком смысле — широкой экономической базой не было еще необходимым. Такая потребность появлялась с экономическим и политическим развитием колонии.
Существенную роль также сыграли демографические и этнические элементы. Постепенное формирование определенных отношений с аборигенами, о чем ясно свидетельствуют как Геродот, так и Фукидид (к примеру, Массалия из южной Галии), позволяло колонистам закрепиться на новых землях и приобрести довольно большую территорию, т. е. необходимое жизненное пространство.
Все упомянутые факторы, как и многие другие, в совокупности способствовали перемещению главного населенного пункта в определенном микрорегионе, выделенном греками как самое подходящее место для колонизации. Этому содействовали, конечно, и меняющиеся функции первого поселения колонистов, преобразующегося из небольшого поселка в крупное автономное государство, выполняющие разные функции: экономические, политические культурные и религиозные.
Отмеченное мною явление, т. е. перемещение главного населенного пункта, можно охарактеризовать как специфическое для греческой колонизации. Подобные изменения, как мне известно, не наблюдаются в процессах колонизации финикийской, римской или позднейших. Поэтому изучение происхождения этого явления вполне заслуживает нашего внимания, а дальнейшие изыскания по этой проблеме следует базировать на компаративных исследованиях ввиду того, что [30] рассматриваемое явление характерно как для восточной, так и для западной части ойкумены.
При изучении международных отношений в бассейне Черного моря в древности исследователи немало внимания уделяли проблемам греко-варварских контактов на его северных берегах. Нам хотелось бы остановиться на одном из частных аспектов этой многообразной и разносторонней проблемы, а именно на этническом составе населения античной Феодосии, который ранее никогда специально не рассматривался. Важнейшим источником по данному вопросу является лепная керамика, которая также ранее никогда не подвергалась специальному изучению. Довольно значительная ее коллекция была собрана в ходе работ Феодосийской экспедиции ИА АН СССР под руководством Б. Г. Петерса в 1975—1977 гг.
Наиболее выразительна керамика архаического периода. Прежде всего, выделим фрагменты венчиков лощеных и нелощенных горшков тюльпановидной формы второй половины VI — начала V в. до н. э. с прорезным геометрическим орнаментом в виде заштрихованных ромбов и треугольников. Ближайшие аналогии они находят на синхронных поселениях кизил-кобинской культуры горного и предгорного Крыма, а еще раньше подобный орнамент встречается у догреческого населения Северного Причерноморья. На Боспоре он известен на лепной посуде второй четверти VI — первой половины V в. до н. э. из Мирмекия и Тиритаки, в слоях IV—III вв. до н. э. на поселении у с. Марфовка и у с. Айвазовское в окрестностях Феодосии.
Нельзя не обратить внимания и на фрагмент верхней части горшка второй половины VI — начала V в. до н. э. с отогнутым наружу венчиком, на который нанесен выполненный по сырой глине орнамент в виде вдавлений миндалевидной формы. Подобный орнамент был весьма распространен на лепной керамике в Ольвии, Нижнем Побужье и в лесостепной зоне Северного Причерноморья уже во второй половине VII — VI вв. до н. э. Известен он и на Каменском городище на Днепре. Как считалось ранее, на Боспоре он впервые появляется на [31] раннескифской керамике VI—V вв. до н. э., однако в Феодосии он отмечен в слоях того же, а может быть, и более раннего времени. Позднее он встречается на горшках IV в. до н. э. из Мирмекия и первых веков н. э. с поселения у с. Михайловка и в Патрее.
Немногочисленные фрагменты мисок этого времени имеют полукруглую форму с загнутыми внутрь краями. Одна из таких мисок имеет налеп по венчику. Подобный тип орнаментации находит соответствия на посуде из архаических комплексов Торика, Мирмекия, Патрея, а также на Елизаветовском городище и на меотских памятниках Прикубанья.
В эллинистический период встречаются такие же, как и в предшествующий период, горшки тюльпановидной формы с отогнутыми наружу венчиками, но без следов орнаментации, и миски той же формы и также неорнаментированные.
Эти же формы являются преобладающими и в первые века н. э. Вообще же лепная керамика этого времени крайне немногочисленна и невыразительна. Отчасти это объясняется тем, что непотревоженных слоев римского и позднеантичного времени при раскопках обнаружено не было. Упомянем только фрагмент стенки горшка с прилепной ручкой в виде петельки, имеющей многочисленные соответствия на Боспоре.
В заключение отметим, что лепная керамика из Феодосии обнаруживает наибольшие черты сходства с лепной посудой окружающих варварских народов, прежде всего тавров и скифов, а также, возможно, имеет какие-то связи с земледельческими племенами Прикубанья.
Факт широкого распространения в среде северопричерноморских греков, и в частности ольвиополитов, оружия типологически идентичному скифскому в науке давно известен и неоднократно комментировался. Обычно он приводится в доказательство положения о присутствии скифов в составе населения Ольвии (Капошина, Пятышева) или же доминирования принципов скифского военного искусства у ольвиополитов (Черненко).
Основная масса предметов вооружения так называемого [32] скифского типа представлена бронзовыми литыми наконечниками стрел и железными кинжалами-акинаками. Такое оружие встречается в архаических комплексах Ольвии, Березани и Ягорлыцкого поселения. Это может свидетельствовать о том, что эллины-колонисты, прибывшие на северное побережье Понта, уже располагали так называемым скифским вооружением, а не позаимствовали его у местного населении.
Скорее всего, этот комплекс вооружения (который включал и чисто эллинские образцы оружия) сложился еще в метрополии — в Малой Азии, акинаки же и наконечники стрел могли быть восприняты от персов, под протекторатом которых находился Милет, или же от скифов во время их переднеазиатских походов. Тактика же, как нам представляется, в основе своей оставалась эллинской. В пользу этого свидетельствуют изображения гоплитов и находки деталей греческого оружия на памятниках ольвийского региона.
Сравнение основных параметров скифских и греческих мечей, предназначенных в основном для использования в качестве колющего оружия, обнаруживает их функциональную близость. Классический ксифос только несколько более удобен для нанесения рубящего удара. Рубящее клинковое оружие, характерное для эллинов (махайра), присутствует в комплексе вооружения ольвиополитов. Необходимо подчеркнуть, что далеко не всякий вид оружия античной паноплии мог замещаться варварским эквивалентом. Отдельные узкоспециализированные виды оружия остаются неизменными до тех пор, пока не устаревают морально (меняется тактика). Для гоплитов — это большие круглые щиты и шлемы.
Тем не менее, не исключается и возможность получения оружия (в первую очередь, клинкового) непосредственно от скифов в обмен на какие-то греческие товары, однако переоценивать этот источник пополнения запасов вооружения не стоит. Собственная производственная база Ольвии вполне могла покрыть потребность в подобных предметах, и в отношении наконечников стрел мы имеем прямое тому доказательство.
В последнее время в исторической науке возрос интерес [33] к проблеме взаимодействий и взаимовлияний. Выделение отдельных связей поможет нам еще лучше понять, была ли античная ойкумена единой сложной системой, все параметры которой, функционируя по собственным законам, в конечном счете взаимообусловлены. Выявление того, что объединяет, на первый взгляд, несопоставимые части этого, способствовало бы лучшему пониманию этого целого. Этим и обусловлен интерес к проблеме контактов Карфагена с центрами Северного Причерноморья.
Отдельные аспекты данной проблемы уже рассматривались рядом ученых (Шифман, 1958; Алексеева, 1982; Житников, Марченко, 1984; Яковенко, 1985; Островерхов, 1985; Копылов, 1988). Усложняет работу исследователей в этой области и то обстоятельство, что характер основного карфагенского экспорта таков, что не оставляет ясных археологических следов, ибо речь в основном идет о тканях, подушках, одежде и т. п. (Циркин, 1987).
Основные выводы по проблеме существования контактов Карфагена с центрами Северного Причерноморья делаются с привлечением имеющегося археологического материала: «лицевых» бус и других предметов, которые ряд исследователей считают пуническими (Quillard, 1979; Житников, Марченко, 1984), найденных при раскопках северопричерноморских центров. Вероятными контрагентами Карфагена в Северном Причерноморье были такие центры, как Тира, Ольвия, Пантикапей, Нимфей, Неаполь Скифский и др., а также возможно и Елизаветовское поселение на Нижнем Дону.
Принимая положение, что определенные контакты существовали, и располагая имеющимся археологическим материалом, можно сделать вывод о том, что временем их существования был IV в. до н. э. Именно для этого периода мы располагаем точно датированными предметами пунического производства.
IV в. до н. э. можно считать, вероятно, и периодом наиболее интенсивных контактов, т. к. к нему относится большая часть пунического материала. Кроме того, в это же время лицевые бусы проникают в Приднепровье (Яковенко, 1985; Островерхов, 1985), на Северный Кавказ и Закавказье, а также поднимаются вверх по Дону до Частых курганов (Гороховская, Циркин, 1982). Вероятно, это можно каким-то образом связать с расцветом, усилением в Причерноморье скифской державы. [34]
Затруднительно ответить на вопрос о том, были ли эти контакты прямыми, непосредственными или же пунический материал попадал в северопричерноморский регион при посредничестве других центров. Если предположить существование более ранних контактов — с V в. до н. э., то пунический импорт мог проникать сюда при посредничестве Афин (Циркин, 1987) или Милета и Родоса (Яковенко, 1985). С IV в. до н. э. можно предположить и самостоятельные плавания карфагенян в Черном море. Подтверждением этому может служить декрет из Истрии II в. до н. э., в котором говорится о карфагенском купце, торгующем в городе и окрестности (Шифман, 1958).
Необходимо отдельно коснуться материалов Елизаветовского городища на Нижнем Дону. На территории городища обнаружено 32 обломка лицевых бус (строительный комплекс датируется первой половиной — серединой IV в. до н. э.). Предположительно, данный строительный комплекс является «лавкой» торговца украшениями (Житников, Марченко, 1984), а само городище являлось посредническим специализированным центром торговли украшениями (Островерхов, 1985). Елизаветовские находки имеют общие черты с типами 462 и 463 в своде Алексеевой (1982), которые она датирует IV—III вв. до н. э.
Деятельность данной лавки в дальнейшем, вероятно, каким-то образом можно будет связать с уникальной для Северного Причерноморья амфорой IV в. до н. э. пунийского типа, обнаруженной на том же участке акрополя городища, что и лавка торговца украшениями. К этим предметам, вероятно, можно добавить и ойнахою «финикийского стекла» из кургана № 7 Елизаветовского могильника, датируемого первой половиной IV в. до н. э., которая была открыта А. А.Миллером в 1908 г.
Весь комплекс сегодняшних археологических материалов позволяет предположить для этого времени (IV в. до н. э.) не только торговые связи при посредничестве Боспора (обычная форма торговли для городища), но и широкие непосредственные связи с дельтой Дона ряда античных центров (Брашинский, 1980), например Карфагена.
Более тщательное исследование коллекций в музеях страны, может быть, поможет обнаружить и другие следы контактов Карфагена с центрами Северного Причерноморья. [35]
Доклад посвящен новому варианту трактовки термина «гекаторюг», дважды употребленному в херсонесской надписи об аренде земельных участков (IРЕ, I2, № 403). По традиции, идущей от Ф. Ф. Соколова и Б. Кайля, гекаторюг обозначал меру площади, подобно гектару. В разное время В. Д. Блаватский (1951), С. Ф. Стржелецкий (1959), Г. М. Николаенко (1983) предложили свои версии вычисления этой меры площади. Недавно Ю. Г. Виноградов и А. Н. Щеглов (1990) предложили оригинальный вариант перевода как специфического агрикультурного термина, отметив, что неизвестны случаи, когда бы меры площадей становились нарицательными для самих участков. Следовательно, вопрос о мере площади для размежевки земельных участков на хоре Херсона по-прежнему остается открытым.
Представляется необходимым отметить, что имеющееся противоречие имеет, скорее, методический, чем терминологический характер. Необходимо строго разграничить принципиально разные понятия: площадь и величина, применяемые обычно к земельным участкам. Наиболее раннее в античной литературной традиции свидетельство о мере площади, заимствованной греками у египтян (аруре), и принципе ее вычисления содержится у Геродота (II, 109). При определении величины, т. е. общих габаритов объектов, античные авторы (Геродот, Страбон, Полибий, Павсаний и др.) практически без исключения указывают их линейные параметры по окружностям или периметрам.
Метрологические исследования, проведенные Г. М. Николаенко, позволили выявить модуль, с учетом которого велась размежевка как всего Гераклейcкого полуострова (1983), так и более ранних наделов Маячного полуострова (Щеглов, 1993). Этим модулем был участок, размерами 52,5*52,5 м, площадью 2,25 плетра, выявленный также и при обмерах городских кварталов Херсонеса (Николаенко, 1983). Г. М. Николаенко первой правильно установила и полное тождество этого модуля египетской аруре, справедливо воздержавшись от их терминологической идентификации — измерять участки на Гераклее в арурах (1985). Могли ли их измерять в плетрах? Общая площадь надела родового гражданина была ведь кратна целому числу плетров — 36 или равна 1 гекаторюгу [36] (1983). Однако Ю. Г. Виноградов и А. Н. Щеглов также верно указали на отсутствие необходимости параллельного существования в одном полисе двух мер площади — плетра и гекаторюга.
Представляется, что ответить на этот вопрос можно следующим образом. Любая мера площади должна быть кратной всем остальным участкам, т. е. являться модулем. Этот модуль, равный по площади аруре, был верно установлен Г. М. Николаенко. Следовательно, именно арура (100*100 египетских локтей), а не плетр (!) и был положен в основу всей системы размежевки. Отметим также, что плетр как мера площади (100*100 футов) имел, вероятнее всего, аттическое происхождение.
Парцелляция города и хоры была произведена по единому регулярному плану. К первой половине IV в. до н. э. гипподамова система планировки была уже хорошо известна в греческой градостроительной практике, в Херсонесе была апробирована в размежевке первых наделов на Маячном полуострове. Обращение к египетскому стандарту связано скорее всего с тем, что архитектор, разработавший проект планировки полиса (в границах города и его ближней хоры) или происходил родом или обучался в каком-то малоазийском (ионийском) центре. В последних египетские стандарты были популярны, к IV в. до н. э. воспринимались уже как местные (самосские) и известны по памятникам монументальной архитектуры, по крайней мере, от VI в. до н. э., в т. ч. и в ионийских (милетских) колониях на Понте. Скорее всего, на практике произошло совмещение разных по происхождению мер площади — египетской, принятой в малоазийских центрах (аруры) и аттической (плетра, причем в египетской или самосской системе мер). Это не противоречит наверняка имевшему место факту сочетания аттических и малоазийских строительных приемов и традиций в материнском полисе Херсонеса — Гераклее, первые из которых могли быть перенесенными туда в процессе мегарской колонизации. Решить эту проблему, с моей точки зрения, может признание гекаторюга тем самым модулем, равным по площади аруре, который и являлся кратным всем участкам, независимо от их размеров. Величина гекаторюга тогда действительно будет равна 100 оргиям по периметру (52,5*4), а площадь — 1 аруре.
Следовательно, земельные участки на Гераклее измеряли не плетрами, не арурами, а гекаторюгами, равными по площади последней. Т. е., гекаторюг действительно являлся местным [37] названием меры площади, используемым в малоазийском регионе аналогично заимствованным также из Египта мерам длины. Необходимо отметить, что сочетаемость нескольких стандартов малоазийского и аттического происхождения (полистандартность) в целом характерна для всей метрологии домитридатовского Херсонеса.
Новое обширное освоение ольвиополитами аграрных территорий в Нижнем Побужье на рубеже V—IV вв. до н. э. было связано с изменениями в земельном кодексе, происшедшими после свержения тирании (Зуц, 1970; Рубан, 1979; Виноградов, 1981; Отрешко, 1982; Рубан, 1985; Виноградов, 1989; Крыжицкий, 1989). Существуют различные мнения относительно демографического потенциала, участвовавшего в реколонизации хоры. Большинство исследователей склонно считать, что ольвиополиты только за счет собственных людских ресурсов не смогли бы справиться с подобной задачей (Отрешко, 1982; Рубан, 1985; Крыжицкий, 1989).
В. М. Отрешко возросший демографический потенциал связывает с эмиграцией в Нижнее Побужье, вызванной излишком населения Эллады в IV в. до н. э., концом Пелопонесской войны, в которой принимало участие множество держав Средиземноморья и Южного Причерноморья. Окончание войны способствовало активизации межполисной торговли, общему улучшению экономической конъюнктуры и главное — облегчило эмиграцию в Нижнее Побужье (Отрешко, 1982). Эту идею с аналогичной аргументацией развивает В. В. Рубан, указавший конкретные районы, из которых происходили миграции, — Восточное Средиземноморье и Малую Азию, греческие полисы которой вновь попали под владычество Персии (Рубан, 1985).
Что касается нового контингента колонистов из греческих полисов Малой Азии, то возможность их участия в заселении хоры Ольвии в этот период не вызывает особых возражений. Гораздо сомнительнее и наименее обоснованным является предположение В. В. Рубана об эмигрантах в Нижнебугский [38] регион из Восточного Средиземноморья, и в частности из Аттики.
Пелопонесская война, несомненно, могла являться стимулятором массового оттока сельского населения из районов, охваченных войной, однако, если бы таковой и был, то его следовало бы ожидать уже в ходе военного конфликта между Афинами и Спартой. Наиболее вероятные предпосылки для этого могли возникнуть еще в период Архидамовой войны, когда была практически опустошена аграрная территория Афин. Для этого были и определенные благоприятствующие условия, связанные с тесными экономическими отношениями Афин и Ольвии во второй половине V в. до н. э., и, даже вероятное вхождение последней в Архэ. Но, как известно, процесс реколонизации хоры Ольвии начал интенсивно проходить с начала IV в. до н. э. Переселение же из Аттики, хотя и в более стабильный во внешнеполитическом отношении регион, как минимум через десятилетие после завершения Пелопонесской войны кажется недостаточно оправданным. В данной ситуации перед населением Аттики стояла вполне реальная и первоочередная задача — ликвидация последствий прошедшей войны. Тем более неуместным выглядит приведенный В. В. Рубаном пример вынужденной эмиграции о переселении тысячи жителей Каллатии на Боспор во время осады города Лисимахом. В сообщении Диодора речь идет о событиях, происходивших во время военного конфликта, а не по завершении такового (Diod. Sic., XX, 26). Если исходить в данном аспекте только лишь из военных событий, как предлагает В. В. Рубан, то вынужденное переселение из Балкан и Малой Азии в Северное Причерноморье на протяжении IV в. до н. э. носило бы скорее всего перманентный характер. Куда более серьезной угрозой, чем Пелопонесская война, являлась активная военная доктрина правителей Македонии, особенно в царствование Филиппа II и Александра, умело использовавших межполисные и внутриполисные конфликты в своих целях. Тем не менее во времена их правления ярких демографических изменений в районе Нижнего Побужья не наблюдалось.
В сообщении Диодора Галикарнасского говорится, что сразу после войны в Афинах оказалось всего 5 тыс. безземельных граждан, т. е. не более 1/4 всего гражданского населения. Такая пропорция не могла быть особенно значительной даже для довоенного времени, и нет основания считать, что Пелопонесская война привела к «разрыву с землей» значительной части крестьянства (Андреев, 1983). По [39] мнению В. Н. Андреева, в результате гибели, может быть половины всех граждан, могла появиться масса выморочных участков, которые легко переходили из рук в руки и остались в дальнейшем оторванными от всех фамильных традиций (Андреев, 1983). Маловероятно, чтобы все 5 тыс. безземельных в короткий отрезок времени могли переселиться в Ольвию. Более того, такого числа людей не хватило бы для освоения и половины ольвийской хоры, не говоря уже о том, что процессы восстановления сельской округи в этот период отмечаются и в других центрах Северо-Западного Причерноморья (Истрия, Тира, Никоний), где сельских поселков зафиксировано немногим меньше, чем в Нижнем Побужье.
Независимо от приводившегося нами выше мнения некоторых исследователей о наличии нового контингента иммигрантов, и, полностью не отрицая их присутствия, мы все же рискнем поставить под сомнение их ведущую роль в заселении Нижнебугского региона. На наш взгляд, подавляющее большинство поселков и хуторов было заселено ольвиополитами. После свержения тирании, очевидно, прошли некоторые социально-демографические изменения в среде населения Ольвийского полиса и прежде всего увеличение числа граждан за счет метеков, способствовавших свержению тирании и обретших право владения землей. Возможно, увеличилось число вольноотпущенников — потенциальных арендаторов сельскохозяйственных угодий, так как с демократическими преобразованиями в земельном кодексе, очевидно, были оговорены и условия аренды. Вполне реально, что правом аренды земли на территории полиса могли воспользоваться и метеки, не получившие гражданских прав. Кроме всего, за счет естественного прироста гражданского населения увеличилось число людей, которые могли претендовать на участки земли на хоре.
В большинстве античных источников название города — колонии гераклеотов в Крыму — фигурирует как Херсонес Таврический и именно так, по мнению современных исследователей, город именовался на протяжении всего периода своего существования. И только у Плиния Старшего (IV, 85) [40] сохранилось упоминание, восходящее к ранней исторической традиции, о том что город носил название Гераклея-Херсонес, а еще раньше — Мегарика. Это свидетельство в современной науке трактовалось чисто поверхностно: первые колонисты из Гераклеи Понтийской называли новый город в память о своей родине Гераклеей, а поскольку сами гераклеоты были выходцами из Мегар, то их потомки из уважения к далеким предкам-прародителям именовали свою новую родину Мегарикой. Однако этот упрощенный взгляд не устраняет вопроса: почему колония Гераклеи Понтийской на протяжении короткого времени в ранний период своего существования сменила названия и в чем могла заключаться причина таких изменений.
После обнаружения археологических свидетельств более раннего, чем традиционная дата основания Херсонеса (423/422 г. до н. э.) существования города, была высказана точка зрения (А. Н. Щеглов), что первоначально город у Карантинной бухты мог носить название «Мегарика» (или «Древний» Херсонес Страбона); позднее, к началу IV в. до н. э., после прибытия новой большой группы гераклейских колонистов и быстрого расцвета города, он стал восприниматься как «Новый» Херсонес, т. е. тот город, который под своим традиционным названием просуществовал вплоть до эпохи средневековья. В то же время А. Н. Щеглов не отвергает устоявшуюся точку зрения, что «Древний» Херсонес — это название укрепления на перешейке Маячного полуострова, относя путаницу в названиях за счет недостаточно четкого знания древними авторами реальной ситуации. Так что и эта точка зрения не упрощает, а скорее усложняет вопрос о причинах смены названий колонии гераклеотов в Таврике.
Действительно, названия «Древний» Херсонес, «Новый» Херсонес встречаются только у авторов I в. н. э., Страбона и Плиния Старшего, несомненно, отражая ту ситуацию в Херсонесе Таврическом, которая могла сложиться именно к этому времени. В то же время Страбон и Плиний четко различают терминологию географических названий: «Древний» Херсонес — Херсонес, колония гераклеотов (Страбон); «Новый» Херсонес — Гераклея — Херсонес, прежде именовавшаяся Мегарикой (Плиний). Как видно из сопоставления этих названий, авторы раннего римского времени определенно различали понятия «Древний» и «Новый» Херсонес и название широко известного города Херсонеса Таврического, колонии Гараклеи Понтийской на берегу Карантинной бухты.
Во времена Страбона «Древний» Херсонес — это [41] сельскохозяйственная территория херсонеситов на Маячном полуострове, которая, как показывают археологические исследования, в конце I в. до н. э. — начале I в. н. э., т. е. в момент составления Страбоном его труда, действительно лежала в развалинах. Это название может относиться и ко всему Гераклейскому п-ву, размежёванному на участки с усадьбами еще в IV в. до н. э., которые так же были в запустении ко времени Страбона. Ведь Гераклейский п-в греки называли Малым Херсонесом (Strabo VIII. 4.1-2).
Контекст свидетельства Плиния о скифо-таврах подразумевает не город, с которым граничат эти племена, а территорию (равнину) Гераклейского полуострова, к которой выходят отроги Крымских гор. Ко времени Плиния здесь уже стали появляться новые размежевания и усадьбы, что позволило по контрасту с лежавшим ранее в развалинах «Древним» Херсонесом называть эту территорию «Новым» Херсонесом.
Название «Мегарика», таким образом, вопреки мнению А. Н. Щеглова, не может коррелировать с понятием «Новый» Херсонес у Плиния — «Древний» Херсонес Страбона, а должно относиться исключительно к городу Херсонесу Таврическому, колонии гераклеотов в Юго-Западном Крыму, расположенному на Гераклейском полуострове, т. е. Малом Херсонесе Страбона.
«Мегарика» — это древнейшее название колонии гераклеотов в Крыму. Оно не может относиться к поселению на месте позднейшего Херсонеса Таврического, поскольку в его основании в конце VI — начале V в. до н. э. приняли участие ионийские элементы. Скорее всего оно связано с собственно Херсонесом, дорийской гераклейской апойкией мегарского происхождения, основанной в последней четверти V в. до н. э. Причины принятия этого названия и его смены кроются во внутриполитических противоречиях в его метрополии Гераклее.
До 425 г. до н. э. Гераклея Понтийская отказывалась вступать в Афинскую Архэ (Justin XVI. 3), поддерживала дружбу с Персией, так как у власти здесь находились настроенные антиафински олигархические элементы. В 425 г. Гераклея Понтийская впервые попала в списки данников Первого Афинского Морского союза, что стало следствием прихода к власти демократов. Следовательно, демократический переворот мог дать толчок выселению олигархов, т. е. образованию Херсонеса Таврического. Поскольку олигархические элементы лишились власти без участия демократических Афин, то они могли назвать новую колонию «Мегарика» — в память [42] о своей прародине Мегарах, всегда бывших оплотом олигархии. Это могло быть сделано в пику гераклейским демократам и Афинам, которые как раз накануне переворота в 426 г. до н. э., приняли антимегарские санкции, так называемую «магарскую псефизму».
Однако уже в 424/423 г. до н. э. Гераклея отказалась платить форос Афинам, что вызвало попытку афинян силой вернуть утраченное там влияние. Неудача экспедиции афинского стратега Ламаха в Гераклею показывает, что в городе вновь укрепились олигархи, а это могло вызвать новое выселение части его жителей, но уже проафинской ориентации, в Мегарику (Херсонес Таврический). Поскольку часть выселившихся туда ранее олигархов, как и в случае с Каллатисом, могла вернуться обратно в Гераклею, то заселение города проафинскими элементами контрастировало с его вызывающе антиафинским названием, напоминавшим об олигархическом контрперевороте на родине, что потребовало изменить его на новое — Гераклея, а чуть позже — Херсонес — по названию места, где он находился.
Перемена названия на Херсонес связана, во-первых, с тем, что у власти в метрополии находились олигархи, а в колонии — демократы; во-вторых, чтобы не путать названия двух одноименных полисов, а в-третьих, с тем, что демократическая апойкия теперь больше ориентировалась на Афины и поддерживала их антимегарские акции. Возможно, что на перемене названия сказалось и номинальное участие Делоса в основании гераклейской колонии в Таврике.
В античных некрополях сосуды для масел — едва ли не самая частая находка. Именно наличием большого количества лекифов греческие некрополи отличаются от могильников варварского соокружения.
Значение лекифов в погребальном культе эллинов известно. Довольно часто находки лекифов в могилах связывают с палестрическим набором инвентаря и считают наряду со стригилем характерной особенностью погребения палестрита. Между тем лекифы необязательно считать исключительно [43] атрибутами палестрита, они были обыкновенными предметами туалета (Кастанаян).
Анализ материалов некрополей Северного Причерноморья показывает, что присутствие лекифов в могилах не связано с какой-либо одной половозрастной группой. Эти сосуды встречаются как в мужских, так и женских и даже детских захоронениях. Обращает на себя внимание также и то, что взаимовстречаемость лекифов и стригилей в могилах явление отнюдь не частое: в большинстве могил, где присутствовали лекифы, стригалей не было; нередки случаи, когда в могилах были стригили, но не было лекифов. Все это, на наш взгляд, достаточно ярко свидетельствует о том, что лекифы необязательно характеризуют палестрический инвентарь и что значение их в погребальной практике эллинов было шире.
В связи с этим следует обратить внимание на процедуру подготовки умершего к погребению, необходимой стадией которого были омовение и умащивание тела ароматическими маслами, на процедуру выставления тела, при которой тело время от времени поливалось ароматическим маслом и, разумеется, на стремление родственников снабдить покойного маслом и в загробной жизни. Напомним серию так называемых белых лекифов, специально изготовлявшихся для погребального обряда.
Невозможно не отметить еще одно наблюдение — подавляющее большинство лекифов всех разновидностей найдено в некрополях, а не в культурных слоях поселений, где находки их сравнительно редки. Скорее всего, лекифы специально покупались для погребальных церемоний и в быту употреблялись мало. Складывается впечатление, что из всех категорий погребального инвентаря именно туалетные сосуды, и прежде всего лекифы, быстрее всего попадали в погребения. Иными словами, время, проходившее с момента изготовления сосуда, до того момента, когда сосуд оказывался в погребении, было минимальным — всего несколько лет. С этой точки зрения для точной датировки эта категория керамических сосудов, наряду с амфорами, имеет наиболее благоприятные возможности. Сказанное вовсе не означает, что всякий лекиф, найденный в могиле, был изготовлен за год — два до того, как попал в погребение — мы пытаемся проследить лишь общую тенденцию.
Основная масса лекифов IV в. до н. э. относится к группе арибаллических; они меньше по размерам, нежели цилиндрические лекифы предыдущего столетия, но по-прежнему украшаются разного рода изображениями. По способу и характеру [44] оформления поверхности сосудов, их можно разделить на 5 групп, а именно:
1. К первой группе относятся сосуды, на лицевой стороне которых в краснофигурной технике помещены изображения одной или двух фигур в полный рост, мужской или женской головы в профиль, реальные или фантастические животные или птицы: лебедь, лань, заяц, пантера, сфинкс и пр. В эту же группу следует включить редко встречающиеся сосуды, полностью покрытые растительным орнаментом, сосуды с многофигурными изображениями, в росписи которых применялись золото, пурпур, белая краска. Вся группа лекифов обозначается обычно как лекифы с сюжетными изображениями. Выпуск сосудов этой группы, судя по многочисленным погребальным комплексам, начинается еще в третьей четверти V в. до н. э. и заканчивается в конце первой или в самом начале второй четверти IV в. до н. э.
2. Ко второй группе сосудов относятся те из них, верхняя часть тулова которых украшена двумя или тремя полосами в цвете глины. Нередко полосы заполнены косой штриховкой, «гусиками», меандром. Таким орнаментом лекифы начали украшаться еще во второй половине V в. до н. э. и особенно на рубеже V—IV вв. до н. э.; на это время, очевидно, падает пик выпуска, в начале второй четверти выпуск их также прекращается.
3. Третья группа — так называемые лекифы с пальметкой, имеющие чрезвычайно широкое распространение. Они различаются между собой как по величине, так и по форме тулова и характеру нанесения росписи. Редкие экземпляры сосудов появляются уже в первой четверти IV в. до н. э., но основное время их бытования — вторая и третья четверти столетия. Судя по погребальным комплексам, выпуск их в конце третьей четверти IV в. до н. э., а может даже несколько раньше, прекращается.
4. Сетчатые лекифы наряду с лекифами, украшенными пальметкой, наиболее часто встречаются на памятниках IV в. до н. э. Между собой они также различаются по размерам, форме тулова и характеру нанесения штриховки. Лекифы с сетчатым узором появляются в первой четверти IV в. до н. э., судя по всему, сетчатые лекифы и лекифы с пальметкой приходят на смену лекифам с сюжетными изображениями. Выпуск сетчатых лекифов продолжался до конца третьей четверти IV в. до н. э.
5. Пятая, весьма небольшая группа лекифов — сосуды, полностью покрытые черным лаком, которые очень редко [45] встречаются в комплексах как V, так и первых трех четвертей IV в. до н. э. Возможно, это своего рода брак, т. е. сосуды, попорченные во время росписи тулова и поэтому залитые лаком целиком.
Междуусобная «Священная» война, потрясшая в 355—346 гг. до н. э. почти всю материковую Грецию, открыла перед Филиппом II перспективу установления македонской гегемонии на Балканах. Главным препятствием этому выступало Афинское государство. Готовясь к решающим схваткам с Афинами, Филипп Македонский боролся с ними «втихомолку, из-за угла» (Шофман, 1960), нанося удары по основным союзникам афинян. При такой тактике существенно подорвать мощь афинян можно было в случае прекращения или затруднения массовых поставок хлеба с Понта, особенно с берегов Боспора Киммерийского.
В IV в. до н. э. Боспорское царство являлось для Афин крупнейшим и надежнейшим источником получения хлеба. А из колоссальных денежных сумм, предоставляемых Левконом I в кредит и хранимых афинянами в качестве депозита (Жебелев, 1953), афинский демос черпал средства на борьбу с внешними врагами. Без боспорского хлеба и денег нормальная жизнедеятельность Аттики в IV в. до н. э. была бы невозможна.
Значительные возможности для противоборства с Афинами открывало Филиппу II наличие острых противоречий между Гераклеей Понтийской и Афинами, с одной стороны (IGI, 304), и между Гераклеей и Боспором, с другой. В итоге войны с Гераклеей в первой четверти IV в. до н. э. владения Спартокидов расширились за счет Феодосии; однако с захватом последней Левконом военное соперничество Гераклеи с Боспором не завершилось. Вероятно, об этих событиях свидетельствует одна из новелл «Стратегем» Полиена (V, 44,1), повествующая о том, как «Мемнон во время борьбы с боспорским тираном Левконом» направил к оному для военной разведки лжепосольство, возглавляемое византийцем Архивиадом в сопровождении кифареда Аристоника. [46] Фигурирующий здесь Мемнон идентифицируется с известным полководцем Мемноном Родосским (ок. 380 — 334 гг. до н. э.), находившемся в 353/52—342 гг. на службе у Филиппа II (Minns., 1913; Шелов, 1950). Аристоник из Олинфа, названный Плутархом «великим кифаредом», служил придворным музыкантом и певцом Филиппу II и Александру Македонскому. Византиец Архивиад по другим источникам не известен.
Относительно датировки рассматриваемого события, у исследователей нет единства (Сапрыкин, 1986). Трудно согласиться с мнением В. Д. Блаватского (1980) и примкнувшей к нему Э. Б. Петровой (1991) о том, что против Левкона Мемнон действовал в 70-х или в конце 80-х гг. IV в. — для Мемнона, родившегося ок. 380 г. до н. э. (Шифман, 1988) это просто нереально. Э. Р. фон Штерн (1906) относил данное событие к 355 г. до н. э., однако маловероятно, чтобы персидский сатрап Артбаз, восстав в это время против Великого царя и рассчитывая на помощь афинян, согласился бы на участие своего шурина и сподвижника Мемнона в борьбе против Левкона.
Схождение воедино всех участников антибоспорской акции могло иметь место не ранее 353/52 г., когда Мемнон с Артабазом оказались в Македонии на службе у Филиппа, где пребывал и кифаред Аристоник, и когда македонский царь заключил союз с Византией (Невская, 1951), откуда происходил Архивиад. Смерть Левкона в 351 г. (Яйленко, 1990) определяет верхнюю дату события.
В конце 40-х гг. IV в. до н. э. военно-политические интересы Македонии, Византия и Гераклеи совпадали по целому ряду пунктов; через византийцев, связанных с гераклеотами единством происхождения, Филипп II имел возможность наладить контакты с гераклейскими тиранами Клеархом (364—353/52 гг.) и Сатиром (353/52—345 гг.). Известно, что Филипп II систематически присылал своих наемников, деньги и оружие одним греческим полисам для борьбы с другими (Маринович, 1975). Наиболее вероятно предположить, что в качестве стратега-наемника, направленного из Пеллы, Мемнон оказался участником вновь вспыхнувшего боспopo-гераклейского конфликта вокруг Феодосии (Шелов, 1950; Блаватская,1959). Война на Боспоре вела бы к расстройству его торговли с Аттикой (ср.: Демосфен, XXXIV, 8) и вынуждала бы Левкона отозвать из Афин свои деньги, а это как нельзя лучше соответствовало гегемонистическим планам Македонии. Ради успеха разведки на Боспоре Филипп задействовал [47] своего придворного кифареда. Поскольку впоследствии и Мемнон и Аристоник вернулись в Македонию, то против Левкона они, несомненно, действовали с санкции македонского царя (ср.: Шелов-Коведяев, 1985).
Устанавливая отношения с Гераклеей, Филипп преследовал, очевидно, и другую цель — оказать при посредничестве южнопонтийского партнера влияние на политику скифского царя Атея. Наверное, с помощью Гераклеи царю Македонии удалось расширить свои контакты со скифским царем — не случайно монеты Атея испытывают одновременно влияние типологии как монет Гераклеи (Анохин, 1965; 1973), так и Македонии (Шелов, 1965; 1971). Гераклея, вытесненная в первой четверти IV в. Боспором из Синдики и Феодосии, сконцентрировала свое внимание на хлебородных землях побережья Северо-Западного Крыма (Сапрыкин, 1986). Субъективно Филипп II был заинтересован в сокращении хлебного экспорта в Аттику из Северо-Западного Крыма, в переходе последнего под власть антиафински настроенной Гераклеи и ее Херсонесского эмпория. Не исключено, что в деле дорийской колонизации Западного Крыма в середине IV в. до н. э. за спинами гераклеотов и херсонеситов скрывается фигура Филиппа II, располагавшего немалыми ресурсами для оказания помощи своим понтийским партнерам по антиафинской и антибоспорской деятельности. Помощь могла последовать необязательно откомандированием наемников (как Мемнон), но финансами и поставками оружия.
В середине IV в. Херсонес произвел эмиссию парадной серии монет, выпущенной, вероятно, по случаю побед над Ольвией в Северо-Западном Крыму (Виноградов, Щеглов, 1990); на старшем номинале этой серии типа «Квадрига-Воин» вооружение коленопреклоненного воина, по наблюдению С. Ю. Сапрыкина (1980), «напоминает македонское». В Керкинитиде в это же время чеканена серия из двух монет типов «Голова богини — скифский всадник» и «Голова Геракла — орел на пучке молний» (Столба, 1990). Типология первой из этих монет возможно отражает, участие Гераклеи и Херсонеса в крепостном стеностроительстве Керкинитиды в конце 50–40-х гг. IV в. до н. э. (Павленков, 1992) и контакты полиса(ов) с царем Атеем (Павленков, 1988; Кутайсов, 1992). На второй монете этой лжекеркинитидской серии дается изображение пучка молний под орлом, в деталях которого просматривается ближайшая аналогия с изображением такого же пучка молний на дифферентах-аксессуарах некоторых монет Филиппа II (ср.: Ефремов, 1991). [48]
Предполагаемое македонское влияние на нумизматику Херсонеса и Керкинитиды (?) на фоне антибоспорской акции македонского агента Мемнона позволит, быть может, говорить об очень широком фронте борьбы Филиппа II с Афинами, выходившем за пределы собственно Средиземноморья, и затронувшим не только Боспор, но и Западный Крым.
В докладе сравнивается античный керамический импорт 4 скифских поселений, на которых проводились стационарные раскопки, с соответствующими материалами из скифских погребений. Для характеристики могильного материала использована выборка — 50 погребений из курганных групп, расположенных на левобережье и правобережье Нижнего Днепра.
На поселениях Первомаевка 2 и Чернеча (раскопки автора) античный импорт составляет 61 и 56% в составе керамического комплекса при подсчете по фрагментам. 1% приходится на столовую посуду, остальное на амфоры. Материал измельчен, что затрудняет определение типов и датировку, а также делает невозможным подсчет минимального количества целых форм. В группе тары преобладают фрагменты гераклейских амфор IV в. до н. э. В несколько меньшем количестве найдены фрагменты фасосских биконических амфор IV в. Довольно часты находки фрагментов хиосских прямогорлых амфор с колпачковой ножкой, датирующихся в пределах первых трех четвертей IV в. Амфоры Синопы представлены фрагментами валикообразных венчиков и цилиндрических ножек типов, распространенных со второй четверти на протяжении IV в., единственное клеймо датируется третьей четвертью. Единичными фрагментами представлены амфоры Менды с рюмкообразными ножками второй-третьей четвертей, амфор типов Солоха II и Солоха I и сходных с последними амфор с двуствольными ручками второй половины IV в. Кружальная столовая посуда представлена фрагментами сероглиняных и красноглиняных кувшинов ольвийского [49] производства. Найден также один фрагмент чернолакового килика аттического производства.
Античный керамический импорт на поселении Лысая Гора (раскопки Н. А. Гаврилюк, С. Н. Кравченко) совпадает с найденным на описанных выше поселениях (Кравченко, 1987) В целом античная керамика с этих 3 поселений датируется IV в. до н. э. Материалы Каменского городища от них отличаются присутствием в значительном количестве амфор Херсонеса и наличием группы клейм с датировкой последней четвертью IV—III вв. (Граков, 1954).
Что касается выборки погребений, анализ керамического импорта дал следующую картину. 2 впускных погребения и их тризна содержали материалы последней четверти — конца V в.: хиосские амфоры ранней разновидности нового стиля, чернолаковый килик на кольцевом поддоне без ножки (Афинская агора. Т. XII, № 454, 457-461, 470), фасоссские биконические амфоры самого раннего типа, фрагмент амфоры Менды с рюмкообразной ножкой. К рубежу V—IV вв. отнесено одно погребение с хиосской амфорой (Черненко, Бунятян, 1977). В 11 случаях погребения датировались первой четвертью IV в. В них найдены гераклейские амфоры с клеймами первой хронологической группы, амфоры Хиоса с колпачковыми ножками, Фасоса, Менды и типа Солоха II; из чернолаковой посуды — килики-болсалы, арибаллический лекиф, орнаментированный полосками, килик с утолщенным венчиком, отделенным от корпуса горизонтальным желобком, со штампованным орнаментом (Афинская агора. Т. XII. № 621-622). К ранним можно отнести также погребение с серолощеным кубком-канфаром ольвийского производства (Евдокимов, Фридман, 1991). В 4 случаях были найдены амфоры или их фрагменты с широкой датировкой первой половиной или первыми тремя четвертями IV в.
2/3 погребений выборки датируются второй-третьей четвертями IV в. В этот период по-прежнему преобладают гераклейские амфоры (с клеймами второй или третьей поздних групп), довольно много фасосских амфор, встречаются хиосские с колпачковыми ножками, типы Солохи. Вся чернолаковая посуда аттического производства: преобладают канфары с массивными венцами, гладким или каннелированным туловом, ручками с горизонтальными шипами; имеются приземистые канфары с отогнутыми венцами, килики, мисочки, лекифы с пальметками, скифос. Встречены сосуды ольвийского производства с широкой датировкой: сероглиняные и красноглиняный лекифы, сероглиняный кувшинчик, красноглиняная [50] и сероглиняная (предположительно ольвийская) ойнохои. Два кружальных сосуда — неольвийского производства: один из них определен Н. А. Онайко как боспорский, второй, возможно, имеет средиземноморское происхождение.
Сосуды последней четверти IV в. до н. э. или более поздние ни в одном погребении выборки не обнаружены.
Сравнение материалов с поселений и из погребений показывает присутствие в курганах более раннего античного импорта. Дату основания поселений можно определить не ранее рубежа V—IV вв. Для IV в. наблюдается совпадение среди материалов поселений и могильников типов амфор и в определенной степени их количественного соотношения, отмечено присутствие ольвийской керамики. Материалы IV в. датируются в пределах трех первых четвертей столетия. Среди этих памятников выделяется только Каменское городище, где имеются более поздние находки. Интересно, что в курганах, расположенных поблизости от Каменского городища (они не вошли в выборку), также представлена античная керамика, только конца V — IV вв. (Рассамакин, 1987; Тощев, 1989).
Основным источником по данному вопросу является амфорная тара, в том числе и клейменная и античная столовая посуда, обнаруженные в скифских курганах. Они позволяют выяснить круг центров, товары которых импортировались в Днестро-Дунайское междуречье, и во многих случаях дают возможность конкретного исследования основных потоков товаров и хронологию его развития. Наиболее изученными оказались могильники, расположенные в Подунавье и Поднестровье, а также поселения и города Нижнего Поднестровья. Торговля скифов с античным миром материковой Греции, Средиземноморья и Причерноморья осуществлялась через посредство таких городов, как Тира и Никоний, а также, возможно, и через поселения типа Пивденного, где обнаружено очень много фрагментов античных амфор (до 80%).
Исследование амфорных клейм из скифских захоронений [51] IV—III вв. до н. э. показало, что основное число клейм принадлежит Гераклее Понтийской. Значительно более редки клейма Фасоса, Синапы и Херсонеса. Наиболее информативны гераклейские клейма, среди которых встречены экземпляры с одним именем, с двумя именами без предлога ЕПI и с предлогом и анэпиграфные. Находки клейм разных хронологических групп в одних комплексах позволяют датировать основную массу скифских памятников достаточно узко — первыми четвертями IV в. до н. э. (находки фасосских, синопских и херсонесских клейм подтверждают это) и полагать, что основная масса скифского населения покинула Днестро-Дунайское междуречье после похода Зопириона.
Так как скифские памятники V в. до н. э. и III—II вв. до н. э. очень редки, то говорить о достаточно значительном присутствии скифов можно только для IV в. до н. э. Таким образом, экономические отношения между кочевниками и античным миром имели достаточно устойчивый характер только в IV в. до н. э. Косвенно это подтверждается и тем фактом, что сельские поселения, возникшие в IV в. до н. э. в Нижнем Поднестровье, через которые в определенной степени происходил торговый обмен со степью, прекращают свое существование в начале III в. до н. э. Следовательно, все говорит о резком сокращении греко-варварской торговли в III в. до н. э., что отличает этот регион от Нижнего Побужья.
Находки одинаковых клейм в одних и тех же комплексах говорят о том, что товары к скифам попадали целыми партиями. Кроме товаров в амфорной таре к ним поступала чернолаковая посуда из Аттики и Малой Азии, украшения и другие предметы. Греко-скифская торговля строилась на основе натурального обмена. Подтверждением этого может служить неразвитость монетной чеканки, почти полное отсутствие античных монет на поселениях и скифских памятниках.
Если к скифам в значительных объемах поступало вино и оливковое масло, о чем говорят многочисленные находки амфорной тары, столовая посуда, металлические изделия, в том числе ювелирные, ткани, то взамен греки получали из Днестро-Дунайского междуречья скот, кожи и другие продукты скотоводства. Представляется, что зерно от скифов не поступало, так как мы не знаем оседлых скифов в этом регионе, да и климатические условия создавали возможности для земледелия только вблизи водоемов, где находились эллино-варварские поселения.
Трудно судить о том, какой была организация торговли между греками и скифами. Вероятно, она регламентировалась [52] определенными договорами и проходила под надзором соответствующей коллегии агрономов, если операции имели место внутри городских стен Тиры или Никония. Но предполагается, что торговля могла происходить и на торжищах вне их, на поселениях Нижнего Поднестровья и других мест, чему есть ряд косвенных подтверждений.
В целом для торговых отношений между греками и скифами в Днестро-Дунайском междуречье характерна достаточная непродолжительность во времени. Кроме того, если в других регионах скифы поставляли значительные объемы зерна, здесь же они ограничивались продуктами скотоводства.
Одним из важнейших аспектов международных отношений в бассейне Черного моря в древности были контакты в сферах культуры и религии. В последнем случае подобные контакты часто приводили к созданию синкретических культов. Одним из ярчайших примеров религиозного синкретизма считается культ, так называемого местного верховного женского божества, которое в азиатской части Боспора, якобы почиталось под эллинизированным именем Афродиты Aпатуры, и в котором, якобы, слились представления о греческой Афродите и некоем синдо-меотском верховном женском божестве. При этом само собой предполагается, что факт существования подобного божества у синдо-меотов давно доказан и не вызывает никаких сомнений. Посмотрим, какие для этого привлекаются аргументы.
Прежде всего отметим, что нет ничего загадочного в самой эпиклезе Афродиты — Апатура, которая, скорее всего, происходит от названия общеионийского религиозного праздника, символизировавшего единение фратрий. Впрочем, следует указать, что других примеров в античном мире, когда праздник Апатурий связывался с культом Афродиты, нам не известно, он всегда имел отношение либо к культу Зевса, либо Афины (Paus. II, 33). Несомненно, подобный факт требует своего объяснения, и, возможно, оно заключается в том, что культ Афродиты был особенно популярен в среде [53] первых греческих переселенцев, осваивавших этот регион.
Далее многие исследователи чуть ли не главным доказательством существования у синдо-меотов культов верховного женского божества и (бога-всадника считают изображение на золотой пластине IV—III вв. до н. э. из Мерджан (Иванова, 1954; Артамонов, 1961; Блаватский, 1964; Онайко, 1976; Анфимов, 1977). Однако, как показывают многочисленные аналогии эллинистического времени из Малой Азии и позднее первых веков н. э. с территории Боспора, подобные изображения призваны были символизировать идею героизации умерших и никакого отношения к вышеназванным культам не имеют. Эта же группа исследователей для доказательства своей точки зрения о существовании у синдо-меотов культа верховного женского божества пытается использовать изображение на золотой пластине от женского головного убора из кургана Карагодеуашх.
Прежде всего отметим чисто эллинский, а не местный, варварский стиль изображений на пластине. В верхнем ее ярусе, скорее всего, изображена богиня судьбы Тюха, в среднем — показана колесница, запряженная двумя лошадьми, ими управляет возничий, в котором можно видеть Гелиоса или Нику. В центре нижнего яруса на троне сидит богиня, в которой как раз и видят верховное синдо-меотское божество. По бокам от нее сидят двое юношей, еще двое персонажей стоят сзади.
Следует подчеркнуть, что подобные сюжеты были характерны для эллинских погребальных и меморативных памятников, объединенных идеей апофеоза умерших. Особенно популярны они были в то же самое время, т. е. в IV в. до н. э., в Малой Азии, что может указывать на влияние скорее каких-то малоазийских представлений, чем местных, варварских.
То же самое можно сказать и про изображение с двумя противостоящими всадниками на оковке ритона из кургана Карагодеуашх, которое со времен М. И. Ростовцева (1913) часто связывали с культом бога-всадника, который якобы существовал у синдо-меотов. Однако аналогичные сюжеты хорошо известны в эллинистическое время в Малой Азии и позднее на Боспоре и отражают не что иное, как идею героизации умерших.
He имеет никакого отношения к культу верховной синдо-меотской богини и изображение змееногой богини с отрубленной человеческой головой в руке, происходящее из кургана IV—III вв. до н. э. близ ст. Ивановской (Анфимов, 1977; Шауб, 1987). Такие же изображения известны в скифском [54] кургане Куль-Оба Керчи и в склепе эллинистического времени № 1012 в Херсонесе. Анализ показывает, что они имеют иконографию Кибелы, а отрубленная голова в руке, видимо, призвана символизировать связь с заупокойным культом. Нельзя относить к интересующему нас культу и лепные идолообразные статуэтки, встреченные на некоторых меотских городищах — Елизаветинском и Роговском 1, Пашковском 6 и др. Они становятся известны достаточно поздно, вероятно только с рубежа нашей эры. Примерно в то же самое время почти аналогичные по типу статуэтки отмечаются у тавров, на сельских поселениях Боспора и несколько раньше у скифов, под влиянием которых они, скорее всего, и распространились практически по всей территории Северного Причерноморья. Предположительно, они могли иметь различные функции: выполнять роль апотропеев, служить изображениями домашних божеств, предков и т. п.
Этим и исчерпываются все «доказательства» в пользу существования у синдо-меотов культов верховного женского божества и бога-всадника, которые при ближайшем рассмотрении оказываются или сильно натянутыми, или неправильно истолкованными. Насколько нам позволят судить известные к настоящему времени материалы, их религиозные представления были гораздо более примитивными и выражались в различных анимистических верованиях, обожествлении сил Природы, тотемизме, почитании культа предков. Определенное распространение у них имели различные виды магии.
С началом греческой колонизации Северное Причерноморье становится органической частью древнегреческой ойкумены, прочно связанной с малоазийскими и средиземноморскими центрами, в первую очередь, торговыми связями. В системе отношений этого рода важным компонентом являлось местное северопричерноморское скифское население. Археологическими свидетельствами интенсивнейших греко-скифских связей, помимо всех прочих сравнительно более редких категорий, являются массовые находки греческих [55] амфор в скифских курганах и на поселениях (Онайко, 1970). В процессе исследований скифских курганов последних лет открываются новые комплексы амфор (Брашинский, 1980), которые по обстоятельствам находки (закрытые комплексы) являются неоценимым подспорьем в разработке хронологии амфорного клеймения различных центров (Виноградов, 1974).
В 1988 г. Орджоникидзевская экспедиция ИА АН Украины под руководством Б. Н. Мозолевского проводила раскопки скифских курганов к юго-востоку от г. Орджоникидзе, близ железнодорожной станции Чертомлык. (Курган Чертомлык расположен в 20 км северо-восточнее.) Все скифские курганы ко времени раскопок были распаханы и практически не выделялись в рельефе. Имеются сведения о том, что при строительстве орошаемой системы на этих полях в прошлом, была предпринята планировка курганного поля.
Особый интерес среди исследованных представляет курган № 8, высотой 0,2 м. Курган окружал кольцевой ров диаметром 41 м, судя по которому первоначальная высота насыпи могла составлять около 2-3 м. Курган содержал основное небогатое захоронение воина с набором наступательного вооружения, совершенное в яме с подбоем весьма значительных размеров, и впускное разграбленное женское погребение, где наряду с типично женскими вещами присутствовало и оружие — наконечники стрел.
Во рву кургана в основном возле перемычек, особенно возле западной, содержались остатки мощной тризны, связанной с воинским захоронением. Она состояла из фрагментов амфор, чернолакового аттического килика-канфара, обломков каменного блюда и костей животных. В составе тризны также обнаружены пращевой камень и наконечник стрелы. Часть тризны уничтожена при распашке. Возле перемычек рва остатки тризны имели вид сплошных вымосток из частей амфор (целые донные части, горловины с ручками, крупные фрагменты стенок), изредка перемежавшихся конскими черепами и отдельными костями животных. В синхронности всех находок из рва сомнений нет, поскольку все фрагменты амфор, чернолакового сосуда и каменного блюда, найденные на различных участках рва и на разной глубине, склеились в единые изделия.
В общей сложности во рву найдены профилированные части 34 амфор. Кроме того, целая амфора найдена и в захоронении воина. Из фрагментов всего восстановлено 13 целых форм. По центрам производства амфоры распределяются следующим образом: 23 гераклейских (66%), 7 хиосских [56] колпачковых (20,3%), 2 фасосских биконических (6%), 1 типа Солоха 1 (3%), 1 с рюмкообразной ножкой (3%), 1 неизвестного центра (3%).
На 14 гераклейских амфорах или их частях сохранились энглифические клейма II и III групп, по И. Б. Брашинскому. Имелись ли клейма на остальных гераклейских амфорах, сказать трудно, поскольку не сохранились те части горловин, на которые они обычно наносились. Ряд клейм нанесен одним штампом. Клейма содержали имена магистратов Бакха и Амфита, фабрикантов Аполлония, Артемона, Мюса и Гиалоса. По данным Б. А. Василенко, магистраты Бакх и Амфит, а также фабриканты Аполлоний и Артемон, входят в число ранних, действовавших не позднее начала второй четверти IV в. до н. э. (Василенко, 1974).
Обе фасосские амфоры имели на ручках рельефные прямоугольные клейма с эмблемами рыбы (или дельфина) и собаки с надписью по 4 сторонам. Время существования клейм данного типа приходится на первую половину IV в. и ограничивается 340/335 гг. до н. э. (Виноградов, 1974; Гарлан, 1988). Чернолаковый канфар по форме и штампованному орнаменту по материалам Афинской агоры датируется третьей четвертью IV в. до н. э. Однако, судя по находкам из Олинфа, изделия такой формы и орнаментации широко бытовали еще в первой половине IV в. до н. э.
Совокупность всех данных свидетельствует о датировке амфорного комплекса из кургана у г. Орджоникидзе в пределах второй четверти IV в. до н. э.
Археологические данные свидетельствуют, что в пределах 1-й половины (трети) III в. до н. э. в Северном Причерноморье происходили события, коренным образом изменившие ситуацию в этом регионе. В это время исчезают скифские курганные могильники, прекращается жизнь на Каменском городище, столице степной Скифии, на скифских поселениях Нижнего Поднепровья, прекращают существование или погибают сельские поселения и усадьбы на хорах греческих государств от Поднестровья до Европейского Боспора. [57]
Поиски причин названных явлений привели исследователей к разным реконструкциям и гипотезам. Согласно первой из них — наиболее ранней и распространенной — причиной прекращения жизни названных выше памятников явилась сарматская экспансия на запад, в результате которой территория степной Скифии была подвержена катастрофическому разгрому. В свою очередь скифы, теснимые пришельцами, обрушились на греческие государства региона, подвергнув их хоры полному разорению (Мачинский, Щеглов, Брашинский, Марченко). Согласно другой модели причины резкого изменения ситуации в Северном Причерноморье кроются в резком изменении климата в регионе (Полин). Высказывалось также мнение, согласно которому причины кризиса в Северном Причерноморье в первой половине III в. до н. э. определялись внутренним состоянием собственно скифского общества как общества кочевников (Домавский).
На наш взгляд, каждая из названных версий достаточно уязвима. Гипотеза о сарматском вторжении в Скифию в III в. до н. э. не находит археологического подтверждения. Самые ранние памятники к западу от Дона датируются временем не ранее второй половины II в. до н. э. (Симоненко). Против этой модели развития событий свидетельствует и характер прекращения жизни на скифских поселениях и городищах: до сих пор нигде на памятниках, подвергавшихся раскопкам, нет никаких следов разрушений или пожарищ, вызванных вражескими нападениями. Кроме того, вызывает сомнение тезис о единовременной гибели всех памятников на хорах греческих государств. Так, например, внимательный анализ и сопоставление материалов памятников ближней (на Гераклейском полуострове) и дальней (в Северо-Западном Крыму) хоры Херсонеса показывает, что жизнь на последних прекратилась 10-15 годами раньше.
Климатический фактор (например, многолетние засухи) могли привести к определенным подвижкам в скифском обществе. Однако факт резкого потепления в Северном Причерноморье в рассматриваемое время — не более чем вероятная гипотеза, против которой свидетельствует, например, вполне благополучное существование поселений хоры греческих государств Северного Понта, прекращение жизни на которых было вызвано, очевидно, варварской угрозой, а не изменениями климата.
На наш взгляд, наиболее перспективно усматривать причины рассматриваемых явлений во внутреннем развития скифского общества. Однако в настоящее время следует, по-видимому, признать, что проблема причин кризиса в Северном [58] Причерноморье в III в, до н. э. в полной мере остается открытой. Решающее значение на пути ее решения может сыграть уточнение верхних дат для отдельных греческих и скифских памятников, а также выяснение характера прекращения жизни на них.
Открытие новой древнегреческой колонии на территории акрополя Елизаветовского городища поставило на повестку дня вопрос об отождествлении этого памятника с одним из известных нам по литературной традиции населенных пунктов Боспора. На пути достижения этой цели в первом приближении, по-видимому, вполне возможны сразу 2 различных решения.
Наряду с давно известной и, казалось бы, хорошо утвердившейся точкой зрения, согласно которой здесь, в дельте Дона в III в. до н. э. находился остров Алопекия, «имеющий смешанное население» (Шелов, 1970), в последние годы довольно быстро сформировалось и получило заметное распространение и другое представление, увязывающее вновь обнаруженный памятник и его окрестности с неким безымянным городом и так называемой Псоей, разделенной в конце IV в. до н. э. боспорским царем Евмелом на земельные участки для тысячи переселенцев из дорийского Каллатиса (Федосеев, 1992; 1993).
Вместе с тем анализ используемых в обоих построениях нарративных источников, главным образом справки Страбона (XI, 2, 3) и сообщения Диодора Сицилийского (XX, 25), не выявляет сколь-либо значительных преимуществ ни одной из указанных локализаций, поскольку в первой из них (остров Алопекия) содержится предельно точное определение местонахождения этого поселения («на расстоянии ста стадий») перед Танаисом (ср., Ptol., III, 5, 6), но не вполне ясна его хронологическая привязка, а во второй (город и так называемая Псоя) — все обстоит как раз наоборот.
При отсутствии каких-либо иных письменных свидетельств, способных так или иначе устранить возникшие трудности с отождествлением, единственно доступным способом скорректировать наши представления является привлечение независимых данных палегеографии района Елизаветовского [59] городища и материалов археологии самой греческой колонии для последующего сопоставления наиболее надежных фактов и наблюдений с информацией, содержащейся в соответствующих отрывках из трудов Страбона и Диодора. Априори необходимо заметить, однако, что предварительные результаты такого синтеза в силу принципиального различия первоисточников и фатальной неполноты наших знаний вряд ли могут иметь абсолютную ценность и к тому же несомненно требуют дополнительного ранжирования. Немаловажным факторам, существенно затрудняющим принятие окончательного решения, оказывается, наконец, и то обстоятельство, что и сами-то конкретные сообщения античных авторов во многом отличаются друг от друга по своим интерпретационным возможностям.
В этом отношении свидетельство Диодора, на первый взгляд, кажется наиболее предпочтительным и, очевидно, предоставляет в руки исследователей достаточно обширную базу для проведения сопоставлений с данными археологии. Возникшая на его основе новая локализация Псои включает в себя целую серию разного рода специфических признаков греческого поселения на территории Елизаветовского городища, в том числе: время и форму выведения колонии, ее первоначальный облик, размеры и количество поселенцев, особо тесные торговые связи с дорийским Херсонесом и т. д. (Подробнее см., Федосеев, 1992; 1993) Все дело, однако, состоит в том, что большая часть этих «оригинальных» черт уже изначально не может быть признана в качестве определяющей. Отмеченные совпадения и соответствия информации различных уровней затрагивают в значительной мере лишь наиболее общие, вторичные или даже малосущественные характеристики памятника. За рамками разработки фактически полностью осталось наиболее важное — этнокультурный состав населения и, разумеется, базовая функция колонии.
Оценивая теперь надежность локализации Псои в низовьях Дона под указанным углом зрения, мы, исходя из информации, содержащейся в сообщении Диодора, вправе ожидать, что археологические материалы вновь открытого памятника однозначно зафиксируют нам наличие здесь в конце IV — начале III в. до н. э. следов вполне гомогенной, т, е. греческой в своей основе культуры и обитателей, главной сферой хозяйствования которых являлось пашенное земледелие. В действительности все обстоит совершенно иначе.
Как показывает анализ соответствующих данных, колония уже с момента своего основания имела смешанное население. Более того, в составе ее жителей, по всей видимости, [60] было гораздо больше выходцев из варварской среды, нежели этнических греков. На это прямо указывает факт присутствия в керамическом комплексе памятника необычно большого, в сравнении с аналогичными показателями малых городов Боспора, количества лепной посуды — до 70-80% обломков без учета амфорной тары. Эти же данные вполне надежно свидетельствуют и в пользу того, что экономической основой жизнедеятельности насельников дельты Дона этого периода, как, впрочем, и более раннего времени, продолжали оставаться рыболовство и торговля. Указанное положение дел существенным образом затрудняет безоговорочное принятие недавно предложенного варианта отождествления Псои и как минимум требует поиска дополнительных аргументов в его пользу.
Несколько более обнадеживающие результаты на этом фоне дает рассмотрение локализации острова Алопекия. Несмотря на то, что справка Страбона явно проигрывает своей информативностью в сравнении со свидетельством Диодора, нельзя не заметить, что она наилучшим образом сочетается с материалами палеогеографии и археологии нового поселения в дельте Дона. Единственным камнем преткновения в данном случае до сих пор остается лишь сомнительная возможность надежной хронологической привязки этого памятника к письменному источнику. Впрочем, даже при учете самых современных и, что совсем не исключено, несколько заниженных датировок клейменной керамической тары, какой-то, по-видимому, крайне незначительный, период сосуществования большой боспорской колонии на территории Елизаветовского городища и раннего Танаиса все-таки фиксируется (Федосеев, 1990). Другое дело, оправданно ли предположение, что его оказалось вполне достаточно, чтобы источнику Страбона было удобнее вести свой отсчет местонахождения Алопекии от относительно менее крупного, если не сказать крошечного, поселения греков, каковым, по всей видимости, в начале III в. до н. э. являлся Танаис?
Одной из интересных находок последних лет в Ольвии является комплекс керамики из подвала эллинистического [61] жилого дома на участке НТС, жизнь которого прекратилась в середине II в. до н. э. В состав комплекса входила разнообразная керамика, главным образом III—II вв. до н. э. Остановимся здесь лишь на части этого комплекса — амфорах, которые дают возможность осветить новую страницу в торгово-обменных отношениях Ольвии позднеэллинистического времени.
Комплекс амфор состоит из характерной для позднеэллинистического импорта тары — это амфоры Родоса, Синопы, Книда, Коса и т. д., датирующиеся III—II вв. до н.э. У стены подвала in situ стояли две амфоры, долгое время называемые в нашей литературе амфорами типа Усть-Лабинских и определяющиеся как греко-италийские. По своим морфологическим признакам амфоры близки типу Е, по Е. Вилл, но отличаются между собой по глине. Одна из них сделана из глины, сходной с родосской, поверхность ее покрыта розоватой обмазкой. Эта амфора, скорее всего, относится к производству керамических мастерских родосского круга. Пожалуй, и по некоторым деталям формы она является переходной от типа Д и Е (по Е. Вилл). Вторая же полностью соответствует описанию испанских амфор этого же морфологического типа. Обе амфоры датируются 1 половиной II в. до н. э. Такие сосуды часто встречались в Ольвии, но испанский вариант среди них не выделялся.
Наконец, особый интерес представляет совсем новый для Ольвии тип амфор, не выделяемый ранее, — это амфора из Карфагена, сходная с экземпляром из Пиццики-Пантанелло (Италия). Фрагменты таких амфор находили раньше в Ольвии, однако они не соотносились с той или иной формой всего сосуда. Теперь удалось определить их как так называемые пунические амфоры — продукция Карфагена 1 половины II в. до н. э.
Определение этих типов амфор позволяет наметить некоторые новые черты в международных связях Ольвии позднеэллинистического времени. Пунические амфоры и, вероятно, испанские поступали в Северное Причерноморье в русле связей с территорией Италии, известных и по другим материалам. В то же время они координируются с другими, хотя и немногочисленными карфагенскими изделиями, известными в Северном Причерноморье с V в. до н. э. (лицевые бусы).
Находки греко-италийских и карфагенских амфор дают возможность получить более расширенное представление о характере отношений Ольвии позднеэллинистического времени с италийским регионом Средиземноморья. [62]
При раокапках квартала XCVI в северо-восточном районе Херсонеса в 1993 г. в южном углу помещения 8, в верхней части заполнения круглой водосборной цистерны, вырубленной в скале, найдена небольшая прямоугольная мраморная плита, размерами 25, 8*17, 4*7,4 см. Плита сохранилась целиком с незначительными сколами по ребрам камня. На длинной торцевой поверхности плиты вырезана трехстрочная древнегреческая надпись, дошедшая до нас без утрат. Высота букв в надписи 10 мм, ширина — от 8,5 до 14 мм. Расстояние между первой и второй строкой 8,5 мм, второй и третьей — 6 мм. Перевод надписи:
|
ХАРМИП, СЫН ПРИТАНА |
|
ПО ИЗВОЛЕНИЮ3) (божеству посвятил) |
|
СЕРАПИСУ, ИЗИДЕ И АНУБИСУ |
Палеографические особенности позволяют датировать надпись серединой III века до н. э.
Судя по конфигурации плиты, ее размерам и характеру обработки боковых граней, она была вмонтирована в каменное сооружение, возможно алтарь, подобно вставкам с надписями на эллинистических надгробьях Херсонеса. Место находки надписи позволяет предположить, что посвященный 3 восточным божествам алтарь был сооружен в III в. до н. э. на расположенном в непосредственной близости от девяносто шестого квартала теменосе эллинистического Херсонеса.
За долгие годы раскопок в Херсонесе накопился достаточно представительный материал, происходящий из эллинистического Египта. Это прежде всего перстни с изображением Птолемеев, специфическая александрийская керамика и т. п. Некоторые богатые погребения эллинистического некрополя Херсонеса по набору погребального инвентаря могут связываться с птолемеевским Египтом. Сопоставление новой надписи — посвящения египетским божествам — с александрийскими находками из Херсонеса позволяет предполагать среди наемников армии державы Птолемеев присутствие выходцев из Херсонеса. С ними, очевидно, следует связывать появление около середины III в. до н. э. в херсонесском пантеоне культа египетских божеств в таком тройственном сочетании. [63]
С 15 августа по 30 сентября 1993 г. в Танаисе проводила первые совместные исследования русско-немецкая группа, основанная Немецким археологическим институтом, Институтом археологии Российской Академии наук, археологической лабораторией Ростовского университета и археологическим музеем-заповедником «Танаис». В ее работе при совместном руководстве Т. М. Арсеньевой (Москва) и Б. Беттгером (Берлин) принимали участие 4 немецких, 18 русских и 2 польских сотрудника.
Задача группы состояла в том, чтобы попытаться найти агору Танаиса и определить, в какой мере город, окруженный варварскими племенами меотов и сарматов, был построен по принципам греческого градостроительства и какое влияние на его развитие с III в. до н. э. по V в. н. э. имели тесные связи и длительные контакты с варварской средой.
Раскопкам в Танаисе предшествовали проведенные в августе научные геофизические изыскания, которые должны были определить место будущих раскопок на городище. Измерения при помощи электросопротивления почвы, выполненные польскими коллегами (К. Мизевич и Т. Гербих) из Института археологии и этнологии Польской Академии наук, показали 2 крупные площади (20*25 и 20*35 м), свободные от архитектуры. Из них, та площадь, которая находится в южной части города и расположена ближе к порту, могла быть возможным местом агоры. Именно здесь были начаты раскопки, в ходе которых был исследован участок площадью 275 м2. Так как повсюду был достигнут материк (скала), можно представить стратиграфию в ее исторической последовательности:
1. Вдоль скалистой ступени, протянувшейся с востока на запад, была сооружена трехступенчатая лестница шириной 8 м со ступенями из крупных каменных квадров. Судя по находкам родосских амфорных клейм, она была возведена в начале II в. до н. э. Самая верхняя ступень представляет собой стилобат. В западной части лестницы было найдено вырубленное в камне ложе для основания колонны. Интерколумний [64] в 1,9 м позволяет реконструировать и 3 колонны, а при уменьшении интерколумния средних колонн до 1,4 м, возможны 4 колонны. Боковые границы лестницы образовывали выступающие резалиты из искусно обработанных орфостатных плит. За ступенью стилобата находится ровная площадь, которая тянется к северу на 5,6 м, скала под ней плоско выровнена. Очевидно, перед нами внутреннее пространство каких-то ворот шириной 8 м, длиной 5,6 м. Северный конец ворот, ведущий к агоре, известен пока только в самом позднем строительном периоде (II—III вв. н. э.). Сооружение (лестница и ворота) было разрушено пожаром, судя по керамическим находкам в I в. до н. э.
2. Вероятно, уже в I в. н. э. сооружение было обновлено. Лестница после незначительного ремонта продолжала существовать, ворота были восстановлены на меньшей площади. От северного конца сооружения сохранилось лишь основание стены широтой 1 м с отверстием для водостока. Внутреннее пространство ворот получило новый пол из утрамбованной глины. В восточной части на верхней террасе вместо коротких резалитов, было возведено крыло достройки пока неизвестных размеров. Все это сооружение было разрушено пожаром. Вся западная часть сооружения перекрыта мощным слоем каменного завала, в котором находилась керамика II—III в.
3. После разрушения, которое соответствует времени разгрома всего города, около середины III в. н. э., следовал длительный отрезок времени, в который поселения не существовало.
4. Около середины IV в. н. э. в районе прежнего сооружения ворот возникли постройки домов, выполненные характерным для Танаиса этого времени способом: на площади предполагаемых построек были устранены завалы прежних слоев до скалы, и даже скала была вырублена для землянки на 30 см. Всего было установлено и частично раскопано 3 дома. У них такие большие площади, что они выходят за пределы раскопа. В стратиграфии и архитектуре возможно различить 3 периода, которые охватывают: первый период — середины IV в; второй период — начало V в.; третий период — середина V в. В первом периоде были сооружены дома В и С в форме полуземлянок, основания которых были врублены в скалу. Обе постройки этого времени после их гибели были обновлены в результате ремонта и продолжали использоваться во втором периоде. Во втором периоде дом В был расширен в северо-восточной части, а дом С значительно расширился на север и был разделен на 3 помещения, что указывает [65] на определенный расцвет поселения этого времени. Помимо расширенных построек был сооружен еще и дом А, как новая постройка, который в отличие от домов В и С не был заглублен, а построен на выровненной поверхности завала III в. н. э.
Богатые материалы, встреченные во всех 3 домах этого периода, датируют соружения концом IV — началом V в. Среди керамики очень высока доля лепной, а гончарная большей частью состоит из амфор. И по количеству и по составу этой группы материалов можно заметить большие отличия находок из слоев, принадлежащих сооружению ворот. Проясняются принципиально различные функции строительных сооружений: сначала общественные сооружения (III—II вв. до н. э. — III в. н. э.), а затем район частных жилых построек (IV—V вв.).
Третий период возник только по истечении определенного времени, в которое поселение не существовало. В южной части раскола были найдены остатки 3 построек этого времени крайне плохой сохранности. Сильные отклонения в ориентировке от предшествующих построек первого и второго периодов указывают, что новым жителям не были известны более ранние постройки. Это же можно заметить уже по строениям 2 первых периодов IV—V в. в отношении к старому сооружению ворот. От слоя, принадлежавшего домам третьего периода, из-за современной выборки камня сохранилась небольшая часть. Поэтому более точная датировка, чем в рамках первой половины V в., пока невозможна.
Стены домов первого периода IV—V вв. были построены из каменного материала, извлеченного из слоев предшествующего периода. В развалинах этих стен, которые в ходе раскопок разбирались, найден 21 фрагмент надписей на мраморных, известняковых и песчаниковых плитах различных размеров и качества, служивших строительным материалом. Следует указать, что эти камни были извлечены из завала III в. н. э. Можно предположить, что все эти надписи раньше были поставлены в районе сооружения ворот. Это было однозначно подтверждено в ходе раскопок слоя завала перед лестницей и на ее ступенях, а также во внутреннем пространстве ворот. Здесь был найден еще 41 фрагмент надписей, из которых некоторые точно подбираются с теми, которые происходят из стен IV—V вв. Речь идет о 62 фрагментах надписей, из них 46 — на греческом языке, и 16 — содержат сарматские тамги. Частота, и отчасти отличное ремесленное исполнение последних свидетельствуют: 1) о высоком уровне образования этой варварской группы населения [66] в городе, которая использовала свою собственную систему знаков письма; 2) об общественном значении представителей этой группы, имевших право поставить свои надписи, которые тогда, вероятно, должна была понимать и греческая часть населения; 3) о праве, данном, очевидно, городским управлением, наряду с греческими надписями, устанавливать свои надписи на предпочитаемом, очень оживленном месте у входа на агору Танаиса, с целью доказательства высокого общественного положения этой категории населения.
Совокупность мест нахождений этих надписей укрепляет нас в предположении, что мы открыли место входа на агору в ее важной части — в районе ворот. Кстати, если уж район входа был так богат надписями, то на самой агоре можно ожидать еще больше подобных находок, прежде всего официальных документов города и Боспорского царства.
Одним из самых значительных результатов раскопок нового общественного участка Танаиса явилось открытие целой коллекции монументальных эпиграфических памятников, число которых только за один раскопочный сезон составило 35 (для сравнения, начиная с 60-х годов, систематические раскопки и случайные находки в городе принесли не более двух десятков лапидарных надписей). Новонайденные эпиграфические документы произвели подлинный переворот в наших представлениях об истории Танаиса, прежде всего дополемоновской эпохи, поскольку впервые за многие десятилетия археологических изысканий этого античного центра в распоряжение науки поступила внушительная серия из 6 (т. е. более четверти от общего числа) эллинистических лапидарных памятников. Все они, за исключением одного, высечены на местном известняке.
Среди них бесспорно выделяется декрет конца III — первой половины II в. до н. э., изданный от имени демоса, что позволяет, по всей видимости, подвести черту в дискуссии об обстоятельствах основания города в устье Дона и составе контингента его колонистов, отдав предпочтение версии Д. Б. Шелова. Он считал, что это была не колонизационная акция Спартокидов, но предприятие индивидуальной группы боспорских купцов, и что Танаис утратил свой политический суверенитет едва ли не раньше инкорпорирования Боспора в панпонтийскую державу Митридата Евпатора. Постановление вырезано на постаменте статуи, нижнюю профилированную полочку которого занимают 3 строки почетной эпиграммы.
Не менее важны в историческом плане 2 надписи (одна — почетная стела, другая — на базе статуи), высеченные, с [67] максимальной степенью вероятности, в честь царицы Динамии, что позволяет поставить вопрос о роли внучки Митридата в судьбах Танаиса, возродив гипотезу М. И. Ростовцева об ее оппозиционной Полемону деятельности на Азиатском Боспоре, а также вновь вернуться к сложной проблеме разгрома города танаитов. Одна из упомянутых надписей, наряду с 3 вотивными, впервые однозначно регистрируют деятельность в эллинистическом Танаисе религиозных фиасов, почитавших Аполлона и появившуюся здесь боспорскую богиню Афродиту, владычицу Апатура, которой посвящена мраморная стела со сложной рельефной композицией во фронтоне, украшенном вместо антефиксов фигурками сфинксов.
Гораздо значительнее в количественном отношении серия из 27 высеченных исключительно на мрамоpe эпиграфических документов постполемоновской эпохи, добрая половина которых приходится на годы правления Савромата II (174—210) и Рескупорида II (211—226), т. е. на последний период функционирования монументальных ворот агоры (?); некоторые надписи этого времени, упавшие при разрушении комплекса с его стен, были найдены в раздавленном состоянии in situ. Наиболее значительным в историческом аспекте представляется тот факт, что самые ранние лапидарные памятники римской эпохи как из новой коллекции, так и из находок минувших лет, относятся ко времени не ранее правления Савромата I (93—123), когда Танаис, по наблюдениям Д. Б. Шелова, возрождается как урбанистический центр по планировке римского лагеря и обносится оборонительными стенами. Только столетие спустя, после Полемонова разгрома возрождается, вне всякого сомнения, и нормальная общественная, религиозная и экономическая деятельность полиса, получившего при этом от боспорского царя особый политический статус, как то доказывает первый пока на Боспоре декрет императорской эпохи в честь сына Матиана, внесенный по предложению «прэдров Совета танаитов, что на Боспоре». При Савромате I в Танаисе воздвигаются наиболее монументальные, великолепно исполненные почетные и вотивные эпиграфические памятники на мраморе, 2 из которых украшены рельефами с изображением Кибелы и увенчиваемого Никой воина в полной паноплии.
Из прочих категорий выделяется многочисленная, как всегда, в Танаисе, группа актов фиаситов (8), 3 строительных надписи, одна из которых прямо называет раскрываемый объект воротами, а также эпиграмма неопределенного содержания. [68]
Есть твердая надежда на то, что дальнейшие археологические изыскания на участке XIX подарят науке новые, важные для истории Танаиса и Боспора в целом эпиграфические документы.
Танаис был основан в III в. до н. э. и, по словам Страбона, являлся «самым крупным после Пантикапея торжищем варваров». В ранний период существования Танаиса (III—I вв. до н. э.) греческая керамика поступала сюда главным образом из городов Боспора. На основании анализа соотношения амфорных клейм из разных центров, а также по некоторым другим косвенным данным можно с достаточной уверенностью предполагать, что основные торговые связи в этот период осуществлялись через Фанагорию.
Для II—III вв. н. э. — времени расцвета города — пока трудно установить перевес того или иного боспорского центра в торговле с Танаисом, можно говорить лишь о дальнейшем увеличении объема торговли и об установлении некоторых сухопутных торговых связей, проходивших помимо Боспора. Через степь, очевидно, поступали в Танаис стекло, изделия из бронзы. В римский период прослеживаются интенсивные связи Танаиса с северокавказским регионом. Эти взаимоотношения устанавливаются главным образом по находкам разнообразной серолощеной посуды, производство которой там было налажено.
В IV—V вв. н. э., несмотря на явное сокращение объема торговли, в Танаис продолжают поступать амфоры, краснолаковая посуда, в меньшей степени — стекло. Краснолаковая посуда представлена теми же формами, которые характерны для керамики IV—V вв. в других античных центрах; на ней отсутствуют клейма, нет и крестов, получивших распространение во второй половине V—VI вв. н. э. Амфорной керамики значительно меньше по сравнению с предшествующими веками, но, центры, ее поставляющие, достаточно широко представлены. В этот период почти отсутствует боспорская амфорная тара, но продолжают поступать светлоглиняные амфоры, связываемые с южнопонтийским центром [69] производства. Некоторые амфоры имеют аналогии в памятниках на Балканском полуострове и в Средиземноморье. Большинство же центров неизвестны. Менее ясны связи Танаиса в этот период с северокавказским регионом. Постоянно встречаются в слоях IV—V вв. обломки серолощеных сосудов, украшенных валиками, налепами и пролощенными полосами, происхождение которых пока точно не установлено. Однако в этот период прослежены интенсивные связи с районами распространения черняховской культуры.
Таксила — столица древнего государства Гандхара в Северо-Западной Индии. Это государство входило в состав Ахеменидской державы и сыграло важную роль в истории культуры эллинистического Востока (Ильин, 1958). Во II—I вв. до н. э. Таксила была захвачена номадами, пришедшими с севера. В литературе их называют сако-парфянами или скифо-парфянами. Широкомасштабные раскопки на 3 городищах — развалинах древних городов в Таксиле, и особенно на городище Сиркап (площадью более 100 га), провел известный английский археолог сэр Джон Маршалл, который в 1902—1928 гг. возглавлял археологическую службу Индии. За 21 сезон (1913—1934 гг.) в Сиркапе была вскрыта огромная площадь и собрана большая коллекция разных предметов в сако-парфянских слоях (II в. до н. э. — I в. н. э.). Дата хорошо обоснована по находкам более 7000 монет и импортных изделий. Сводный труд Д. Маршалла в 3 томах вышел в свет в 1951 г.
Таксила является наиболее изученным индийским городом эллинистического периода. В собранных материалах имеются чужеземные изделия, в том числе принадлежащие кочевникам. Первым на эти материалы обратил внимание М.И. Ростовцев в известной книге «Звериный стиль в Южной России и Китае» 1929 г. Он выделил в ювелирных предметах ряд параллелей сарматскому звериному стилю. Об этом же, Таксила и кочевники, он писал в рецензии 1942 г. на книгу К. В. Травер. М. И. Ростовцев первым отметил, что сопоставление с украшениями Таксилы позволяет датировать [70] известный Айртамский фриз II в. до н. э. Через 20 лет в 1949 г. автор этих строк проработал все опубликованные ежегодные отчеты Д. Маршалла о раскопках в Таксиле и выявил значительную серию вещей, резко отличающихся и имеющих прямые аналогии в памятниках кочевников Тяньшаня и Алтая.
Эти материалы составили главу 3 моей дипломной работы на тему «Тяньшано-ферганские элементы в сложении кушанской культуры Средней Азии», написанной в 1950 г. под руководством моего учителя А. Н. Бернштама, когда я заканчивал истфак ЛГУ. В отзыве оппонента М. П. Грязнова (4 мая 1950 г.) отмечено: «Совершенно новым, а потому и наиболее ценным в представленной работе является рассмотрение комплекса памятников Таксилы в Северо-Западной Индии. Автору удалось убедительно показать, что культурное воздействие усуней не ограничивалось пределами ближайших среднеазиатских областей Кушанского государства, но распространялось и до крайних южных его границ, до Индии». Вместе с тем он далее пишет: «Ошибочно заключение дипломанта и о том, что усуни якобы привнесли в культуру кушан старые алтайские формы конской сбруи. Более близкие и многочисленные аналогии к удилам, роговым и железным псалиям и к пряжкам из Таксилы находятся на Алтае в памятниках не скифского времени, а современных кушанскому государству и даже более поздних. К сожалению, эти материалы шибинского этапа на Алтае не опубликованы, и поэтому были недоступны дипломанту».
Только в настоящее время я в полной мере осознал правоту ряда высказанных М. П. Грязновым замечаний. Предметы вооружения, конской упряжи и украшений, привнесенные в Таксилу, характерны для культуры кочевников обширной территории Евразии, по крайней мере, от Волги на западе и до Алтая — Тувы на востоке. Необходимо обстоятельное сравнительное изучение этих находок для решения вопроса о принадлежности отдельных изделий конкретному народу.
Относительно даты и значения комплекса Шибе М. П. Грязнов ошибался. Л. Л. Баркова в работах 1978 и 1980 гг. убедительно пересмотрела его датировку. Шибинские материалы не выходят за пределы времени Больших алтайских курганов, т. е. не позднее III в. до н. э. Следовательно, мое положение о хронологическом приоритете алтайских находок остается в силе.
К материалам своего диплома я недавно вернулся и оказалось, что никто [71] этим вопросом не занимался и не обратил внимание на влияние, оставленное номадами на культуру Таксилы. Исключение составляют зеркала сарматского типа, о сходстве которых с находками в Таксиле писали Хазанов (1963), Мошкова (1963), Ставихский (1964), который дополнительно привлек данные по оружию и др. Относительно этих зеркал мне довелось во время командировки в Индию в 1967 г. выявить новые факты, принципиально меняющие наши представления.
Серия кочевнических предметов в коллекции Таксилы разнообразна и многочисленна. Она включает следующие категории:
1. Предметы вооружения: длинные мечи, скобы для подвязывания, короткие мечи-кинжалы с прямым перекрестием и серповидным навершием, части защитного доспеха, наконечники стрел.
2. Предметы конской упряжи: железные удила и псалии, псалии из рога, пряжки.
3. Украшения: железные булавки с навершием в виде фигурки птички.
4. Украшения звериного стиля с инкрустациями, на которые обратил внимание М. И. Ростовцев. Сходство золотых браслетов с находками в Куль-Обе отметил Дж. Маршалл в своей книге 1951 г.
5. Зеркала. В Таксиле найдено 28 сарматских зеркал 2 типов (плоский диск с небольшой боковой рукоятью и зеркала с выступающим бортиком и шишкой в центре). Большая часть их найдена в составе кладов возле дворца и Главного храма, т. е. в престижных частях города. Аналогичные зеркала я обнаружил в Индии еще в 3 пунктах. Всего мною учтено 35 находок (Заднепровский, 1993).
Все рассмотренные предметы материальной культуры являются чужеземными для индийского населения Таксилы и несомненно появились в результате юечжийского завоевания страны, участие в котором принимали представители разных кочевых племен Центральной Азии. Набор предметов вооружения, конской упряжи и украшений — наиболее выразительных элементов культуры и быта кочевого населения, отражает устойчивость этнокультурной традиции номадов, обосновавшихся в Таксиле, и являют свидетельства достаточно сильного влияния, оказанного ими. [72]
В фондах Анапского археологического музея хранится небольшая коллекция античных монет, найденных в 1968 г. восточнее с. Су-Псех Анапского района, в Андреевской щели при строительстве дамбы пруда. Как выяснилось, грунт для отсыпки дамбы брался с расположенного рядом античного поселения, в 1991 г. обследованного археологическим отрядом Анапского музея и получившего название Андреевская щель 1.
Среди обычных для античных поселений района Анапы медных монет боспорской чеканки в составе коллекции имеется медная херсонесская монета типа:
|
Л. с. Голова Девы вправо |
|
|
О. с. Орел на молния, слева монограмма |

|
|
Под молнией ХЕР |
|
А. Н. Зограф (1951) датировал выпуск монет этого типа 70—60 гг. до н. э. Аналогичную дату (около 70—63 гг. до н. э.) предлагает для них и В. А. Анохин (1977), определяя их номинал как тетрахалк.
По наблюдениям Д. Б. Шелова (1965), находки херсонесских монет на Боспоре более чем редки, хотя на существование связей между Херсонесом и Боспорским царством практически на всем протяжении античного периода указывают частые находки в Херсонесе боспорских монет, а на Боспоре — предметов херсонесского производства.
Для восточных районов Азиатского Боспора, где расположено поселение Андреевская щель 1, наличие связей с Херсонесом подтверждается находками херсонесских амфор в Горгиппии (Монахов, 1989), свинцовой гири херсонесской, весовой системы, обнаруженной на Раевском городище (Чуистова, 1962).
70—60 гг. до н. э. — время, когда и Боспор и Херсонес входили в состав Понтийской державы Митридата Евпатора. Это обстоятельство несомненно способствовало упрочению политических и экономических связей между этими государствами, очередным свидетельством которых и является находка херсонесской монеты на поселении в Андреевской щели. [73]
Современная периодизация и хронология истории племен сарматской культуры была разработана Б. Н. Граковым (Граков, 1947) и затем уточнена К. Ф. Смирновым и М. Г. Мошковой (Смирнов, 1947; Мошкова, 1963). Эта схема была построена на материалах, имевшихся в распоряжении исследователей к началу 60-х годов, и привязана к хронологии памятников Прикубанья и Северного Причерноморья. В последние годы рядом исследователей предпринимались попытки уточнить временные рамки раннесарматской культуры, в первую очередь ее верхней границы (Костенко, 1931; Полин, 1984; Симоненко, 1989, 1992; Скрипкин, 1988, 1990, 1992). Они вызвали возражение М. Г. Мошковой, которая является сторонницей традиционной хронологии сарматской культуры (Мошкова, 1989). Пересмотр хронологической схемы развития сарматской культуры происходит в духе миграционистской концепции, согласно которой при смене одной культуры (или этапа) другой большая роль отводится перемещениям кочевого населения из глубин Азии на Запад. В частности, приход на смену раннесарматской культуре среднесарматской знаменовал появление в восточноевропейских степях алан (Скрипкин, 1990, 1992). Миграционная концепция подразумевает существование жестких хронологических рамок, в которые укладываются события, и этот аспект в историко.археологических иследованиях выходит на первый план.
Весьма интересные материалы, имеющие важнейшее значение для выяснения хронологических позиций раннесарматских древностей, были получены при раскопках могильника Петрунино II на Иловле. Здесь в курганах 1 и 4 была исследована серия погребений, которые по традиционной схеме должны датироваться III—II вв. до н. э. Обряд их типичен для раннесарматской культуры. Формы могил — узкие прямоугольные или (в одном случае — яма с заплечиками). Захоронения располагались в кургане кольцом вокруг центрального погребения. Вещевой материал полностью вписывается в комплекс материальной культуры раннесарматского времени. Обращает на себя внимание ажурная бронзовая пряжка со сценой терзания верблюда тигром. Она находит полные [74] аналогии в среднеазиатских кочевнических памятниках последних веков до н. э.
Особое значение имеют находки фибул в петрунинских курганах. В погребении 9 кургана 1 обнаружена железная лучковая фибула, а в погребении 3 кургана 4 найден обломок бронзовой лучковой или прогнутой подвязной фибулы верхнеднепровской серии (второй вариант выглядит предпочтительнее). Обе фибулы датируются I пол. I в. н. э., (Амброз, 1966). Б. Ю. Михлиным в осторожной форме была высказана мысль, что лучковые фибулы появились в конце I в. до н. э. (Михлин, 1980), но следует заметить, что еще никто аргументировано не датировал их ранее рубежа н. э. Таким образом, есть все основания отнести раннесарматские погребения II Петрунинского могильника к первой половине I в. н. э. Помимо них в Поволжье имеются еще несколько комплексов подобного плана. В погребении 2 кургана 7 Быковского могильника была обнаружена сильно коррозированная, но, видимо, лучковая железная фибула (Смирнов, 1960). По всей вероятности, обломок лучковой фибулы содержался в погребении 9 кургана 10 могильника Барановка 1 (Сергацков, 1992). В погребении 6 кургана 5 могильника Солодовка 1 (раскопки Е. П. Мыськова) найдена железная лучковая фибула. Все указанные комплексы несомненно входят в круг раннесарматской культуры. Кроме перечисленных памятников в Волго-Донских степях известно несколько раннесарматских погребений, которые наборами бус датируются или около рубежа новой эры или I в. (Богодушанский Ерик, Петропавловка 1, Бердия, Писаревка, Желтухин). Все эти факты свидетельствуют, что верхняя граница хронологии раннесарматской культуры, вероятно, проходит в первой половине I в. н. э.
Какие соответствия этим хронологическим, выкладкам можно найти в письменных источниках, лежащих за пределами археологии? Круг их ограничен и, как правило, они привлекались в качестве иллюстраций к археологическим данным. Основываясь на сообщении Страбона, исследователи помещают в Волго-Донских степях аорсов. С ними принято отождествлять памятники раннесарматской культуры этого региона (Смирнов, 1974; Скрипкин, 1990). Одно из последних упоминаний аорсов как самостоятельной политической силы Азиатской Сарматии относится к событиям 49 г. н. э., когда они в союзе с боспорцами и римлянами разгромили Митридата VIII и сираков. В связи с этим сообщением возникает парадоксальная ситуация, — аорсы, носители раннесарматской культуры, выступают как активные участники военно-политических [75] коллизий в то время, когда по археологическим данным сама эта культура давно уже прекратила свое существование. Логически обоснованных выхода из нее существует, пожалуй, лишь два. Первый: вернуться к старой периодизации истории сарматских племен, по которой среднесарматский период датируется в пределах конца II в. до н. э. — I в. н. э. Соответственно аорсы являются носителями среднесарматской культуры. Такая датировка не соответствует археологическим реалиям (Скрипкин, 1990, 1992). Второй: признать, что раннесарматская культура продолжает существовать и в первой половине I в. н. э. В этом случае участие аорсов (носителей указанного культурного комплекса) в событиях середины I в. н. э. в Прикубанье вполне обоснованно археологически.
После победы над сираками можно было бы ожидать распространения могущества аорсов на кубанские степи и значительного расширения территории раннесарматской культуры, но этого не произошло, более того, их имя практически исчезает со страниц сочинений древних писателей. Скорее всего это связано с появлением в восточноевропейских степях аланов. В сообщениях античных авторов это событие фиксируется в третьей четверти I в. н. э. М. Б. Щукин в осторожной форме предположил проникновение аланов в Подунавье уже в 61 г. н. э. (Щукин, 1992). Как бы то ни было, выход аланов на историческую арену Восточной Европы вплотную примыкает к сирако-аорской войне и, если принять верхней хронологической границей раннесарматской культуры середину I в. н. э., а к такому выводу на материалах Таврии пришел А. В. Симоненко (Симоненко, 1992), то появление среднесарматской культуры (аланской в своей основе) точно совпадает с данными письменных источников. В этом случае, никакого запаздывания между реальным появлением аланов в восточноевропейских степях и сообщениями о них античных авторов (Скрипкин, 1992) не существует. Последние довольно точно фиксируют новую этнополитическую ситуацию, сложившуюся в Азиатской Сарматии.
Торговые связи Ольвии, восстановленной после гетского нашествия не ранее конца I в. до н. э., возобновляются [76] постепенно. Достаточно спорно мнение Диона Хрисостома, сообщавшего, что, как ему кажется, город был восстановлен по желанию окружавших скифов, нуждавшихся в торговле с эллинами, но не умевших устроить торговое место по эллинистическому образцу (Or., XXXVI), тем не менее оно свидетельствует о важности торговли в экономике Ольвии в I в. н. э.
В это время наиболее интенсивными остаются традиционные для Ольвии связи с малоазийскими и южнопонтийскими центрами: Византием, Синопой, Гераклеей Понтийской, Пергамом, Самосом, возможно, Косом, откуда в Ольвию поступали оливковое масло, вино, краснолаковая керамика, светильники, черепица, изделия из стекла, ткани. Уже с рубежа эр прослеживаются связи с италийскими центрами, поставлявшими в Ольвию в небольших количествах оливковое масло, вино, краснолаковую керамику, светильники, стеклянные сосуды, иногда фибулы и геммы.
С рубежа I и II вв. н. э. немногочисленный италийский импорт сменяется более значительным импортом из западных провинций Римской империи, откуда в Ольвию поступает краснолаковая керамика, светильники, изделия из стекла и металла (в основном, фибулы). В это время, помимо торговых связей с малоазийскими и южнопонтийскими центрами, фиксируется торговля с Аттикой, Восточным Средиземноморьем, Александрией Египетской, а также с античными центрами Северного Причерноморья.
Расцвет торговой деятельности послегетской Ольвии относится ко второй половине II — первой половине III вв. н.э. Этим временем датируются почти все надписи, характеризующие торговые связи Ольвии в первые века н. э. Декрет в честь Феокла, сына Сатира, содержит наиболее полный перечень торговых контрагентов города, это: Никомедия, Никея, Гераклея, Византий, Амастрия, Тий, Пруса, Одесс, Томи, Истрия, Каллатис, Милет, Кизик, Апамея, Херсонес, Боспор, Тира, Синопа (IPE, I2, № 40). Часть этих городов и их жителей упоминается в других надписях этого времени (IPE, I2, №№ 41, 174, 202-205; НО, №№ 51, 101; см. также Яйленко, 1985; Кадеев, 1981).
По археологическим материалам фиксируются также связи с Аттикой, Средиземноморьем, Александрией Египетской. По-прежнему значителен ввоз из малоазийских и южнопонтийских центров, по-прежнему представленный оливковым маслом, вином, краснолаковой керамикой, светильниками, черепицей, мраморными архитектурными деталями и [77] скульптурой, изделиями из стекла, возможно тканями, нефтью. Интенсивная торговля прослеживается с Боспором, откуда могли поступать вино, соленая рыба и соусы, амфорная тара. Усиливаются торговые связи с западными провинциями Римской империи: отсюда в Ольвию ввозятся краснолаковые сосуды, светильники, бронзовые статуэтки, фибулы, изделия из стекла, небольшие колонны и облицовочные плитки цветного и белого мрамора для отделки интерьеров домов.
Помимо римских денариев в Ольвии найдены монеты следующих городов: Тиры, Томи,: Каллатиса, Одесса, Пиринфа, Филиппополя, Филипп, Ассоса, Александрии, Никеи, Тия, Амастрии, Синопы, Кесарии, Херсонеса, а также Боспорского царства (Карышковский, 1965).
После готского разгрома Ольвии в 269—270 гг., жизнь здесь возобновляется не ранее 80-х гг. III в. н. э. Торговые связи восстанавливаются постепенно и далеко не в полном объеме. Находки римских монет здесь известны от времени Диоклетиана (284—305 гг.) до Валента (364—378 гг.). Фиксируются торговые связи с Малой Азией, Боспором, западными провинциями Римской империи, Северной Африкой. Вероятно, происходит некоторая торговая переориентация Ольвии, более важными становятся торговые связи с окружающим ее населением черняховской культуры.
Наиболее точную раннюю локализацию дает Страбон, отметив, что «аорсы, впрочем, живут по течению Танаиса». Аорсов, как, кстати, и сираков, он считал «...видимо, изгнанниками племен, живущих выше» (XI, V, 8). Поселяя аорсов на Дону, Страбон, таким образом, предполагал, что они когда-то пришли в эти места. Сведения об аорсах у Страбона относятся к середине I в. до н. э., ко времени правления Фарнака на Боспоре. Следовательно, аорсы переселились на Дон раньше этой даты. Однако письменные источники не позволяют существенно уточнить время свершения рассматриваемого события.
Этот, казалось бы, частный вопрос для древней истории Дона имеет отношение к решению многих масштабных проблем евразийской истории. В свое время была разработана научная гипотеза о взаимосвязи появления на Дону и в Поволжье [78] прохоровской (раннесарматской) культуры и аорсов. Наиболее полно она была обоснована в ряде работ К.Ф.Смирнова (1964, 1971, 1974, 1984). Дата распространения памятников прохоровской культуры в междуречье Волги и Дона и к западу от Дона постоянно им корректировалась, однако диапазон этих датировок существенно не разнился: вторая половина IV—III вв. до н. э.; конец IV в. до н. э.; рубеж IV—III вв. до н. э. С III в. до н. э. начинается освоение сарматами Скифии.
В настоящее время состояние археологической источниковой базы позволяет уточнить ряд важных ситуационных моментов, имеющих отношение к распространению памятников прохоровской культуры на Дону. Появление в IV в. до н. э. в Подонье дромосных погребальных ям типа Шолоховского кургана; Кащеевки, курган 1; Сладковского, курган 4, а также диагональных погребений (Крепинский II, курган 3; Высочино, курган 17, погребение 3; Житков II, курган 3), несущих определенные восточные инновации, не ознаменовалось здесь оформлением комплекса прохоровской культуры. Не выделены до сих пор на Дону и памятники прохоровской культуры III в. до н. э. Более определённо хронологические ориентиры этой культуры проявляются здесь со II в. до н. э. (Максименко, 1990). С этого времени сарматские памятники достаточно отчетливо выделяются и между Доном и Днепром (Полин, Симонеико, 1990; Полин, 1992).
Ранней дате (рубеж IV—III вв. до н. э.) появления на Дону аорсов, носителей прохоровской культуры, противоречит ряд фактов. Распространение прохоровской культуры в Поволжье и Подонье реконструировалось как довольно крупномасштабное передвижение населения Южного Приуралья на запад, которое привело здесь к смене этнополитической ситуации. Прежнее савроматское население перемещается за Дон и в районы Северного Кавказа, частично ассимилируется пришельцами. Основная масса прохоровских погребений от Заволжья до Дона датировалась III—II вв. до н. э., что должно свидетельствовать о массовости здесь сарматского населения. К этому времени, как считалось, и относится сложение той картины расселения сарматов, которая была впоследствии описана Страбоном. К началу III в. до н. э., как известно, прекращает существование Великая Скифия. Однако, судя по археологическим памятникам, территория, ранее принадлежавшая скифам, сарматами начинает осваиваться более, чем через век (Полин, 1992). Такая ситуация не соответствует представлению о массовости сарматского [79] населения с III в. до н. э. к востоку от Дона.
Серьезные этнические изменения в Подонье скорее всего происходят во II в. до н. э., о чем кроме археологических свидетельствуют и письменные источники. Зафиксированный Плинием переход через Танаис более десятка племен (или племенных объединений) может быть отнесен к событиям II в. до н. э., причем это движение шло с востока на запад. В перечне Плиния отмечены сатархеи, сатархеи-спалеи, тагоры — названия близкие номенклатуре племен, принявших участие во II в. до н. э. в среднеазиатских событиях (Десятчиков, 1973). Сатархи в конце II в. до н. э. были отмечены в эпиграфическом материале Крыма. Все это позволяет наметить путь передвижения отдельных племенных группировок от Средней Азии до Северного Причерноморья. Видимо, с этими событиями связано появление между Доном и Днепром роксоланов, ранняя фиксация которых в этих местах так же относится ко II в. до н. э. (Симоненко, 1991). С этого времени значительно увеличивается сарматское население Поволжья и степных районов Северного Кавказа.
Трудно предположить, что эти передвижения не внесли серьезных корректив в расселение племен на Дону и что этнокарта Страбона без изменений просуществовала с конца IV—III вв. до н. э. по начало нашей эры. Вероятнее всего она сложилась после бурных событий II в. до н. э., связанных с приходом с востока в европейские степи новых контингентов кочевников и освоением ими территорий вплоть до Дуная, после чего наступает период относительной стабилизации, длившийся до начала нашей эры. Именно в это время сатархи обосновались в Крыму, роксоланы — в степях между Доном и Днепром, аорсы — в Подонье, верхние аорсы — в Северном Прикаспии, сираки — на Кубани. В начале нашей эры начавшаяся новая подвижка сарматского мира на запад к границам Римской империи по Дунаю привела к значительным изменениям в расселении народов в восточноевропейском степном ареале.
По мнению, некоторых венгерских исследователей (Мочи, 1954), сарматы мигрировали в Алфельд 5 разновременными [80] «волнами»: в I, начале II (103—104 гг.), в конце II (70-е–80-е гг.), середине III, конце IV вв. н. э. Этнически первые 2 «волны» связываются с языгами, третья и четвертая — с роксоланами, пятая — с аланами. Основанием для выделения волн послужили письменные и в меньшей мере — археологические источники.
Обсуждаемый вопрос дискуссионен по 2 причинам: сложность идентификации довольно однообразных по инвентарю археологических памятников Причерноморья с определенными сарматскими племенами и неразработанность до последнего времени дробной хронологии венгерских сарматских памятников. Однако в последние годы в направлении решения этих проблем сделаны определенные шаги. Одним из них следует считать гипотезы об отождествлении сарматских погребений Северного Причерноморья II в. до н. э. — первой половины I в. н. э., ориентированных в северном секторе, с роксоланами, в южном — с языгами (Симоненко, 1991). В пользу предложенной идентификации говорит совпадение археологических признаков с данными античной традиции, а также доминирование ориентации в южном секторе в Алфельде, несомненно населенном языгами (Кульчар, 1993).
Позиция сторонников ранней (20-е гг. I в. н. э.) даты переселения языгов в Алфельд (А. Мочи, Я. Харматта, М. Пардуц) не подкрепляется комплексом данных. Письменные источники впервые аттестуют языгов на Венгерской равнине в связи с войной 50 г. (Тацит). Это хронологически совпадает с исчезновением данных о них, как обитателях Северо-Западного Причерноморья (Мела, Плиний Старший), установлением там доминирования ориентации в северном секторе и соответственно появлением сведений о роксоланах. Наиболее ранние из твердо датирующихся памятников Алфельда (Сегед-Фельшепустасер, Ходьмезевашархей—Фехерто, Уйсилваш и др.) содержат фибулы второй половины I в. н. э. Таким образом, сочетание перечисленных фактов устанавливает время, исходную территорию и племенную принадлежность первой волны мигрантов на Венгерскую равнину.
Вторая волна (103—104 гг.) связывается с вытеснением языгов Децебалом из Олтении. Археологических данных об обитании сарматов (в т. ч. и языгов) там до провинциализации Дакии нет (Бикир, 1977). Сведения Диона Кассия, на которых базируется эта гипотеза, касаются языгов Алфельда, напавших на Дакию, а не обитавших там. Какие-либо изменения в археологических памятниках Венгерской равнины [81] этого времени, которые свидетельствовали бы о приходе нового населения, не отмечены.
Они появляются лишь в памятниках конца II в. н. э. и находят соответствия в сарматской культуре Северо-Западного Причерноморья. Это распространение традиции украшения нижней части одежды бусами, обычай окружать могилы круглыми или квадратными рвами (Тисакурт, Тероксентмиклош, Лайошмиже, Кишкунфеледьхаза и др.), появление курганного обряда погребения и могил с ориентацией в северном секторе (Хевиздерк) (Кульчар, 1991; 1993; Симоненко, 1993). В сочетании с данными античной традиции об обитании роксоланов вплоть до конца II Маркоманнской войны к востоку от Дакии этот комплекс признаков позволяет предположить, что вторая волна мигрантов в Алфельд с востока связана с роксоланами и относится ко времени после 180 г., поскольку одним из условий мирного договора этого года было разрешение языгам сноситься с роксоланами через Дакию, т. е. последние еще не жили на Венгерской равнине.
Сообщение о нападении роксоланов на Паннонию в 260 г. считается доказательством наличия еще одной волны мигрантов. Следует отметить, что напасть могли и те роксоланы, которые уже обитали в ту пору в Алфельде. Не исключено, правда, что с этой волной может быть связано возникновение курганных могильников Хортобади, хронология которых до конца не разработана.
В конце IV — V вв. по смене типов вещей и некоторым деталям погребального обряда отмечается последняя гунно-аланская волна, а на северо-востоке Венгрии одновременно проявляются ощутимые германские элементы (Иштванович, Кульчар, 1992).
Как общую проблему, требующую своего объяснения, следует назвать феномен отсутствия в Альфельде камерных могил (подбоев и катакомб), являвшихся характерной чертой погребального обряда племен Причерноморья, представители которых мигрировали на Венгерскую равнину в III—IV вв.
Интерес к взаимоотношениям Таврики с Римом в первые вв. н. э. возник в середине — конце XIX в., когда начались [82] раскопки античных городов на юге России, таких как Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Харакс. Исследования по этой теме продолжаются по сей день, но до сих пор история пребывания римских войск в Северном Причерноморье, и в частности в Таврике, выяснена крайне слабо. Наш доклад акцентирует внимание на характере римской оккупации Херсонеса, на системе римских укреплений вокруг города в свете новейших археологических открытий.
Впервые четкую концепцию в разработке этого вопроса развил М. И. Ростовцев. Он выдвинул тезис о создании римлянами Таврического лимеса аналогичного Рейнскому, Дунайскому, Британскому, Сирийскому (Ростовцев, 1900; 1902; 1911). В советской историографии эту тему пытались осмыслить Дьяков (1930, 1939, 1941), Репников (1941), Гриневич (1947), Блаватский (1938, 1951). Все они видели систему укреплений римлян лишь в окрестностях Ай-Тодора, ошибочно относя к ней часть средневековых укреплений южнобережья. Лишь Гриневич предположил наличие такой системы в окрестностях Херсонеса.
В последние годы по вопросу Таврического лимеса высказан ряд гипотез (Шелов, 1981; Кадеев, 1981; Буйских, 1989; Зубарь, 1990). Делались попытки проследить систему укреплений первых вв. н. э. вокруг Херсонеса (Щеглов, 1965; Высотская, 1972; Николаенко, 1979; Блаватский, 1985; Буйских, 1989; 1991; Зубарь, 1990 и др.). Но все это были лишь гипотезы без реальной археологической основы.
Новейшие археологические открытия и архивные изыскания дали возможность по-новому взглянуть на проблему Таврического лимеса, в общих чертах восстановить систему римских укреплений и принцип ее устройства.
После военной акции Плавтия Сильвана в 60-х гг. I в. н. э. римляне оставляют гарнизоны в Херсонесе и других пунктах округи (1. Halk, 1934). Спорным остается вопрос о непрерывности пребывания римлян в Херсонесе. Ясно одно, что неурядицы внутри империи и войны с варварами к I в. вынудили римлян или сократить численность войск в Таврике или вывести их вообще. Херсонес на некоторое время попадает в зависимость от Боспора. Но уже при Адриане-Антонине Пие римляне возвращаются на полуостров. Они ремонтируют старые, возводят новые укрепления, строят дороги, водопроводы.
Херсонес становится центром всех северопричерноморских вексиляций. Вокруг города римляне создают сеть укреплений наподобие лимеса. В городе находится военный трибун и [83] триерарх (Ростовцев, 1900). Второй крупной базой римлян стал пункт в предместье современной Балаклавы (Савеля, Филиппенко, 1992). Балаклавская бухта, как и гавань Херсонеса, могла использоваться римлянами для стоянки военных кораблей. Косвенные данные и материалы разведок дают основание предполагать существование римского укрепления в верховьях Михайловской балки на северной стороне Севастополя (Стржелецкий, 1948).
Край Гераклейского п-ва над Инкерманской и Балаклавской долинами является естественным барьером на подступах к Херсонесу. По краю полуострова и гребню Семякиных высот римляне разместили сторожевые посты. Похоже, 2 таких поста отмечал Дюбуа де Монпере на Сапунгорском плато в районе г. Кара-Агач. В 1925 г. Л. Н. Соловьевым на горе Суздальской обнаружены развалины, напоминающие остатки поста. В 1991 г. на соседней горе Казацкой открыты остатки аналогичного объекта —четырехугольной башни, окруженной стеной с примыкающими изнутри к ней хозяйственными помещениями (Савеля, Филиппенко, 1991). Пост на Казацкой, особенно в паре с постом на Суздальской, надежно контролировали проход на Гераклейский полуостров в его северо-восточной части через Каменоломенный овраг. Линия сторожевых постов, видимо, шла и по гребню Семякиных высот, прикрывая подходы к Симболон-лимен. Возможно, остатки поста находятся на вершине высоты Виноградная, крайней к Сапунгорскому плато из Семякиных высот. Следующий мог быть расположен на соседней высоте Араб-Табиа.
Главный проход на Гераклейский полуостров со стороны Балаклавы римляне защитили, поставив в его тылу укрепления на высоте Безымянной (Савеля, Филиппенко, 1992). Вокруг крепости выросло значительное поселение. Укрепление на Безымянной, как и крепость в предместьях Балаклавы, (совр. Кадыковка) погибло от пожара в середине III в. н. э.
Кризис Римской империи и усилившийся в начале III в. натиск варварских племен вынудили, в конечном итоге, вывести римлян свои войска из Таврики, хотя в Херсонесе еще некоторое время мог оставаться небольшой гарнизон.
За время пребывания на полуострове римляне создали здесь разветвленную систему укреплений с чертами классического лимеса, но окончательно осесть в Таврике они не смогли. [84]
Морские грабительские походы варваров второй половины III в. н. э. затронули практически все побережье Черного моря. Согласно сообщению Зосимы (автора второй половины V в.), исходным пунктом похода 255 г., открывшего серию морских экспедиций, явился Боспор (так автор называет античный Пантикапей — столицу Боспорского царства). По свидетельству Зосимы, «недостойные» люди, пришедшие к власти на Боспоре, предоставили варварам корабли, на которых были осуществлены два рейда к Фасису (255 г.) и Трапезунду (257 г.). Под «недостойными» людьми следует подразумевать царей, не имевших отношения к династии Тибериев Юлиев, что подтверждается данными нумизматики и эпиграфики (В. Ф. Гайдукевич). Проблематична этническая принадлежность участников походов. Ряд историков приписывают их скифским племенам (Зосим, писатели истории Августов), однако термин «скиф» лишен этнического смысла и выступает как синоним понятию варвар Северного Причерноморья. В сообщениях авторов поздней античности (Плиний Секунд, Трибеллий Поллион, Юлий Капитолин, П. Г. Депсипп, Филосторгий, Синезий) можно проследить применение этнонима «скиф» для обозначения германских племен, в этот период чаще других напоминающих набегами Римской империи о себе. Именно германские племена следует видеть в участниках рейдов. Скорее германским является загадочное племя боранов, названное Зосимом инициатором первых походов. Таким образом, события 255—257 гг. н. э. приводят к проникновению на территорию восточной части Крымского полуострова нового этнического компонента — германского.
Заслуживает внимания сообщение Г. Синкела (автора VIII в.) о рейде 267—268 гг. Его участники — германское племя герулов (Синкелл), либо готы (автор панигирика 310 г. в честь Константина Августа), переправились на 500 судах через Меотиду и Понт к устью Истра. Иное, западное направление похода 267—268 гг. показывает возможность проникновения германских племен на территорию Крымского полуострова со стороны Южного берега. Возможно, именно с этим событием следует связывать появление [85] Ай-Тодорского и Чатыр-Дагского могильников с трупосожжением.
Завершает серию морских походов варваров экспедиция 275 г. Согласно сообщению Флавия Вописка Сиракузского (IV в.) многие варвары выступили от Меотиды под предлогом оказания помощи римским войскам в Персидской войне. Однако, как и предыдущие рейды, этот поход стал обыкновенным пиратским набегом на Понтийскую область. Авторы называют участников этих событий скифами (Зонара), боспорскими скифами (Зосим), либо просто меотидами (Ф. В. Сиракузский). Возможно, речь идет о местных примеотийских племенах. Согласно письменной традиции это сарматы (Птолемей) и аланы (Птолемей, А. Марцеллин, Амвросий). Отметим, что победа императора Тацита над варварами, участвовавшими в походе 275 г., отразилась в легендах монет Victoria Gothica (H. Cohen). Данный рейд следует отнести на счет коалиции сармато-аланских и германских племен. Такой состав участников был характерен для многих варварских движений второй половины III в. н. э. Так, в шествии во время триумфа императора Аврелиана (270—275 гг.) Ф. В. Сиракузский упоминает вместе идущих сарматов, аланов и готов.
Морские походы 255—257, 267—268 и 275 гг. имели для истории Крымского полуострова особое значение. Именно с ними следует связывать проникновение на территорию полуострова новых этнических элементов—германцев (готов, герулов, боранов) и примеотийских сармато-аланов, ставших в эпоху средневековья основным компонентом Крымского этноса.
В послегуннское время наиболее яркие следы культурных контактов приходятся на период до принятия обоими этносами православия в X в. В это время известны заимствования из аланской языческой иконографии и терминологии. Они объясняются давними традициями аланского искусства, берущими начало еще в блестящих памятниках донской Алании рубежа I—II в. н. э., и облегчались подчинением групп обоих этносов тюркоязычным кочевникам (аварам, хазарам), их непосредственным [86] соседством в Лесостепи.
Первую группу заимствований у ранних славян составляют ювелирные изделия с языческой культовой символикой.
1. Композиция из пляшущего человечка в анфас с двумя хищниками по сторонам, изображенными в профиль. В VI—VII вв. такие аланские композиции известных на Северном Кавказе (г. Кагуль и станица Преградная). Тогда же близкая сцена представлена в Мартыновском кладе 1909 г., где на вещах изображена серия тамг сармато-аланских типов. Очевидна и некоторая переработка аланского сюжета мастерами Мартыновского клада (крылья и некоторые конские черты у хищников, специфический декор рубахи человечка).
2. Ажурный рязанский (?) золотой браслет XII в. хранится в музеях московского Кремля (Бочаров, 1987). Это ажурный шарнирный браслет с рубчатой полоской по краям. Центр композиции представляет ряд фигур из двух спаренных полукружий с завитками внутрь на концах. Наиболее близкой аналогией является браслет I—II вв. н. э. со Средней Кубани (армавирская покупка 1904 г. в Эрмитаже).
3. В составе «антского клада» VII в. с поселения Хутор имеются оловянные бляшки с центральным овалом и двумя трапециевидными выступами по краям, декорированными рубчиками (Горюнова, 1987). Прототипы этих бляшек (из золота) известны еще в VI—V вв. до н. э. у савромато-исседонов Нижней Волги (с. Новопривольное, Ровенского р-на Саратовской обл.) (Максимов, 1976) и у сарматов Прикубанья рубежа н. э. (хут. Песчаный) (Ждановский, 1990).
Аланские заимствования известны и в ритуальной вышивке русского Севера, на что обращал внимание еще В. А. Городцов.
1. Всадник скачет вправо, замахивается плетью (русско-карельская вышивка); (Косменко, 1977). Прототип известен еще на бляшках из сакского кургана Тенлик III—II вв. до н. э. в Семиречье, с I в. н. э., после миграции аланов в Европу — на уникальном, пантикапейском надгробии второй половины I в. н. э. Перигена, сына Асклепиада (Давыдова, 1990) и на надгробии аланского дружинника II в. н. э. в римском лагере Честер (Британия) (Сулимирский, 1960). В последнем случае плеть гипертрофированно велика. Видимо, это изображение аланского бога-громовика Элии — Уациллы с «громовой плетью».
2. Стоящая богиня и подъезжающий справа всадник (Городцов, 1926). В данном случае, через аланское осредничество дошел позднескифский вариант сцены, где богиня [87] именно стоит (надгробия I—III вв. н. э. из Марьино и «Чайки» в Крыму).
Славяне заимствуют имена божеств (Хорс, Семаргл), обряд погребения с конем (Калоев, 1964). Многими исследователями отмечается влияние на русский древнего аланского «нартского» эпоса.
В XI—XIII вв. взаимодействие православной Алании с православной же Русью проявилось в распространении некоторых форм энколпионов (Кузнецов, 1984) и серебряных мирниц, форма которых идет еще от аланских туалетных сосудиков I—III вв. н. э. (Шелов, 1966).
В контексте сказанного понятна и легко объяснима роль, которую сыграли выходцы из Алании при дворе владимирских князей второй половины XII в., заимствование из аланского языка ряда слов (например, «шелк») и др.
Контакты славян с кочевниками северопричерноморских степей VI—X вв. н. э. являются одной из важнейших проблем средневековой истории. Как письменные, так и археологические источники этого времени свидетельствуют о разнохарактерных связях славянского и кочевнического населения. Далеко не все вопросы этой проблемы близки к разрешению, но особую важность приобретает изучение славяно-болгарских отношений, сыгравших ведущую роль в истории раннесредневековой Дунайской Болгарии.
Славяно-болгарские отношения в VI—VII вв., очень слабо отраженные источниками, не нашли еще подробного освещения в литературе. К середине VI в. степи Северо-Западного Причерноморья были заняты племенным союзом болгар-кутригуров; к востоку от них, вплоть до Дона располагались кочевья родственным кутригурам утригуров. На всем расстоянии от Днепра до Дуная владения кутригуров граничили с территорией, занятой антами. В Днестровско-Прутском междуречье эти народы также соприкасались между собой.
Отношения между болгарами-кутригурами и славянами-антами носили различный характер. Иногда объединение [88] славян и болгар-кутригуров способствовало созданию довольно прочных военных союзов. Образование таких военных союзов представляло большую опасность не только для балканских провинций империи, но часто и для самой столицы — Константинополя.
Однако не только совместной борьбой против Византии характеризуются славяно-болгарские контакты в VI—VII вв. н. э. Эти контакты были многообразны и охватывали различные стороны экономической и культурной жизни соседних племен. Кутригуры, проживавшие неподалеку от балканской границы Византии, большие других болгарских племен испытывали на себе влияние византийской культуры. Очевидно, уже в середине VI в. кое-где начался процесс оседания болгар на землю. Косвенно об этом может свидетельствовать указание на то, что бежавшие от утригуров кутригуры во главе с Синнием были расселены Юстинианом «...в местечках Фракии» (Прокопий из Кессарии).
Поселения болгар VI—VII вв. в Днестровско-Прутском междуречье пока неизвестны, но несомнено, что они в этой области обитали и возможно даже жили со славянами чересполосно или на одних и тех же поселениях. Об этом в определенной мере свидетельствует гончарная посуда серого цвета, украшенная лощенным и углубленным орнаментом так называемого пастырского типа. Полагают, что она принадлежала кутригурам. Такая керамика найдена в Поднепровье, Побужье и в Днестровско-Прутском междуречье. т. е. вдоль всей границы славяно-болгарских контактов. Если эта керамика попадала к славянам в результате обмена, то несомненно с тех поселений болгар, которые находились в непосредственной близости к славянским поселениям.
Следует полагать, что как в это, так и в более позднее время на некоторых поселениях проживало и смешанное болгаро-славянское население. В этой связи заслуживает особого внимания Пастерское городище, где подобная керамика встречена в значительном количестве. Кроме того, исследованы славянские и алано-болгарские комплексы. Гунно-болгарское влияние наблюдается и в распространении в среде славян новых видов снаряжения и вооружения (сложный лук, трехлопастные наконечники стрел, удила и т. д.). О возможном болгарском влиянии можно также судить и по керамической пластике, найденной на славянских поселения Молдовы.
В VIII—IX вв. славянская культура в регионе унифицировалась и представлена однородной культурой типа Луки-Райковецкой. В этническом отношении памятники этой культуры [89] в Днестровско-Прутском междуречье принадлежат восточным славянам и по летописным данным и другим письменным источникам могут быть отнесены к летописным тиверцам. Следует отметить, что и в этот период на славянских поселениях встречается столовая салтоидная керамика, изготовленная в прежних традициях. Она также распространяется из болгарских поселений, расположенных в непосредственной близости к славянским местам обитания. Это подтверждает и материал с поселения у с. Богатое Измаильского района Одесской области. Облик керамики и других категорий находок позволяет отнести это поселение именно к алано-болгарскому кругу древностей и считать его одним из центров распространения салтоидной керамики в рассматриваемом регионе.
К концу IX в. в регионе складываются две культуры, носителями которых были оседлые племена. Одна из них, древнерусская, распространенная в северной части междуречья. Другая, балкано-дунайская, локализуется в центральной и южной части региона. Надо заметить, что четкой границы между ними не было, а наблюдалась инфильтрация поселений.
Балкано-дунайская культура, вероятнее всего, была этнически неоднородна, но наиболее отчетливо в ней прослеживаются славянские и салтовские (болгарские) этнические черты. Изучение этих памятников в регионе позволяет считать славянские памятники типа Луки-Райковецкой одной из составляющих балкано-дунайской культуры. Особенно это относится к памятникам так называемой контактной зоны.
Существующие точки зрения на балкано-дунайскую культуру различны и часто не совпадают, особенно в вопросах ее этнической принадлежности. Согласно наиболее распространенной из них она является культурой Первого Болгарского царства, а распространение ее в регионе объясняется экспансией Первого Болгарского царства в период наивысшего расцвета. Эта точка зрения имеет достаточно оснований. Однако, нам представляется, что славяно-болгарские отношения складывались задолго до образования Первого Болгарского царства и не только в Северо-Восточной Болгарии. Территория Днестровско-Прутского междуречья, особенно его южная часть, т. е. Днестровско-Дунайский регион, является той зоной, где не только наблюдались контакты названных народов, но и происходило складывание культуры балкано-дунайской, т. е. Первого Болгарского царства, [90] вследствие чего эта территория могла попасть и под политическое влияние Первого Болгарского царства.
Таким образом, в Поднестровье не новые пришельцы, выходцы из придунайских областей Первого Болгарского царства вступили в контакт с восточнославянским населением, а данная территория являлась зоной длительных и постоянных контактов болгар со славянами и вследствие этого — зоной первоначального складывания балкано-дунайской культуры.
В середине VII в. степи Нижнего Дона были завоеваны хазарами, ставшими господствующей силой в степях Восточной Европы. В середине VIII в. изменяется политическая обстановка в степи и, возможно, происходит перераспределение ролей между группами населения хазарского каганата (Семенов, 1991; 1993). Об изменении обстановки в степях Нижнего Дона в середине VIII в. помимо нумизматических материалов, могут свидетельствовать также данные картографирования памятников. В ранний период (середина VII — первая половина VIII в.) хазарские комплексы сконцентрированны на территории Дона и Сала, имевшей важное значение для кочевников-хазар, так как здесь находился перекресток степных коммуникаций. Данную группу погребений отличает богатство погребального обряда, что свидетельствует о высоком ранге погребенных (Копылов, Смоляк, 1988). Начиная с середины VIII в., хазарские памятники широко распространяются на территории Нижнего Дона. Следует отметить, что за пределами междуречья Дона и Сала обнаружены наиболее поздние из известных, хазарские погребения середины VIII в. с монетами. Хазарские погребения середины VIII — IX вв. уступают по богатству погребениям предшествующего периода (Семенов, 1991). Комплексы этого времени разбросаны по большой территории (низовья Маныча, правый и левый берег Дона, Средний Дон). Различие в характере распространения на Нижнем Дону хазарских памятников раннего и позднего периода может свидетельствовать об изменении путей кочевания хазар. Перемещение основной массы памятников за пределы междуречья Дона и Сала, возможно, является результатом потери контроля [91] над этой территорией, а следовательно, и контроля над степными коммуникациями. Очевидно, это связано с изменением военно-политической ситуации в степи в середине VIII в., что привело к потери господствующего положения в каганате хазар, кочевавших на Нижнем Дону.
Письменные источники отражают лишь общий ход событий, происходивших в период середины VIII — начала IX вв. К этому времени хазары потерпели поражение в войне с арабами, в это же время начинается процесс иудаизации, завершившийся в начале IX в. принятием верхушкой каганата иудаизма и гражданской войной. Для изучения этой проблемы необходим комплексный анализ данных письменных источников и данных археологии, приобретающих важное значение.
Хазары были неоднородны. Арабские источники сообщают о «черных» и «белых» хазарах. По мнению Л. Н. Гумилева, такое деление было религиозно-этническим. Он выделяет иудео-хазар и тюрко-хазар, соответствовавших «белым» и «черным» (Гумилев, 1989). Исходя из того, что памятники хазар на Нижнем Дону имеют черты, сходные с тюркскими (Семенов, 1989; Власкин, Ильюков, 1990), а также учитывая предложенное Гумилевым деление хазар, можно предположить, что эти памятники оставлены «черными» хазарами. В междуусобной войне, начавшейся после принятия верхушкой каганата иудаизма, они приняли активное участие, выступив против мероприятий центральной власти.
Во второй половине VIII в. строится правобережное Цимлянское городище, являвшееся ставкой одного из болгарских ханов, зависимого от хазар (Артамонов, 1962). В VIII в. строится Семикаракорское городище (Флеров, 1973). Скорее всего, оно построено силой, являвшейся оппозиционной центральной власти. Расположение крепости на местности улучшало ее оборону, но мешало выполнению функций торгового или военно-административного центра. Семикаракорское городище построено из необожженного кирпича, а по хазарским обычаям из обожженного мог строить только каган. Эти обстоятельства также могут служить подтверждением предположения о постройке крепости силой, оппозиционной центральной власти. Также маловероятно, что в VIII в. на западных рубежах Хазарии были силы, способные угрожать настолько, чтобы у правительства Хазарского каганата возникла необходимость строить крепость в этом регионе. К тому же, здесь сконцентрировано большинство памятников середины VIII — IX вв. Хазары, жившие на Нижнем Дону и потерявшие в середине VIII в. лидерство в [92] каганате, могли быть этой оппозиционной группой, построившей свою крепость.
В первой трети IX в. гибнет правобережное Цимлянское городище. В 30-х гг. IX в. правительство Хазарии строит Саркел, по мнению М. И. Артамонова, гибель правобережного Цимлянского городища связана со строительством Саркела (Артамонов, 1962). Вполне вероятно, что прекращение жизни на Семикаракорском городище связано с этими событиями. Исходя из имеющихся данных, можно говорить, что выступившее против мероприятий центральной власти население Нижнего Дона терпит поражение к 30-м гг. IX в. Эти события по времени совпадают с гражданской войной в Хазарии, предпосылки которой начали складываться еще в середине VIII в., а главные события, судя по письменным данным, развернулись в начале IX в. Противоборствующими сторонами были «черные» и «белые» хазары, а это могло отразиться в названии крепостей Саркел и Семикаракоры: «Белый дом» и «Крепкая черная крепость» (Плетнева, 1976).
Среди вещественных памятников, отражающих историю Тмутараканского княжества, особое место занимают вислые печати. Сохранились моливдовулы, которые принадлежали двум братьям Святославичам — Роману и Олегу, княжившим в Тмутаракани.
1. Свинцовая печать, найденная под Киевом в 1928 г., была известна уже Н. П. Лихачеву. На лицевой стороне она несет погрудное изображение св. Романа Сладкопевца. На обороте помещена греческая надпись: «Господи, помоги рабу своему Роману». Надежно обоснованная атрибуция печати выполнена В. Л. Яниным (в Корпус древнерусских булл она включена под № 36). По общепринятой ныне классификации сфрагистических памятников домонгольской Руси данный образец входит в группу булл греко-русского типа. Отнесение печати князю Роману Святославу Тмутараканскому [93] (упоминается в летописи с 1077 г., убит половцами в 1079 г.) В. Л. Янин аргументировал наблюдениями типологического, иконографического и конкретно исторического характера.
2. Свинцовая печать, место и время находки которой неизвестно, опубликована Я. Бенеску в 1941 г. На лицевой стороне печати — изображение архангела Михаила в рост. На обороте — греческая легенда: «Господи, помоги Михаилу, архонту Матрахи, Зихии и всей Хазарии». Дискуссия вокруг этой буллы завершилась отнесением ее князю Олегу-Михаилу Святославичу и к периоду его пребывания на Тмутараканском столе (1083—1094 гг.). Детальный и всесторонний анализ обнаружившихся при этом опорных моментов провел В. Л. Янин, давший затем однозначную атрибуцию памятника (№ 29 по Корпусу). Правда, позднее предлагалось (Гадло, 1988) приписать данную буллу князю Ростиславу Владимировичу Тмутараканскому (1064—1067 гг.). Но гипотеза эта осталась слабо аргументированной. Недавно была опубликована другая разновидность буллы той же принадлежности, где греческая надпись дана в краткой форме: «Господи, помоги Михаилу Матрахскому» (Берг, 1985; ср. Сотникова, 1987, с ошибочным чтением сфрагистической легенды).
Известная свинцовая печать византийской аристократки Феофано Музалон, жены Олега-Михаила Святославича, которая привлекла внимание многих исследователей (№ 30 по Корпусу, опубликованы два непаспортизированных экземпляра), относится, судя по всему, не к тому периоду, когда Олег правил в Тмутаракани (примерно с 1073 по 1076 г. он княжил на Волыни, а в 1078 г. и с 1094 г. до самой смерти в 1115 г. — в Чернигове).
Типологически с выявленными достоверно печатями тмутараканских князей связаны серебряные монеты с поясным изображением архангела Михаила и русской надписью: «Господи, помоги Михаилу» (известны 4 экз.), происходящие из находок в Тамани и Керчи. Данная монетная эмиссия, осуществленная Олегом-Михаилом Святославичем, вероятнее всего сразу после вокняжения его в Тмутаракани (Молчанов, 1982), носит отчетливо прокламативный, политически демонстративный характер.
К числу печатей тмутараканских князей, причислялись одно время (Лихачев, 1928, 1930) буллы с погрудным изображением св. царя Константина и греческой надписью «Господи, помоги рабу своему Константину» из находок в Киеве, Смоленске, Рязани, близ Самбора и под Очаковым (№ 32 и № 33 по Корпусу). В них предлагалось видеть печати [94] Мстислава-Константина Владимировича Тмутараканского. Следует, правда, заметить, что даже в рамках этой гипотезы логичнее было бы относить их к периоду княжения Мстислава не в Тмутаракани (988—1024 гг.), а в Чернигове (1024—1036 гг.). Однако позднее указанная атрибуция была оспорена и изменена (Янин, 1970).
Малое количество сохранившихся экземпляров древнерусских княжеских актовых печатей середины X—XI вв. (начиная с моливдовула Святослава Игоревича) заставляет думать об их употреблении главным образом для скрепления наиболее важных государственных документов, то есть о связи этих булл преимущественно со сферой дипломатических отношений. К таковым атрибутам внешней политики относятся, надо полагать, и рассмотренные выше сфрагистические памятники, связанные с деятельностью владетелей Тмутараканского княжества, бывшего важным элементом системы межгосударственных отношений в бассейне Черного моря в XI в.
|
|
«Названия изменяются быстро, когда какой-либо местностью овладевают иноплеменники с чужим языком. Их органы речи часто коверкают названия, и в таком виде они переносят их в свой язык…» |
|
|
Абу Рейхан Бируни |
Современные названия рек в Северо-Восточном Приазовье и Нижнем Подонье отражают историю включения частей разновременных и разноязычных топонимических систем в систему географических наименований Российского государства. Заимствование иноязычных топонимов имеет свои закономерности, среди которых едва ли не важнейшей является значимость такого объекта на чужой территории.
Дон. Традиционно этот гидроним как ираноязычный относят к эпохе господства скифов и сарматов в Северном Причерноморье,и сопоставляют с названием реки, известной у античных авторов как Танаис (Соболевский, 1918). На наш взгляд, восприятие названия Дон относится к не столь [95] отдаленному периоду. Значимость этой реки как ориентира, торгового и военного пути была осознана во время сложения древнерусского государства, а название перенесено из языка аланов (ясов) северо-западной окраины Хазарского каганата. В русскоязычную топонимическую систему гидроним Дон попал не ранее VIII в. независимо от античной географической традиции, с которой на Руси едва ли знакомы были до принятия христианства. Отметим, что, по мнению академика Б. А. Рыбакова, первоначально в Древней Руси под Доном подразумевалось течение Северского Донца и нижнее течение собственно реки Дон.
Тюркоязычные гидронимы составляют как бы скелет названий гидрографической сети нашего региона. Многочисленность тюркских наименований рек объясняется особенностями заселения приграничья Русского государства казаками: топографией казачьих городков, занимающих пойменные участки и острова; ведущей ролью в ранний период казачьей истории водных путей; относительно небольшим числом казаков по отношению к татарскому населению. Не случайно, в донские говоры входят тюрские слова, обозначавшие лодку и весла, породы рыб и т. д. Даже наименование реки Кагальник переходит в донской разговорный язык в одном из значений как «родник с очень холодной водой» (Словарь русских донских говоров. З-П. Т. 2, 1976).
Время сложения самой системы тюркских гидронимов скорее всего можно отнести ко времени установления господства половцев в южно-русcких степях, которые в дальнейшем составили основу населения и в государстве Золотая Орда.
Точки отсчета для наименований, используемые кочевниками, не всегда точно воспринимались русскоязычным населением: так мы знаем несколько рек с названием Самбек (часть из них с прилагательными «сухой», «мокрый»), не менее четырех рядом расположенных рек с названием Еланчик (также промаркированы прилагательными «мокрый», «грузский» и дважды «сухой»). Очевидно, что зачастую передавалось не название реки, а обозначение территории кочевий той или иной группы. Аналогичная ситуация описана А. В. Суперанской для Крымского полуострова (Суперанская, 1985).
XVIII в. можно охарактеризовать как время топонимического «взрыва». Переход казаков к землепашеству, распространение системы помещичьего землевладения, основанной на переселении русских и украинских крестьян на Дон; начавшееся еще в XVII в. расселение калмыков; «дарование» земель [96] в Приазовье грекам и армянам — все это создало мозаичную картину географических названий. Монгольские гидронимы откладываются не только на левобережье Дона, но и в районе кочевий калмыков к северу от Новочеркасска в верховьях р. Грушевки: Аюта, Атюкта и т. д. Греки и армяне, переселенные из Крыма, приносят новую волну тюркизмов...
Своеобразно распространяются и русские гидронимы, которые, вклиниваясь в междуречье Чира и Северского Донца, дают характеристику освоения лесостепной полосы: реки Березовая, Ольховая, Дубовойчик, Ореховая и т. д. Но если на севере нашего региона русские наименования стирают предшествующие пласты речных имен, то южнее, в низовьях Дона и в Приазовье они как бы прикрепляются к тюркским, маркируя мелкие притоки и балки: например, левые притоки Тузлова — Крепкая, Грушевка; левый приток Кагальника — Белая и т. д.
Этот вид изделий (тюркское название симобкузача) входил в ассортимент множества центров производства керамики мусульманского (и христианского тоже) мира. Следовательно, вид «сфероконусы» входит во многие группы, количество которых пока не определено. Отчасти это связано с особенностями самого источника: во-первых, торговцы активно перевозили сфероконусы из одного города в другой; во-вторых, потребительские качества сосудов требовали особого обжига и состава сырья (к счастью, это соблюдалось не везде). Отчасти — с не вполне адекватной реальности направленностью исследований. Огромное количество литературы посвящено сфероконическим сосудам, причем основная мыслительная нагрузка неизбежно сводилась к определению их функций (подробную библиографию см.: Джанполадян, 1982). Это привело к значительной трудности объяснения выпадения их в культурных слоях. (Ситуация приблизительно такая же, как если бы исследователи ожесточенно спорили о назначении древнегреческих амфор, но не имея на них клейм с названиями городов, находили [97] сосуды крупных центров в Европе, значительной части Азии и Северной Африке).
К счастью, данные письменных источников и этнографии позволили доподлинно установить, что основным их назначением было хранение и перевозка ртути и ее препаратов (Джанполадян, 1982). Лишь изредка приходится сталкиваться с рецидивами определения их как «бомб» (Rosser, 1985). Второстепенным могло быть их иcпользование как химической посуды более широкого профиля (Волков, 1991).
Из этого следуют несколько умозрительных заключений:
1. Массовое производство сфероконусов должно было существовать там, где есть месторождения ртути (или содержащих ее пород, или ядовитых ископаемых).
2. Из таких пунктов сосуды должны были расходиться по всему миру.
3. В пунктах, не имеющих таких месторождений, сфероконусы могли делать в качестве химической посуды, а не тары.
4. В таких местах находки однотипных сосудов должны локализоваться более компактно.
В Золотой Орде было несколько районов, где однотипные сосуды распространены только на ограниченной территории. Азак к числу таковых не относится. Очевидно, что в этих местах делали собственные сфероконусы в качестве химической посуды широкого профиля. Такие сосуды обладают набором признаков, характерных для местной керамики.
Сфероконусы специфических форм производили в Волжской Булгарии (Хованская, 1954). Они сделаны из характерных для местной керамики формовочных масс и в подавляющем большинстве случаев покрыты лощением по красному ангобу. (Мне удалось посмотреть коллекцию сфероконусов из раскопок в Болгарах, хранящуюся в ГИМе.) Наибольшее распространение в Укеке имели красноглиняные сфероконусы без лощения с особенно крутым профилем плечиков (Волков, 1991). Видимо, их делали именно в этом городе. Возможно, какой-то из городов Восточного Крыма (скорее всего Каффа) также имел свое небольшое производство сфероконусов с углубленным штампованным орнаментом. Судя по формовочным массам, оттуда происходят две азовские находки. Возможно, небольшое количество сфероконусов делали в Сарае. Мне известен только один сфероконус, сделанный из характерной для Селитренного городища формовочной массы с надписью  [98] (хранение: Астраханский музей, № 16248). В Маджаре существовало производство сфероконусов из местной желтой пористой глины с ограниченным количеством углубленных орнаментов от выпуклого штампа (Кравченко, 1986). Предметы этих групп не имели широкого распространения за пределами городов-производителей.
[98] (хранение: Астраханский музей, № 16248). В Маджаре существовало производство сфероконусов из местной желтой пористой глины с ограниченным количеством углубленных орнаментов от выпуклого штампа (Кравченко, 1986). Предметы этих групп не имели широкого распространения за пределами городов-производителей.
Кроме того, существует несколько групп сфероконусов, встречающихся повсеместно. Среди них выделяется одна наиболее массовая. Это сероглиняные или черноглиняные сосуды с орнаментом из каплевидных оттисков вогнутого штампа, образующего разнообразные комбинации треугольников. На них также могут быть углубленные орнаменты, оттиснутые выпуклым штампом: парные вертикальные оттиски, круги. Форма, состав формовочной массы, качество обжига и декор едины везде (Pegalotti, 1936). Надо полагать, что сфероконусы этой группы были тарой для ртути из самого крупного месторождения Ближнего Востока.
Известно, что ртуть в XIV в. покупали в Тебризе (Карпов, 1990). Однако это вовсе не значит, что месторождение находилось рядом: в Тебриз так или иначе попадал почти любой важный для внешней торговли товар. В «Минералогии» Бируни (XII в.) есть указание на то, что месторождения ртути находятся в области города Сис (Шиз) в Азербаджане. Это подтверждается и другими источниками. Однако к XIII в. о Шизе и его месторождениях сохранились лишь воспоминания. Видимо, в это время продолжали функционировать знаменитые месторождения Испании. Однако наибольшую известность на смежной территории получают рудники Мавереннахра. Примечательно, что Аджа'иб ад-дунйа называет вместе с ними рудники нашатыря, который тоже следовало хранить в сфероконусах. Следовательно, товары района могли характеризоваться и специфической тарой, благодаря которой шло знакомство с ними. Скорее всего, источник рассматриваемой группы находится именно в этом районе. Косвенно свидетельствует об этом и сходство цвета рядовой керамики Хорезма с окраской этой группы сфероконусов.
О том, что в окрестностях современного дунайского города Килия существовали укрепления фортификационного характера [99] в древности и средневековье, исторической науке уже было известно.
Во время археологических разведок экспедиции Ренийского музея в 1992 г. на территории Килийского порта, под западной стеной элеватора, в небольшой бухте, обнаружены остатки фортификационных сооружений. На протяжении 20 м прослеживаются 3 выхода каменных оборонительных стен. Непосредственно под элеватором видны следы стены, построенной из хорошо обработанного известняка на известковом растворе. Длина открытого участка бывшей стены по направлению С-Ю достигает 5 м. В южной части образуется угол, от которого стена уходит на восток, длина этого выхода достигает 4 м, дальше стена перекрыта забором, отделяющим порт от элеватора. Высота стены (фундамента?) 1-1,5 м.
В 4 м западней данной стены прослеживается выход другой стены, шириной до 3 м, которая сложена также на известковом растворе, только из необработанного ракушечника. В 3 м западней второго выхода зафиксирована третья, аналогичная второй стена.
Определить, характер и предназначение данных сооружений не удалось, ввиду того, что на территории порта не было санкций на проведение шурфовок. Но по характеру прилегающей территории в этом плане можно сказать следующее: в 20-22 м на юго-восток от открытых стен сохранился бывший ров длиной до 1 км, который тянется в город в виде протоки шириной до 20-25 м. Следы оборонительного вала почти не просматриваются, так как берега застроены домами. Однако на расстоянии около 1-1,5 км северо-западней стен сохранился такой же ров, который ныне перекрыт бетонной стеной от Дуная. Длина его на этом участке не более 0,8 км, ширина аналогична вышеописанному. Со стороны города ров засыпан дамбой из земли, через которую проходит мост-улица. В дамбе просматриваются обработанные камни, подобные найденным в стене. На этом участке с западной стороны канала (рва) хорошо просматриваются очертания земляного вала, максимальная высота которого не достигает 1,5 м. К сожалению, на имеющихся остатках построен городской парк. На этом участке не обнаружены выходы каменных стен, потому что данная территория тесно застроена помещениями порта и морвокзала.
В зоне открытого сооружения был собран подъемный материал, который составляет:
3 фрагмента венчиков: 2 покрытых эмалью и происходящих [100] от кувшинов; 1 фрагмент венчика, изготовленный из пасты темно-серого цвета с применением мелкого песка;
— горло кувшина с фрагментом ручки;
— носик от керамического чайника красного цвета;
— 4 фрагмента ручек эллипсовидной формы в cечении, 1 из которых покрыт зеленой эмалью;
— 15 фрагментов стенок сосуда, 4 из которых имеют зеленую поливу, 1 — с зеленовато-коричневой эмалью внутри;
— 1 фрагмент столовой посуды и 3 фрагмента плитчатых днищ.
Выделяется фрагмент диска, изготовленный из керамики кирпичного цвета, поверхность которого орнаментирована параллельными канеллюрами. Технология изготовления керамики, равно как и способ орнаментации, относится к средневековому периоду.
В заключение хочу отметить, что, по всей вероятности, мы имеем дело с остатками крепостных стен Килии, построенных в разные времена. Не исключено, что выход кладки с обработанными камнями и есть следы крепости Килия, сооруженной в конце XV в. молдавским господарем Штефаном III, о чем свидетельствует молдавская средневековая хроника. Надеемся, что необходимые раскопки нового археологического памятника на Нижнем Дунае ответят на целый ряд неясных еще вопросов, по которым будет возможно определить, на каком уровне находились связи государств и народов Европы в средневековье и, не исключено, в более древние времена.
Среди памятников монументальной живописи Боспора наиболее известен склеп Деметры I в. н. э., открытый в 1895 г. при случайных работах. Фрески этого склепа сразу же привлекли внимание специалистов, и в 1908 г. Императорская Археологическая комиссия приобретает это частное владение, чтобы склеп был доступен для обозрения.
Уже в 1914 г. М. И. Ростовцев фиксирует первое разрушение фресковой росписи —отслоение грунта на изображении Плутона. Более подробно это зафиксировано в акте 1927 г. за подписью Н. Э. Грабаря, Ю. Ю. Марти и др., где говорится об [101] «угрожающем состоянии фресковой росписи». На основании этого акта были приняты меры по укреплению красочного слоя и удалению солеобразования.
Следующая комиссия в апреле 1938 г. отметила, что кроме разрушений, фиксируемых актом 1927 г., особенно заметно солеобразование — хлопья типа снежинок, толстые пленки; были обнаружены трещины над входом и на люнетке с изображением Плутона. Причина — повышенная влажность (до 100%).
Значительные повреждения нанесены памятнику в годы войны — разрушен вход, закопчена поверхность фресок, часть изображения Деметры осыпалась. В 1945 г. склеп внимательно осмотрен специалистами, обнаружена сильная увлажненность стен, склеп на четверть метра был залит водой. Реставраторы провели значительные работы по укреплению фресок, что позволило сохранить их до наших дней.
С 1950 г. начались гидрологические исследования, а затем и инженерные работы по осушению склепа Деметры. Все это было завершено к 1959 г. — камера склепа была обведена галереей с бетонным перекрытием. Но была допущена крупная инженерная ошибка — с нижней стороны гидроизоляция отсутствовала. Из-за этой ошибки в 70-х гг. вода в склепе поднималась на 50-70 см. Изменились и гидрологические условия территории, окружающей памятник. Неподалеку был сооружен жилой массив и была засыпана балка, в восточном склоне которой находится склеп. Балка была естественной дреной для этой территории.
В результате многолетних наблюдений реставраторы Киевского реставрационного центра предложили провести ряд мероприятий по спасению живописи склепа Деметры. Первое — вывести температурно-влажностный режим на требуемые параметры. Далее — мероприятия по солеудалению, реставрации штукатурного слоя и настенной росписи. Сам склеп необходимо наново обваловать грунтом и герметизировать дверной проем, отделяющий дромос от вестибюля.
Ранняя история чугунолитейного производства в Восточной [102] Европе изучена слабо. Известно, что чугун получали в Болгаре уже в середине XIII в., и, пожалуй, это самая ранняя дата появления чугунолитейного ремесла в Европе вообще. В XIV в. чугун распространен уже гораздо шире и известен на многих золотордынcких (от Поволжья до Днестра) и южнорусских памятниках.
В Азаке, по предварительным данным, чугунные изделия появляются не позже второй четверти XIV в., и, судя по производственным остаткам и находкам бракованных изделий, по крайней мере часть чугуна получена на месте. В Азаке из чугуна отливали в основном котлы. Реже его использовали для изготовления боевых булав. Известна одна находка фрагмента чугунной «сковороды». Формы котлов весьма разнообразны: от крупных чашевидных отливок с округлым дном, находящих аналогии в Болгаре и Каракоруме, до небольших горшковидных сосудов с плоским дном, аналогии которым пока неизвестны. Все котлы имели ручки либо в виде горизонтальных плоских выступов, либо вертикальные петлевидные. По результатам визуального осмотра изделий, котлы отливали с использованием «болвана» и трехсоставной внешней формы, с применением удаляемой модели. Литник находился всегда на днище котла. Подобный способ формовки и отливки котлов применялся и в Каракоруме и в Болгаре.
Способ получения чугуна в Азаке пока не выяснен, но, судя по отсутствию в слоях города остатков крупных тиглей, пригодных для выплавки чугуна, китайский тигельный метод получения чугуна здесь исключен (Терехова, 1974). Вероятно, выплавка чугуна проводилась в сыродутых горнах, что сближает Азак в этом отношении с Болгарским городищем, где такие горны известны. В Азаке же достоверных остатков горнов с высокими шахтами пока нет.
Чугунолитейное ремесло в Азаке было ликвидировано, видимо, в 60-х гг. XIV в. в результате разрушения города во время междуусобиц. В cвязи с этим интересно появление нового чугунолитейного центра на Царином городище в Донецкой области. Там найдены многочисленные обломки чугунных отливок, отходы литья и монеты только 60–80-х гг. XIV в.
Возможно, появление этого центра связано с переселением ремесленников из разоренного Азака. [103]
По вопросам о характере польско-османских отношений во второй половине XV — XVI в., о влиянии этих отношений на внешнюю политику Польши на протяжении многих лет в польской историографии велись дискуссии. Нет единой точки зрения по этим вопросам и в настоящее время.
Рассматривая трактовку проблемы польско-османских отношений в работах польских историков, можно отметить 2 основные концепции. Первая из них особенно четко выражена в работах Л. Коланского. В ней выделяются 3 основных положения: 1. Начало польско-османского антагонизма относится ко второй половине XV в. В этот период Османская империя предпринимает экспансию на северо-восток от Дуная, вторгаясь на территории, которые являлись сферой влияния монархии Ягеллонов. 2. Османская экспансия проводилась поэтапно, была заранее спланирована и реализовывалась последовательно. 3. С середины XV в. юго-восточная политика Казимира Ягеллона была обусловлена османской опасностью.
Такой трактовки проблемы придерживался в основном и Ф. Конечный, который считал, что решающим фактором, породившим польско-османский антагонизм, было различие религий. По мнению Ф. Конечного, идея антиосманского крестового похода была основной в деятельности Казимира Ягеллона. Борьба двух центров цивилизации и религии — Кракова и Стамбула — является для историка главным элементом в политической деятельности государств Юго-Восточной Европы. К подобному мнению склоняется Б. Стахонь.
В современной историографии данная концепция развивается в работах К. Гурского и М. Бискупа. Они считают, что в последней четверти XV в. османская проблема в политике Польского государства выдвинулась на первый план. Борьбу польского короля Казимира за чешскую и венгерскую корону они связывают с интересами борьбы против османской экспансии, так как только объединенная мощь этих 3 государств могла противостоять натиску Османской империи.
Другая концепция польско-османских отношений нашла отражение в работах О. Гурки. По мнению этого ученого, Польша в силу [104] своего положения лежала вне сферы турецких возможностей и не имела никаких политических оснований для выступления против Османской империи. Хотя Польша и испытывала угрозу со стороны Турции, эта опасность не была настолько велика, чтоб определять направление польской внешней политики. Одновременно высказывается мнение, что Ягеллоны искали в Османской империи скорее опору для осуществления своих династических целей, нежели противника. О. Гурка убежден, что Ягеллоны не только не придавали значения опасности со стороны Османской империи, но даже предпринимали явные попытки сотрудничества с ней. К этой концепции примыкает трактовка польско-османских отношений в работах И. Гарбачика :и З. Кереса, которые считают, что османская проблема не оказывала решающего влияния на политику польского правительства, носившую династический характер.
К числу дискуссионных проблем относится и вопрос о крупнейшей военной акции монархии Ягеллонов — черноморской экспедиции Яна Ольбрахта в 1497 г. Цель этой экспедиции, ее направленность, планы Яна Ольбрахта, роль молдавского господаря Стефана III и короля Венгрии и Чехии Владислава II трактуются различными историками по-разному. Польские историки Ф. Конечный, А. Левицкий, Ф. Папе утверждают, что военная акция польского короля носила антиосманскую направленность. Неудачу ольбрахтовской экспедиции они связывают с враждебными действиями молдавского господаря: польский король стремился к совместному с ним походу против османов, и только переход Стефана на сторону султана вынудил короля выступить против Молдавии.
Другой подход в оценке военной экпедиции Яна Ольбрахта находим в работах С. Лукаса, Ф. Бостеля, А. Божемского, А. Яблоновского, О. Гурки. Они считают, что Ольбрахт вообще не помышлял о походе на османов, а использовал антиосманские лозунги, чтобы завладеть Молдавией, изгнать из нее Стефана и посадить на молдавский престол своего брата Сигизмунда. По мнению А. Божемского, эта антимолдавская политика ведет свое начало от короля Казимира, который стремился к присоединению Молдавии к Польше.
Еще один аспект проблемы польско-османских отношений, который активно обсуждался польскими историками в 1980-х гг.: была ли Польша бастионом христианства. Понятие «бастион христианства» возникло на стыке двух миров — христианского и исламского. Польша, согласно этому [105] понятию, в течение трех столетий (XV—XVII) выполняла роль защитника христианской Европы от исламских стран, прежде всего Османской империй, а также ее вассала Крымского ханства. Польские историки, исследовавшие эту проблему, пришли к выводу, что понятие бастион христианства и идеология, основанная на нем, носили в целом пропагандистский характер и диктовались определенными политическими целями: способствовать росту авторитета польского государства на международной арене, нейтрализовать распространяемые Орденом слухи о сотрудничестве Польши с турками против христиан, создать предпосылки для получения финансовой и военной помощи от папы римского и европейских государств.
В XV — начале XVII в. на Адриатике активно действовали ускоки — «морские разбойники», состоявшие из хорватов, сербов, боснийцев и представителей ряда других народов. Главными объектами их нападений были суда и поселения Османской империи. Даже при поверхностном знакомстве с историей ускоков, характерными чертами и особенностями их действий, бросается в глаза большое сходство ускоков, с одной стороны, и запорожских и донских казаков, с другой.
Параллель между теми и другими недвусмысленно проводили современники ускоков и вольных запорожцев и донцов («Хроника» Бельского, доведенная до 1598 г. сыном автора, умершего в 1576 г.; мнение польского короля Сигизмунда III; реляция венецианского посланника в Польше 1592 г. Дуодо; итальянское «Описание Польского королевства, сочиненное в 1624 году»). На сходство ускоков и казаков обратили внимание некоторые дореволюционные историки (Маркушев, 1876; Липовский, 1902; Дашкевич, 1904). Правда, за исключением Липовского, они ограничились лишь краткими замечаниями. С тех пор проблема не изучалась.
В плане изучения истории международных отношений в Средиземноморье и освободительной антиосманской борьбы различных его народов представляется важным и полезным провести исследование, посвященное ускоко-казачьим параллелям. [106]
Элементы сходства обнаруживаются:
— в особенностях этнического формирования ускоков и казаков;
— в организации их сообществ;
— в социальных интересах и целях ускоков и казаков;
— в тактике их военно-морских действий, приемах взятия судов и населенных пунктов;
— в устройстве применявшихся ускоками и казаками судов;
— в отношении к ускокам и казакам соседних государств и народов.
Причины упомянутого сходства, видимо, надо искать в принципиально одних и тех же для ускоков и казаков условиях формирования и деятельности, театре военных действий и неприятеле. Прямые контакты между ускоками и казаками неизвестны; факты присутствия югославян в составе запорожского и донского казачества отмечаются несколько позже прекращения деятельности ускоков.
В XVI в. с образованием централизованного Российского государства происходит активизация его внешней политики на Востоке. Одной из целей была борьба с татарскими ханствами — Крымским и Казанским, как для обороны от их набегов, так и ради расширения землевладения русских феодалов за счет новых территорий на юге и востоке. Другой задачей России был выход к Балтийскому и Каспийскому морям. Эти цели внешней политики России сталкивали интересы русского правительства с завоевательными устремлениями Оттоманской Порты и Крыма. Именно в этой обстановке и активизировались политические связи ногайцев с Россией.
В 1521 г. казанский и крымский ханы совершили объединенный поход на Москву. Крымский хан Мухаммед-Гирей предложил принять участие в этом походе и астраханскому хану Джанибеку. Однако ногайцы его свергли, на его место [107] стал новый хан Хусейн, сторонник ногайцев, который отказался участвовать в походе Мухаммед-Гирея. За этот отказ крымские татары объявили войну астраханскому хану.
Масштабы войны 1521 г. и ее особая опасность для России объясняются тем, что в ней в качестве врагов российского государства участвовали не только оба татарских ханства, но также и Литва.
Военные действия, начавшись в июле 1521 г., закончились в августе. Поспешный уход Мухаммед-Гирея в Крым объясняется не только стремлением избежать ответного удара со стороны русских сил и переправить в Крым огромную военную добычу, но и получением известий о нападении на Крымское ханство астраханцев, использовавших благоприятную обстановку в связи с уходом из Крыма главных военных сил. Первоначальный план Мухаммед-Гирея, однако, предусматривал повторный поход на Россию осенью 1521 г. Но он не был осуществлен, как не было похода на Москву и в 1522 г., хотя российское правительство всю весну и лето ожидало возможного нападения крымского хана. Этот «перерыв» в ходе активной борьбы между Крымом и Россией можно объяснить, в частности, энергичными военными мероприятиями правительства Василия III, а также изменением международной обстановки в пользу России в связи с началом переговоров о перемирии между Россией и Литвой. Изменению направления активной политики крымского хана способствовало также и новое обострение отношений между Крымом и Астраханью в связи с набегом астраханцев на Крым и смертью в 1521 г. астраханского хана Джанибека. Последнее обстоятельство создало особо благоприятную обстановку для осуществления давнишнего стремления Крыма — подчинить своей власти Астрахань.
Однако ход событий оказался совсем иным, чем предполагал крымский хан, и привел к существенным изменениям в международной обстановке Восточной Европы, создав, между прочим, предпосылки для активизации политики России по отношению к Казанскому ханству.
Весной 1523 г. Мухаммед-Гирею, опиравшемуся на поддержку ряда ногайских князей во главе с Ших-Мамаем, удалось захватить Астрахань, изгнав оттуда хана Хусейна, сторонника Москвы. Это было крупным политическим успехом, ибо с утверждением в Казани Сагиб-Гирея и захватом Астрахани все татарские государства оказывались объединенными под верховенством крымских гиреев, опиравшихся в свою [108] очередь на Турцию. Однако успех крымского хана оказался очень непрочным. Противоречия между ногайскими феодалами и Крымским ханством были слишком значительны, и распространение сферы влияния Крыма на Астрахань не ослабляло, а, напротив, еще более обостряло их. Пребывание же Мухаммед-Гирея в Астрахани создавало благоприятную обстановку для нападения на него. Эта обстановка и была использована ногайскими биями. В результате внезапного нападения ногайцев крымский хан был убит, и была также уничтожена значительная часть войска, находившегося с ним в Астрахани. Разгром крымцев в Астрахани сопровождался походом ногайцев в Крым, причем «бог пособил нагаем», как сообщил в письме Василию III азовский бек, «и досталь силу крымскую побили».
Крах астраханской политики Мухаммед-Гирея имел своим последствием, кроме разорения Крыма ногайцами, длительную феодальную усобицу, вызванную борьбой за власть крымских феодалов, в свою очередь использованную Оттоманской Портой для укрепления своего политического влияния в Крымском ханстве. Захвативший власть после убийства Мухаммед-Гирея и провозгласивший себя крымским ханом Азы-Гирей не был признан султаном, пославшим в Крым одного из царевичей, принадлежавших к враждебной Мухаммед-Гирею группировке Сеадет-Гирея. Сеадет-Гирей, опираясь на прибывшее с ним султанское войско, предал казни Азы-Гирея и расправился с враждебно настроенными по отношению к нему крымскими князьями и мурзами.
В области внешнеполитических отношений действия Сеадет-Гирея определялись той исключительно сложной для Крыма международной обстановкой, которая сложилась в 1523 г. События в Астраханском ханстве требовали скорейшего урегулирования отношений с Астраханью; не менее остро стоял вопрос о борьбе с ногайскими биями, продолжавшими угрожать нападением на Крымское ханство; столь же реальной была опасность и со стороны Литвы. Наконец, продолжал сохранять свое первостепенное значение для Крыма вопрос казанский и тесно связанный с ним вопрос об отношениях с Россией.
К лету 1524 г. крымскому хану Сеадет-Гирею удалось добиться временного улучшения отношений с ногайцами дипломатическими путями. [109]
С древних времен бассейн Черного моря был одним из важных районов мировой торговли. В период позднего средневековья купцы многих городов Украины поддерживали тесные связи с городами Востока, где торговали товарами местного и западноевропейского производства. Восточные купцы посещали украинские города, продавая здесь свои товары.
Эти связи частично освещены в ряде документальных публикаций, немало документов использовано в работах исследовательского характера. Однако значительное количество архивных материалов, в которых имеются сведения о торговле в бассейне Черного моря, до настоящего времени не введено в научный оборот.
В связи с условиями исторического развития украинских городов источники, освещающие состояние их торговли с Востоком в XVI — первой половине XVII в., сохранились неравномерно. Лучше сохранились документы, хранящиеся в ЦГИА Украины в г. Львове.
Среди вновь выявленных документов наиболее ценные материалы по истории торговли в бассейне Черного моря сосредоточены в фонде № 52 «Магистрат г. Львова», в котором отложены актовые книги львовских городских учреждений. В первую очередь следует выделить акты Армянского суда, где сосредоточены ценные материалы о торговле львовских армянских купцов с городами Востока. Львовские армяне, занимавшие господствующие позиции в восточной торговле, имели свой суд, рассматривавший спорные вопросы между ними. Здесь же рассматривались судебные конфликты львовских армян с восточными купцами, прибывшими из Османской империи и Ирана. Материалы XVI — первой половины XVII в. помещены в 15 актовых книгах (№ 513-527), написаны они на латинском и старопольском языках.
Ценные сведения о торговых связях львовских купцов с Ираном имеются в актовых книгах Войтовского суда. Документы за 1500—1650 гг. отложены в 26 актовых книгах (№ 377-402). Особенно интересный материал помещен в актовых книгах № 397 и № 398. В них имеются данные о содержании [110] торговых договоров с купцами Ирана, условиях торговли, перечислены товары, которыми торговали купцы, есть другие важные сведения. Среди обнаруженных материалов больше всего представлены судебные постановления и решения, протесты и жалобы купцов. Среди документов имеются записи договоров между купцами, расписки о взятых кредитах и уплате долгов, показания свидетелей, отчеты и показания торговых агентов и приказчиков, которые часто бывали на Востоке, выполняя поручения купцов.
Интересные материалы сосредоточены в актовых книгах Лавничего суда. Здесь отложены записи договоров между купцами средиземноморских островов и украинских городов, материалы деятельности объединений греческих купцов по организации торговли греческими винами, сведения о транспортировке вина во Львов. Особенно много сведений о торговых связях греческих городов с городами Украины помещено в актовых книгах № 247 и № 248. Они свидетельствуют об активном торговом движении в западном районе Черного моря, о наличии тесных связей между островами Критом, Хиосом и дунайскими портами Килией, Измаилом и Рени, в которых были устроены склады греческого вина. Отсюда гужевым транспортом вино перевозилось во Львов. Как свидетельствуют архивные документы, торговля греческим вином со Львовом особенно активизировалась во второй половине XVI — начале XVII в.
Среди документов Лавничего суда обнаружена запись грамоты турецкого султана Амурата, выданной по просьбе польского посла львовскому купцу Андрею Симоновичу на право безмытного вывоза из Константинополя 200 куф греческого вина. Это свидетельствует об участии в торговле официальных польских лиц (из 200 куф вина послу принадлежало 160).
Анализ архивных материалов дает возможность изучить основные торговые пути, ведшие из Львова в города Турции и Ирана. При совершении торговых поездок купцы пользовались сухопутными и морскими путями. При этом интенсивно использовались морские пути, купцы пересекали Черное море в разных направлениях. Особенно активное движение наблюдалось на морских путях Западного Черноморья. Постоянное движение происходило на морских линиях, связывающих Западное Причерноморье с Трапезундом, бывшим морскими воротами для Ирана. Важное значение в торговле с Трапезундом имели города Северного Причерноморья Белгород и Кафа. [111]
Пользуясь сухопутными путями, купцы украинских городов везли свои товары в Константинополь, Бурсу, Ангурию и другие города Турецкой империи. Отсюда через города Южного Причерноморья Амасью, Токат, Сивас, Эрзинджан, Ван купцы направлялись в Тебриз, Кашан, Исфаган и другие города Ирана. Как свидетельствуют архивные материалы, особенно активизировались торговые связи Львова с Ираном во второй четверти XVII в.
Документы архива хранят детальные сведения о товарах, которыми торговали купцы обеих сторон. Значительная информация о восточных товарах имеется в отчетах торговых агентов. Например, в отчете Вартыка Захариасовича Андрею Торосовичу в 1603 г. указано наименование товаров, их количество и стоимость. Отчитываясь перед купцом о своей поездке, торговый агент указывал, где куплен товар и внесены пошлины и прочие оплаты, имеются другие сведения.
Материалы архива дают возможность изучить основные формы купеческих объединений турецких и иранских купцов, торговавших в городах Украины и Польши, а также объединений львовских купцов, торговавших на Востоке. Кроме того, документы свидетельствуют о существовании совместных объединений львовских купцов с купцами Востока.
Архивные материалы содержат ценные сведения о развитии кредитных отношений в торговле. Имеется значительное количество расписок, обязательств и других документов, свидетельствующих о предоставлении кредитов львовским купцам, указаны условия предоставления, способы решения финансовых конфликтов. Правительства Турции и особенно Польши были заинтересованы в развитии торговли, о чем свидетельствует содержание польско-турецких договоров. Многие статьи этих договоров обеспечивают права купцов, гарантируют безопасные условия их торговли. Среди материалов Армянского суда обнаружены записи двух королевских мандатов, выданных турецким купцам в 1602 и 1624 гг. для оказании помощи в возвращении предоставленных львовским купцам кредитов. Имеются также письма армянского католикоса Ирана к армянскому епископу Львова Николаю Торосовичу, в которых католикос просит помочь иранским купцам вернуть долги, взятые Львовскими армянами.
Изучение архивных материалов дает ценные сведения о способах транспортировки товаров, стоимости их перевозки, уплате [112] пошлин, их размерах, внесении других дополнительных оплат.
Материалы архива содержат сведения об организации перевозки товаров, о размерах купеческих караванов, отправлявшихся из Львова на Восток. Например, в 1614 г. из Львова отправился караван, в котором находилось 26 купцов, в 1615 г. на Восток выехал караван из 27 купцов. Вместе с извозчиками, слугами и охраной в караванах насчитывалось 100-150 человек.
Таким образом, документы, хранящиеся в ЦГИА Украины в г. Львове, являются ценным источником по истории торговли в бассейне Черного моря в период позднего средневековья. Широкое использование этих документов даст возможность более полно изучить развитие международной торговли на одном из ее малоизученных направлениях, глубже осветить развитие политических взаимоотношений между странами Черноморского региона в связи с активизацией торговли.
При ознакомлении с литературой, посвященной или касающейся темы Азовской эпопеи 1637—1642 гг., нельзя не заметить, что исследователи приводят разные даты одного и того же события — начала осады Азовской крепости и засевшего там казачьего гарнизона османо-крымской армией: 7 июня и 24 июня 1641 г.
Ближайшие к событию источники однозначно указывают на 24 июня 1641 г. как на дату начала осады. Это сообщение валуйского воеводы Ф. И. Голенищева-Кутузова от 3 июля 1641 г., сообщение воронежского воеводы А. И. Солнцева-Засекина от 6 июля 1641 г., распроссные речи в Посольском приказе 11 июля 1641 г. атамана Лукьянова и казаков его станицы. В «Поэтической повести об Азовском осадном сидении» сами казаки прямо называют 24 июня 1641 г. в качестве начала осады Азова турецко-татарской армией.
Откуда же взялась другая дата начала осады?
В царской грамоте на Дон от 24 декабря 1641 г. появляется уже 7 июня 1641 г. как начало осады Азова. В сообщении [113] о посылке из Москвы А. Желябужского и О. Башмакова в Азов для осмотра крепостных сооружений от 8 марта 1642 г. также приводится дата 7 июня 1641 г. в качестве начала осады. Источник здесь один — войсковая отписка донцов, присланная в Москву 28 октября 1641 г. При этом сама отписка опубликована не была, а лишь пересказывается в вышеупомянутых документах.
Почти все исследователи, описывая события осады Азова 1641 г., не пытаются выяснить причину расхождения в источниках в отношении даты начала осады, принимают источники не критически. Неубедительны, на мой взгляд, и попытки совместить обе даты — 7 и 24 июня 1641 г.
Какой же можно сделать вывод? Безусловно, действительная дата начала осады Азовской крепости османо-крымской армией в 1641 г. — 24 июня. Дата 7 июня — ошибочна. Но практически невозможно выяснить, каким образом возникла эта ошибка: небрежность ли в переписке писцов Посольского приказа или же здесь ошибочная версия информаторов московского правительства? Ведь сам «первоисточник» ошибки — войсковая отписка донцов 28 октября 1641 г. — не опубликован и, возможно, уже не существует.
В системе сложных и противоречивых международных взаимоотношений в Причерноморье в средние века определенный отрицательный баланс приходился на развитие в регионе работорговли.
Северо-Восточный Кавказ издревле был связан с Причерноморьем и являлся поставщиком «живого товара» на невольничьи рынки Черноморского побережья, откуда он поступал не только на Ближний Восток, но в древности и в некоторые страны Западной Европы (Италия).
Вопрос о работорговле на Северо-Восточном Кавказе, объеме транзита «живого товара» в Причерноморье, степени участия в этом процессе дагестанцев — одна из слабоосвещенных страниц историографии Кавказа, требующая серьезного изучения. [114]
Непрекращающиеся феодальные междуусобицы, политическая нестабильность в регионе, огромный спрос и высокие цены на «живой товар» содействовали процветанию в Дагестане в позднем средневековье работорговли.
Как известно, в Дагестане внешний источник рабства был основным и главным. Феодальными владетелями, организовывались, в сущности, коммерческие предприятия — охота за людьми с целью работорговли или выкупа. Таким образом, контингент рабов, поставляемых на невольничьи рынки Дагестана, пополнялся в основном за счет пленников-христиан «мужска и женска полу природы из Грузии ясырей». Основными покупателями ясырей выступали турецкие и крымские купцы, связанные узами куначества с феодальными владетелями Большой и Малой Кабарды, Чечни и Дагестана, через которых они приобретали ценный «живой товар».
Одним из значительных центров работорговли на Северо-Восточном Кавказе являлось селение Эндери. Кизлярский комендант А. И. Ахвердов в 1804 г. сообщал: «Деревня сия есть всему кавказскому народу ворота, ведущие на плоскость, в которую из всех мест лезгины (дагестанцы), в Кавказе внутри живущие чеченцы и протчие народы достатых ими в плен разных людей приводят на продажу... Сим ремеслом, перекупкою и продажею пленных андреевцы (эндерийцы. — Авт.) довольно обогатели. Часть же пленных самых лучших обоего пола дают андреевцы приезжающим из Константинополя и Анапы туркам и жидам, а иногда и сами доставляют в Константинополь и продают там за великие деньги». Это сообщение позволяет проследить в общих чертах и трассу перемещения «дагестанских» рабов, которых везли по так называемой «османовской дороге» в Анапу, а оттуда пераправляли в Константинополь. С. Броневский называет Эндери «главною ярморкою для торга пленными», откуда они перепродаются в турецкие пристани на Черном море. Как свидетельствует архивный документ, в 1783 г. турецкие купцы из г. Кобана через Кубань, Большую и Малую Кабарду добрались до Эндери с целью закупки большой партии ясырей.
Живой товар можно было приобрести в древнем центре работорговли — Дербенте, в Тарках, Аксае. Вплоть до XIX в. селение Джар являлось одним из значительнейших невольничьих рынков на Кавказе.
Кизлярский комендантский архив (ЦГА РД) дает многочисленные и интересные данные о высоких ценах на ясырей на невольничьих рынках Дагестана, что, вероятно, можно [115] объяснить большим спросом со стороны кабардинских феодальных владетелей, имевших крупные прибыли от перепродажи невольников турецким и крымским купцам, а также со стороны самих купцов, которые беспрепятственно добирались до центров работорговли в Дагестане.
Российская администрация на Кавказе еще в XVIII в. делала все от нее зависящее, чтобы пресечь торговлю «живым товаром», кизлярский комендант имел специальные денежные средства для выкупа рабов — христиан, особенно русских невольников. По существовавшим правилам, ясыри из христиан, которым удавалось бежать под покровительством кизлярского коменданта, не подлежали возвращению владельцам. В том случае, если владельцы были поддаными России, им выплачивалась компенсация — кабардинцам 50 руб., кумыкам 25, «а не подданым платы производить не велено», как говорится в архивном документе.
В начале XIX в. работорговля в Причерноморье продолжала процветать, особенно в прибрежных районах Северо-Западного Кавказа, где постоянное присутствие крымских и османских работорговцев обеспечивало быструю возможность реализации «живого товара». Как сообщал Хан-Гирей, черкесские работорговцы возили много пленников в Анапу и Суджух-кале и там обменивали их на товары и предметы роскоши, поступавшие из Турции.
В 1800 г. разъездной казачьей командой за р. Тереком были выручены невольники, принадлежавшие аварской ханше Гихим-бике, во время их доставки для продажи в Анапу. Позже русский корвет «Крым» захватил принадлежавшее Порте судно, на борту которого было много горцев, препровождавшихся на невольничий рынок в Константинополь.
В 1804 г. было обнародовано постановление русского правительства, категорически запрещавшее работорговлю на Черноморском побережье, в Эндери и других невольничьих рынках Центрального и Северо-Восточного Кавказа. Главнокомандующий на Кавказе А. П. Ермолов доносил, что «учредил кр. Внезапную и тем, утвердив сел. Андрей, прекратил производящийся в нем торг» ясырями. Предпринятые правительством России решительные меры намного сократили, но окончательно не ликвидировали работорговлю. По всему Черноморскому побережью продолжалась бойкая торговля пленниками — горцами Кавказа.
По окончании русско-турецкой войны 1826—1829 гг. и подписании Андрианопольского мира русское правительство объявило [116] о запрещении работорговли в Черномории. Однако фактически работорговля не прекратилась, только стала вестись контрабандным путем.
Проблема охраны памятников археологии в Ростовской области приобретает особую актуальность в связи с большими масштабами промышленного и гражданского строительства и процессами приватизации земли в аграрном секторе экономики на территории Нижнего Дона. В результате земельной реформы происходит дробление земельных площадей с находящимися на них памятниками археологии на земельные участки, передаваемые в собственность коллективов или отдельных лиц, что значительно усложняет охрану памятников на местах. Этот процесс увеличивает вероятность умышленного разрушения памятников археологии со стороны новых собственников земельных площадей. К тому же все памятники археологии, расположенные на полях, ежегодно подвергаются интенсивной распашке и разрушению.
В результате отвода земель под индивидуальное строительство и садово-огородные участки тяжелое положение сложилось с Ливенцовским археологическим комплексом, расположенным на западной окраине г. Ростов-на-Дону, и на Семеновской крепости в Неклиновском районе, с Беглицким археологическим комплексом и Елизаветовским городищем.
Особенно страдают памятники археологии, расположенные в черте промышленных городов. Так, в результате строительства ливневого коллектора по улице Большая Садовая в г. Ростове-на-Дону был разрушен участок грунтового могильника Темерницкого городища I—III в. н. э., в результате незаконного выделения земельного участка под строительство административного здания предприятию «Мир» — участок грунтового могильника Кобякова городища в п. Александровка. И таких случаев много.
Большую помощь в решении проблемы охраны памятников археологии в Ростовской области призвана оказывать инвентаризация памятников, осуществляемая областным департаментом культуры и искусства — государственным органом [117] охраны памятников — по программе «Наследие». Основные задачи инвентаризации:
— Выявление памятников археологии в Ростовской области, составление общего свода памятников (ранее известных, вновь выявленных и тех, которые еще будут выявляться), подготовка на них документации (учетных карточек и археологических карт).
— Выделение из общего массива земель историко-культурного назначения и занесение их в земельный кадастр, определение их границы, порядка использования, режима содержания.
— Постановка памятников археологии Ростовской области на государственную охрану.
— Заключение с новыми собственниками земель охранных обязательств на те памятники археологии, которые попадают на их земли.
По результатам инвентаризации к концу декабря 1993 г. департаменту была представлена документация на памятники археологии по 13 районам Ростовской области общей площадью 28694 км2 (из общего массива земель, равного 100,8 тыс. км2). Общее количество памятников археологии по 13 районам составило 3276. Из них 2839 курганных могильников и 437 других видов памятников (городищ, поселений, стоянок, местонахождений).
Для решения проблемы охраны памятников большую роль должно играть обязательное согласование районными комитетами по земельным ресурсам и землеустройству с областным департаментом культуры и искусства отвод земель для строительных и других работ, создающих угрозу разрушения памятников. По данным инвентаризации департамент составляет списки земельных собственников, которым переданы те или иные участки земли с находящимися на них памятниками археологии. С этими собственниками департамент будет заключать охранные обязательства на те памятники археологии, которые попадают на их земли.
Актуальной является проблема выведения земель историко-культурного назначения из сельхозоборота. На сегодняшний день все земли историко-культурного назначения подвергаются ежегодной интенсивной распашке. По ориентировочным подсчетам, общая площадь земель историко-культурного назначения по Ростовской области должна составить около 100 тыс. га, или 1000 км2, что равно площади Багаевского района. [118]
Поскольку в связи с земельной реформой появился новый тип земледельца-собственника (фермера), не обладающего достаточными финансовыми средствами на оплату полного археологического исследования памятника, расположенного на его земле и подвергающегося разрушению, департамент ведет переговоры с главами районных администраций (в частности, в Неклиновском районе) по вопросу о выделении последними части финансовых средств из фонда земельного налога. Таким образом, можно было бы решить проблему освобождения земельной площади из-под памятников археологии с целью передачи этих земель для сельхозиспользования без всяких ограничений. Не решена проблема контроля со стороны департамента за состоянием памятников археологии на местах. Для ее решения целесообразно было бы привлекать к сотрудничеству с департаментом местных краеведов, учителей школ, казачьи комитеты, т. е. лиц, заинтересованных в сохранении культурно-исторического наследия в своих районах.
Решение этих вопросов поможет решить основные проблемы, связанные с охраной памятников археологии в Ростовской области. [119]
1) Искренне признателен С.Ю. Монахову, указавшему на аналогичные амфоры, происходящие из этрусских склепов.
2) Определение хронологии амфоры из Хапровского кургана было сделано И. Б. Брашинским в июле 1979 г. в личной беседе с автором доклада.
3) В сборнике «по иволению». OCR.
Написать нам: halgar@xlegio.ru